= % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = %
Иллюстрация временная, из моих более или менее подходящих по настроению отсканированных рисунков, набросанных на лист в той стандартной программе, которая сейчас доступна. Со временем я сделаю другую иллюстрацию специально к повествованию.
Публикация еще далеко не готова, однако, что прочитать - уже есть. Впоследствии будут продолжения, будет редактирование и, конечно, сокращения. Когда появится окончательный вариант, я сообщу, что он окончательный.
Я начинаю публиковать эту повесть "раньше времени" из опасений, что можно часом невзначай помереть, так и не успев ничего сказать. (Конкретных предпосылок к такому повороту событий нет, но я знаю, что говорю.)
Пусть уж в любом случае будет хоть что-то. Мне будет спокойнее и, как сейчас говорят, комфортнее. Отклики на этот неготовый вариант необязательны.
1 часть повести автобиографична и фантастики как таковой не содержит. Собственно фантастика и выдуманные персонажи появляются здесь со второй части, но все воспоминания и рассказы героини - так же автобиографичны.
Продолжение повести - в произведении
"Вспышка. Продолжение фантастического повествования",
http://www.proza.ru/2014/03/19/1127 ,
Части 5, 6 и 7.
Содержание фантастической завязки повести изложено в произведении
"Вспышка. Краткое содержание фантастической завязки",
http://www.proza.ru/2014/01/29/1872 , -
а также есть произведение
"Дневниковые намётки к продолжению «Вспышки»",
http://www.proza.ru/2014/01/29/1808 .
= % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = %
___________________________________________________
http://www.stihi.ru/2014/12/17/7174
Статистика произведения на 01.02.2015:
Текущее произведение находится в сборнике
«"Вспышка". Фантастическое повествование. Полностью»,
состоящем из пяти произведений.
В текущем произведении – 4 части,
слов - 116 796,
знаков без пробелов - 654 603,
знаков с пробелами – 786 914.
Чтобы подсчитать слова и знаки, текст произведения необходимо выделить
(от первой буквы названия, включая имя автора и – до конца, включая три последние точки после нескольких пробелов в самом конце), скопировать (Ctrl + C), вставить в Word (Ctrl + V) и посмотреть Статистику Текста (как правило, в Рецензировании или, в более ранних версиях, в других пунктах меню).
Далее на авторской странице расположен сборник
«"Вспышка". Фантастическое повествование. По частям»,
где удобно просмотреть отдельные части.
___________________________________________________
СОДЕРЖАНИЕ:
— Посвящение
— Документальное предисловие в трёх частях
— Список использованной литературы (продолжающийся)
— Предисловие автора
— «ВСПЫШКА» (фантастическое повествование),
ПОСВЯЩЕНИЕ
Я бы посвятила это повествование лучшим из тех, тогдашних, которые действительно очень хороши, но существуют, увы, только в моём воображении.
Мне хочется посвятить его незнакомым, сегодняшним, здешним, — если бы хоть кто-нибудь ещё остался, хоть кто-нибудь!.. Я бы и ОБРАТИЛАСЬ этим повествованием к ним же. Только было бы ещё, к кому.
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
1.
Ещё в апреле 1945 г., в бытность сотрудником УСС США и его резидентом в Европе, будущий директор ЦРУ Аллен Даллес негласно составил ориентировочный план мероприятий США в отношении будущего СССР и России, с которым был, скорее всего, знаком уже Ю. В. Андропов, когда он заступил на пост Председателя КГБ СССР. Даллес писал:
«Окончится война, всё как-то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, — всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Посеяв там [в СССР, в России] хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников в самой России… Мы будем браться за людей с детских, с юношеских лет, главную ставку будем делать на молодёжь. Станем разлагать, развращать, растлевать её… Эпизод за эпизодом будет развиваться грандиозная по своему масштабу трагедия самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания…
Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности.
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться. Хамство и наглость, пьянство и наркоманию, ложь и обман, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, — всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветёт махровым цветом…
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением».
Андропов уже знал, что спецслужбы США активно воплощали это «завещание» Даллеса в жизнь.
(См.: Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. М., 2003, с. 90-91.
и также Хлобустов О. Неизвестный Андропов. М., 2009, с. 223-224.
В указанных книгах варианты приведённой цитаты различаются, но не существенно. Можно также посмотреть указанное в библиографии Лисичкина и Шелепина: Петрунин С. План Даллеса сработал и без Даллеса // Дуэль. 1988. № 24.
В приложениях и комментариях книги Хлобустова на с. 596-602 есть упоминание о статье М. Дейча «Зловещий «план Даллеса», опубликованной в «МК» 20 января 2005 года, где автор ставит под сомнение подлинность данного текста. Интересующиеся могут обратиться к указанным страницам книги «Неизвестный Андропов», а от себя могу сказать, что в любом случае существует такое множество других подлинных документов, свидетельствующих о существовании подобных планов уже в те времена, и подобной тактике ведения психологической войны (некоторые будут представлены в этом списке), столько прямых и косвенных подтверждений существования именно такого «Плана», что вопрос о достоверности этого конкретного документа в любом случае выглядит второстепенным.
Из общеизвестного уже в советское время можно вспомнить советский фильм «Конец операции резидент», где в финале разоблачается очередной американский план ядерной бомбардировки СССР (видимо, это перекликается с опубликованным в Нью-Йорке в 1978 году планом массированной ядерной бомбардировки СССР в 1957 году «Dropshot») и среди прочего прямо заявляется о ведении психологической войны. Психологическая война могла быть только такой, — это общеизвестно и других вариантов просто не существует.)
2.
Выдержки из директивы 20/1 СНБ США от 18 августа 1948 года «Цели США в войне против России». Впервые опубликована в США в 1978 г.:
«Правительство вынуждено в интересах развернувшейся ныне политической войны наметить более определённые и воинственные цели в отношении России уже теперь, в мирное время, чем было необходимо в отношении Германии и Японии ещё до начала военных действий с ними... При государственном планировании ныне, до возникновения войны, следует определить наши цели, достижимые как во время мира, так и во время войны, сократив до минимума разрыв между ними.
Наши основные цели в отношении России, в сущности, сводятся всего к двум:
а) свести до минимума мощь и влияние Москвы;
б) провести коренные изменения в теории и практике внешней политики, которых придерживается правительство, стоящее у власти в России.
<...> МЫ НЕ СВЯЗАНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫМ СРОКОМ для строгого чередования войны и мира, что побуждало бы нас заявить: мы должны достичь наших целей в мирное время к такой-то дате или «прибегнем к другим средствам...».
<...> Не наше дело раздумывать над внутренними последствиями, к каким может привести принятие такого рода концепций в другой стране, равным образом мы не должны думать, что несём хоть какую-нибудь ответственность за эти события... Наше дело работать и добиваться того, чтобы там свершились внутренние события... Как правительство мы не несём ответственности и за внутренние условия в России...
Нашей целью во время мира является свержение Советского правительства. <...> Если действительно возникнет обстановка, к созданию которой мы направляем наши усилия в мирное время, и она окажется невыносимой для сохранения внутренней системы правления в СССР, что заставит советское правительство исчезнуть со сцены, мы не должны сожалеть по поводу случившегося, однако мы НЕ ВОЗЬМЁМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, что добивались или осуществили это.
Речь идёт прежде всего о том, чтобы сделать и держать Советский Союз слабым в политическом, военном и психологическом отношении по сравнению с внешними силами, находящимися вне пределов его контроля.
Мы должны, прежде всего, исходить из того, что для нас не будет выгодным или практически осуществимым полностью оккупировать всю территорию Советского Союза, установив на ней нашу временную администрацию. Это невозможно как ввиду обширности территории, так и численности населения... Иными словами, не следует надеяться достичь полного осуществления нашей воли на русской территории, как мы пытались сделать это в Германии и Японии. <...>
Так какие цели мы должны искать в отношении любой некоммунистической власти, которая может возникнуть на части или всей русской территории в результате событий войны? Следует со всей силой подчеркнуть, что независимо от идеологической основы любого такого некоммунистического режима и независимо от того, в какой мере он будет готов на словах воздавать хвалу демократии и либерализму, мы должны добиться осуществления наших целей, вытекающих из уже упомянутых требований. Другими словами, мы должны создавать автоматические гарантии, обеспечивающие, чтобы даже некоммунистический и номинально дружественный к нам режим:
а) не имел большой военной мощи;
б) в экономическом отношении сильно зависел от внешнего мира;
в) не имел серьёзной власти над главными национальными меньшинствами;
г) не установил ничего похожего на железный занавес.
<...>»
(Например, см.: Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. М., 2003, с. 84-89.)
«Особенно стоит отметить два ключевых положения из директивы 20/1:
1. «Однако мы не возьмём на себя ответственность за то, что добивались или осуществляли это». Т.е. нигде не должна прослеживаться связь между США и их пятой колонной в СССР.
2. «Мы не связаны с определённым сроком».
Как уже говорилось в первой главе, характерное время коренных изменений общественного сознания порядка 40 лет. В данном случае это срок, когда начнут уходить от дел фронтовики — ветераны войны. Именно к этому сроку, к 80-м годам, и должен быть приурочен час «икс», когда начнётся разрушение СССР».
(См. там же, с. 91.)
3.
По утверждению доктора психологических наук Ю. В. Громыко мир вступил в новый этап борьбы — конкуренцию форм организации сознаний, где предметом поражения и уничтожения являются определённые типы сознаний. (Консциентальная война, консциентальное оружие.)
В результате консциентальной войны определённые типы сознаний должны быть уничтожены, а носители этих сознаний, наоборот, могут быть сохранены, если они откажутся от определённых форм сознания.
В настоящий момент эта конкуренция и борьба принимает тотальный характер.
Уничтожение определённых типов сознания предполагает разрушение и переорганизацию общностей, которые конституируют данный тип сознания. Если сделать так, чтобы сознание нации распалось и развалилось как структура, как субстанция, то с оставшимися биоидами можно будет делать всё, что угодно: включать их в другие искусственно конструируемые фиктивные этносы, задавать им другие цели и т.д.
Генетическое оружие грозит человечеству вырождением. Психофизическое оружие — это барьер на пути духовного совершенствования человечества, что чревато деградацией, а значит, опять неизбежным вырождением.
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПОРАЖЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ в консциентальной борьбе:
1) Поражение нейро-мозгового субстрата, снижающее уровень функционирования сознания с помощью химических веществ, длительного отравления воздуха, пищи, направленных радиационных воздействий;
2) Понижение уровня организации информационно-коммуникативной среды на основе её дезинтеграции и примитивизации, в которой функционирует и «живёт» сознание;
3) Оккультное воздействие на организацию сознания на основе направленной передачи мыслеформ субъекту поражения;
4) Специальная организация и распространение по каналам коммуникации образов и текстов, которые разрушают работу сознания (условно м.б. обозначено как психотронное оружие);
5) Разрушение способов и форм идентификации личности по отношению к фальсифицированным общностям, приводящее к смене форм самоопределения и к деперсонализации.
Результат применения консциентального оружия — разрушение народа и превращение его в население. Современная война становится во всё большей мере войной на поражение и разрушение сознания противника, и консолидацию сознания собственного народа.
(См.: Прокофьев В. Ф. Тайное оружие информационной войны. Атака на подсознание. М., 2003, с. 90-91 и 139-146.)
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(Список будет продолжаться по мере публикации повествования.
Литература указана в том порядке, в котором имеет отношение к тексту.
Если указаны страницы, то тоже в том порядке, в котором они имеют отношение
к тексту, к ряду упомянутых или прямо процитированных отрывков.)
Прокофьев В. Ф. Тайное оружие информационной войны. Атака на подсознание. М., 2003, с. 90-91 и 139-146, 334-335, 50-52
Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. М., 2003, с. 90-91, 83-84, 84-89, 306-309, 146-147
Dropshot. / Edited by Antony Cave Brown. / N.Y., 1987, с. 51-63
Хлобустов О. М. Неизвестный Андропов. М., 2009, с. 223-224.
Хантингтон, Самюэль. Столкновение цивилизаций. М., 2006, с. 12-25, 210-237
Ваджра, Андрей. Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии. М., 2007,
с. 17-18:
«Самюэль Хантингтон — профессор Гарвардского университета, директор Института стратегических исследований им. Дж. Олина при Гарвардском университете».
с. 18 (сноска):
«С. Хантингтон является ведущим идеологом тех финансово-политических кругов, которые стоят за Республиканской партией США, а также высшей элитой армии и спецслужб. […] Так же как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский, С. Хантингтон был воспитанником профессора Вильяма Енделя Эллиота, который длительное время руководил Гарвардским университетом — главным «питомником» правящей американской элиты».
с. 16-26 —
о понятии «Европа», географическом и геополитическом, социокультурном;
с. 146-150, 174, 159 —
прочее.
Широнин В. С. Под колпаком контрразведки. Тайная подоплёка перестройки. М., 1996, с.: 76, 72-73, 66-69, 77,
Почепцов Г. Г. Гражданское самбо: как противостоять «цветным» революциям? М., 2005, с. 19-20
Шарп, Джин. От диктатуры к демократии. Екатеринбург, «Ультра.Культура», 2005, с. 101-110. («Библия» современных проамериканских революций.)
Расторгуев С. П. Информационная война. М., 1998, с. 316, 219, 303
Яковлев Н. Н. ЦРУ против СССР. М., 1978, с. 74
Яковлев Н. Н. ЦРУ против СССР. М., 2003, с. 76-78
Бжезинский, Збигнев. Великая шахматная доска. Американское превосходство и его геостратегические императивы. М., 2010, с. 109, 11
Откровенные признания // Знание — власть. 1998. № 31 (70).
Сорос, Джордж. Советская система к открытому обществу. М., 1991, с. 5-6
Довлатов С. Д. Представление: Рассказы. СПб., 2010, с. 5-6
Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2006, Глава 4, Основные доктрины манипуляции сознанием, § 1, Технология манипуляции как закрытое знание, с. 57-58, § 2, Учение о гегемонии Антонио Грамши, с. 61-69; Глава 11, Общественные институты, § 1, Школа - производство человека массы с. 247-257; Глава 21, Метафоры и стереотипы перестройки, § 1, Метафоры оппозиции (Метафора колонизации России), с. 613; Заключение (о способах противостояния массовым, политическим манипуляциям), с. 820-821
Медведев Р. А. Андропов. М., 2006, с. 432
Широнин В. С. КГБ - ЦРУ. Секретные пружины перестройки. М., 1997, с. 105-106, 109
Красильников Р. С. ЦРУ и «перестройка». М., 2011, с. 91-93
Хлобустов О. М. Доктрина Даллеса в действии. М., 2012, с. 78-79
Терещенко А. С. Чистилище СМЕРШа; Сталинские «волкодавы». М., 2011, с. 40
Кара-Мурза С. Г. Россия не Запад, или что нас ждёт. М., 2011, с. 106-109, 20
Кара-Мурза С. Г., Александров А. А., Мурашкин М. А., Телегин С. А. 2 «Экспорт революции. Ющенко, Саакашвили...». М., 2005 <Страницы будут указаны >
Люльчак Е. Кто на мушке психотронной пушки? // «Мир Новостей», № 19 (958) 28 апреля 2012 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
В этом повествовании, собственно, нет ничего фантастического. Ничего, кроме самих Вспышки, Скачка и всего лишь нескольких персонажей, — как из нынешней реальности (но только имеющих непосредственное отношение к истории Скачка), так и из реальности прошедшей, — персонажей, порождённых авторской фантазией и лишь нескольких среди множества всяких других.
Так что (кстати говоря), отношение героини к другим героям, многие из которых списаны с реальных людей и выведены под вымышленными именами, а также проклятия героини следует считать авторскими.
А выдуманные персонажи — это даже не фантастика, а просто художественная литература, — более художественная или менее. Можно бы даже сказать, что кроме Вспышки, Скачка, нескольких героев повести и изменённых фамилий реальных людей, здесь нет вообще ничего придуманного.
Впрочем, ни на чём настаивать и ни с кем спорить автор не хочет и не станет. Пусть это будет именно фантастическое повествование.
Итак,
ВСПЫШКА
(фантастическое повествование)
ЧАСТЬ 1.
Алёна уже в третий раз за сегодняшний день тащилась от метро с тяжеленной сумкой, — она опять перебиралась в следующую московскую общагу с двухъярусными койками. Нет-нет, она не была девчонкой, — она была совсем уже немолодой женщиной, хотя в моменты житейской собранности и не совсем уж предельной замученности могла выглядеть хорошо и значительно моложе своих лет. Теперь такие моменты случались всё реже.
Но вообще-то, Алёна действительно так и не повзрослела, несмотря на образование, былое замужество и бурную биографию, профессиональную и житейскую, внутренне оставшись вечным подростком. Последнее, однако, на её внешности не отражалось. Повзрослеть же ей просто не дали, так и не допустив до жизни, свободной, человеческой, самостоятельной в обычном смысле слова. Вот только непосвящённому этого было не объяснить. Собственный выбор болтаться сейчас по московским общагам и перебиваться неквалифицированными заработками на поверку не был таким уж свободным, и ни о какой независимости не говорил. Но, опять же, поди это кому-нибудь объясни...
С другой стороны, стихи она сочиняла чуть ли ни с младенчества, а такие люди часто если и взрослеют, то... как бы это сказать — нестандартно. Но ни поэтом, ни писателем, ни полноценным журналистом она так и не стала. Поработать в Москве полиграфическим дизайнером неожиданно успела (неожиданно как для себя, так и для всех), но и из этой профессии её выкинули довольно быстро и жёстко. И она не могла сделать по большому счёту ничего и ни с чем. Основным её определением того, что с ней происходило, было: «липовая жизнь липовой личности», и у Алёны имелись на то причины. А пробиться куда-нибудь на свободу за эти стенки она не могла.
Короче, она тащилась с очередным баулом, часто останавливаясь, не столько перекурить, сколько просто передохнуть. Моросил противный, мелкий-мелкий затяжной дождь. Москва, которую она, вообще-то, так любила, виделась сейчас нудной, блёклой и надоевшей. Плечо ломило. Настроение падало дальше некуда. Впереди ожидала какая-то очередная мутотень и ничего больше. Но думала она вовсе не о своей жизни, вернее, не только о ней, не заморачиваясь бытовой неустроенностью.
«Психофизическое оружие — нелетального действия... Врут. Или просто боятся сами смертельно напугать обывателей, начитавшихся лишнего. Только у одного Вячеслава Прокофьева в «Атаке не подсознание» есть, кажется, пункт классификационных признаков по степени воздействия (поражения). Только у него там есть чёткое указание: обратимого действия и необратимого, нелетального и летального. Остальные же твердят: нелетальное, нелетальное. Но меня-то этими сказками не убаюкать. Ни хрена себе, нелетальное... Родителям моим это расскажите, — пусть они встанут из могил и послушают!..»
— Летальное, летальное! — заорала ей почти в ухо, замахав руками, как курица крыльями, старая карга, сумасшедшая и пьяная одновременно.
Всё было как обычно: карга ёрничала вовсе и не в алёнин адрес. Она просто шла мимо, навстречу такому же старому алкашу, и вполне вероятно, сама не знала, что это на неё вдруг накатило подурачиться услышанным где-то словом. Если бы кто-нибудь надумал с этим разобраться, наверняка всплыла бы совершенно посторонняя история, причина, простая и логичная. Вроде того, то всё это — случайное совпадение.
«С-суки грёбанные, — привычно и почти без эмоций мысленно выругалась Алёна в адрес невидимых кукловодов, — проснулись, начали...»
— Проснулись! Начали! — бойко закричал мальчишка лет десяти своим приятелям в какой-то их шумной игре.
«Ну, эти-то, мелкие, воспринимают воздействия вообще без тормозов, — это старая история. Даже животные бывают зомбированными. Такие выходки устраивали не раз! И всё — в тему...»
— Ты что, вообще без тормозов? — стала выговаривать мальчишке мать, вышедшая к нему под моросящий дождь из-под навеса...
«Сегодня что-то уж очень плотно, — с удивлением подумала Алёна, — к чему бы это? Задалбывать они могут основательно, но всё же обычно пореже, не так, что один фокус за другим... Что-то случилось? Или в новой общаге что-то собираются сразу устроить? В последнее время в них стало поспокойнее, но может, опять начинается? Уже готовят меня к чему-то, заранее невротизируют? Надо держаться осторожнее, возможна опять какая-нибудь провокация».
Вообще-то, странным было всё. Выходки следовали одна за другой, но сейчас были не так травматичны, без сексуальных и непристойных подоплёк, без того, чтобы нажимать на давно изученные психологические болевые точки и без физически болезненных эффектов...
«Может, отстали?..»
— Она меня всегда заранее невротизирует, когда я иду к шефу, — проговорил в мобильник парень, спешивший куда-то под этой продолжавшейся изморосью.
«Й-ёпть, да что же это сегодня?..»
Общага была уже недалеко.
Когда-то очень давно ещё даже можно было представить себе цифру «2000», но «2010» казалась чем-то невозможным, невообразимым, таким, чего не может и не должно быть. Однако, 2010-й год уже, как ни странно, прошёл. Такое впечатление, что вместе с жизнью. То, что за ним, то ли не вызывало интереса, то ли от него настолько веяло жутью, что сознание как будто захлопывало некую глухую, тяжёлую дверь и задвигало засовы. Короче, дело было где-то после 2010-го года.
Людей больше не было. Совсем. По крайней мере, того, что она привыкла так называть. То, что шевелилось вокруг, требовало особого восприятия, особой логики и особой осторожности, главным образом, психологической (последнее слово давно стало для Алёны нецензурным). Восприятие, логика и осторожность требовались уже совсем не те, что всегда оказывались привычными в мире живых людей. Кто именно и как ими всеми «шевелил», она не знала: ей так никто и не представился.
Пока она бегала с места на место, работала там и сям, перед глазами её прошла бесконечно длинная вереница людей и событий. Люди, с которыми она соприкасалась, видели только себя и только один-другой эпизод, и не могли анализировать, сопоставлять, а она-то видела и помнила их всех... Они бы, наверное, были поражены и напуганы, если бы разглядели однажды, что вместе с огромным числом других людей из совершенно разных мест, возрастных и социальных групп, независимо от пола, профессии, убеждений, бесконечно делают с некоторых пор одно и то же, одно и то же... Как по команде, как по воле некоего программиста... Или — без «как». Люди не заметили, что перестали самостоятельно думать, действовать, вырабатывать отношение к кому бы и к чему бы то ни было. Выяснять с ними какие-то отношения смысла больше не было: дело иметь придётся вовсе не с теми, кого видишь перед собой, — не с их логикой, умом, опытом. Население страны с богатейшими ресурсами выбивалось руками друг друга. Везде она наблюдала одну схему, от которой уже устала: люди, особенно те, которых уже протащили через горе и унижение, с особенной страстью впитывали идею о своей посвященности, уме, всепонимании, психологической «продвинутости» и очень-очень азартно включались в травлю других, заранее намеченных в жертвы, искренне считая, как водится, что делают благое дело, улучшают и совершенствуют мир. Почти никто из них не наносил последнего удара: каждый делал лишь свою часть «работы», но для жертвы всё вместе оказывалось медленным и верным убийством. А «преследователи» не догадывались, что роли эти — всего лишь временны и смена их может произойти в любой момент. Как говорилось в директиве 20/1 СНБ США 1948-го года, ничто в этой войне не должно выдавать американского вмешательства, но производить впечатление естественных экономических и социальных процессов внутри страны (СССР, впоследствии России)... Таким образом, недавняя интеллигенция не заметила, что подлинное «НКВД» давно уже сместилось от всяческой госбезопасности в сторону, скорее, «петербургского Музея Музеев», а вертухаями Алёна, хотя не все и не всегда её понимали, давно уже называла психотехнологов и психопрограммистов, не носивших, как правило, никаких погон. Эфэсбэшники, равно как и люди из высших государственных структур, похоже, если и участвовали в этом, то именно как все остальные, просто выполняя (далеко не всегда осознанно) навязанную им СВОЮ программу дальнейшего развала страны и геноцида. В общем, роль «НКВД» играли теперь «просто люди», а газеты с вакансиями, например, отпестрели уже статьями о всё более распространённом теперь «стихийном» психотерроре на работе. Вертухаи любого толка могли подходить к своим «обязанностям» даже сколь угодно творчески, но подлинный источник нынешней трагедии находился, всё же, не здесь, не в России. Концлагеря и репрессии давно сменили внешнюю форму, «методы и стиль», стали неразличимы в общем потоке кошмара. Теперь людей просто сживали со свету, совершенно буквально и очень методично, технологично. «Высокотехнолгично», говорила Алёна. И начиналось всё это не вчера. В одной из книг кто-то охнул [здесь появится уточнение]: «В СССР с определённого времени было налажено буквально производство диссидентов. Суды над ними, особенно над поэтами, на всех здравомыслящих людей производили впечатление клинического идиотизма. Но были ли люди, всё это творившие, клиническими идиотами? В азарте диссидентского обличительства никто даже не задумался, что здесь, похоже, что-то не так, и всерьёз не так...» Начиналось всё ещё раньше. А люди так до сих пор и не заметили собственных кукловодов. Теперь их учат думать только о насущном и заниматься только своей семьёй, «своим счастьем», когда «всё равно никому ни до кого нет дела». Если же вдруг дело до кого-то появится, то очень пылко «помогать» начнут теперь именно «психологически» или вообще силком, абсолютно ничего не понимая в чужих душах, но будучи уверенными (убеждёнными кем-то) в своей компетентности, и тем надёжнее уничтожая. Ведающий да разумеет. Разделяй и властвуй.
Теперь Алёна болталась в третьей Москве… То есть, в одной, всё в той же, но за последний десяток лет она жила здесь уже в третий раз, и так для себя и говорила: «Первая Москва», «Вторая», «Третья»… Что-то было в этом большее, чем просто перечень эпизодов. Так вот, теперь она болталась в третьей Москве и всё свободное время не вылезала из Национальной библиотеки. Теперь здесь можно было взять любую книгу, и если пора было окончательно сдавать её в основной фонд недочитанной, недоработанной, то, чтобы не ждать полтора дня, заказывая её снова, или если хотелось для разнообразия сменить читальный зал, можно было, например, заранее запросто заказать такую же в фонде военной литературы, если, конечно, у книги имелся военный шифр. Можно было копировать, фотографировать, перепечатывать. В общем, теперь можно было всё. Всё, да не совсем. Информации о возможностях серьёзной ЗАЩИТЫ от психотехнологических, психотронных и психотропных воздействий не находилось. Возможно, всё это было на стадии разработок в условиях продолжающейся психологической войны и отлёживалось в спецхране, а то и вовсе отсутствовало в библиотеке, или… людям никто не собирался предоставить возможности защищаться. От того, что она, замученная собственным, куда более давним и ежедневным опытом, успела начитаться, волосы стояли вертикально дыбом. А толку с этого было — чуть.
Да, людей, то есть, того, что она привыкла вкладывать в это слово, больше не попадалось. Впрочем, людьми они все, конечно, оставались, только совсем другими, чем когда бы то ни было раньше. Но… не тогда, когда они составляли её окружение, во всяком случае, не по прошествии довольно короткого времени. В окружении неё они неизменно и без исключения (независимо от пола, возраста, социального статуса) попадали под чьё-то, с позволения сказать, управление, и делали, говорили, думали одно и то же, одно и то же, одно и то же… Так открыто — вот уже почти десять лет. Не так открыто — гораздо, гораздо дольше. Теперь, года с 2002-го - 2003-го, это главным образом сводилось к явной или замаскированной подо что-нибудь травле. В любом месте, городе, даже стране. Разве что, фактор неожиданности алёниных перемещений или особенная их отдалённость иногда требовали пары-тройки дней для чьей-то подстройки. Но передышек подольше не случалось, по крайней мере, в этот последний десяток лет, когда явно началось непосредственное псевдоестественное уничтожение.
Алёна отнюдь не была единственным «раздражителем», побуждавшим неких «менеджеров душ» брать кого-либо под временный или тотальный контроль. Ведь постоянно «управлять» всеми вообще и сразу — в любом случае нереально. Но вот периодически — реально вполне. И никто от этого не застрахован, никогда и никто. Алёна с незапамятных времён (с рождения) оказалась одним из «эпицентров», вокруг которых все это и вертелось. Это она знала ещё до всяких ФСБ, до второй Москвы. («Холодная война» формально началась фултоновской речью Черчилля ещё 5 марта 1946 года, а началом информационно-психологической войны США против СССР (как позже выяснилось, и против России) считается директива 20/1 СНБ США, принятая 18 августа 1948 года. Если учесть, где, в каком районе и в каком специфически-элитном окружении (со стороны матери — академическом, куда отец-гаишник, пусть даже на высокой должности, не вписывался никак) родилась, росла и училась Алёна, то можно спокойно говорить, что с 1948 года и до её рождения прошла целая эпоха, за время которой негласно подготовлено и сделано было очень много. И продолжало делаться, пока после 1986-го года, в котором её отец, район которого, самый населённый в городе, часто занимал первое место по низкой аварийности, подобно многим довольно сильным людям, был неожиданно отправлен на пенсию, — пока после 1986-го всё это не начало переходить в открытую фазу…)
Она предполагала, что ещё с рождения или даже раньше была выбрана в качестве некоего субъекта психологического воздействия на общество, на свой круг — на предмет точечного (тогда ещё) создания всё большего впечатления отвратительности российской жизни, неизбежности и целесообразности вымирания этого народа. Хотя, многие завербованные российские деятели информационно-психологической войны считали и продолжают считать, что действовали и действуют независимо ни от кого и исключительно во благо страны...
Как теперь понятно, начало перестройки ничему в этой войне не положило конец, и таких «эпицентров», как она, со временем становилось всё больше и больше. А вины её и ей подобных в этом не было, равно как они и не являлись ничему причиной. «Организаторы» вообще не рассматривали таких как живых людей, используя их просто как инструменты ведения ТАКОЙ войны. (Впрочем, как живых людей они не рассматривали и вообще весь незападный мир, даже если иногда и льстили им, играя в «равенство и братство» и в добрые намерения. Это называется фашизм. Кстати, по утверждению Хантингтона, точка зрения которого правомерна и признана вполне официальным выражением западного взгляда на вещи, восточные незападнохристианские славяне входят в состав именно незападного мира, как, впрочем, и любые незападнохристианские славяне, как, впрочем, и любые славяне вообще. Коротко и особенно доходчиво это объяснил Андрей Ваджра в книге «Путь зла», объясняя соотечественникам-украинцам, почему их с самого начала никто и не обирался принимать в Евросоюз: Европа — понятие отнюдь не географическое…) Сами, такие как Алёна «не-люди»-«эпицентры», находились под «управлением» тотально, всегда (в отношении отдельных объектов это реально), и большинства из таких, кого она сама когда-то знала, уничтоженных исключительно «руками» родных, близких, друзей, «своих», в живых уже не было… Включая, кстати, нескольких физиков из маминого института, которых Алёна знала лично и кого-то из них — с её детства. В общем, вокруг неё одной мир не вертелся. Хотя, иногда начинало казаться, что мрачно вертится. Но, поди, всё это кому-нибудь объясни. А она — почему-то ещё жила…
Сама Алёна тоже, конечно, была не человеком, а чёрт-ти чем. Но в отличие от подавляющего большинства других живущих людей, она об этом знала. Это само по себе меняло многое, если не всё. Однако, вряд ли в лучшую сторону. Только попробуй, разбери, что тут вообще — лучшее…
Собственной заслугой такое понимание она не считала: году в 2005-м, когда её, как водится, доводили до срыва, и теперь-то (в очередной раз) собирались сделать это наверняка, ей ПОКАЗАЛИ, до какой степени она не принадлежала себе и больше не принадлежат себе люди. Но она опять выжила, — пережила не только 2000-й, но и 2010-й.
Это тоже было не её заслугой, по крайней мере — не только её.
Всё это завязано на большой политике и «управленцы» не должны засветиться, — со стороны всё должно объясняться естественным ходом вещей. ПСЕВДОестественное развитие истории, ПСЕВДОестественное выдвижение или исчезновение со сцены ключевых фигур, ПСЕВДОестественное начало гражданских и подобных войн, ПСЕВДОестественные революции, ПСЕВДОестественное сокращение численности населения и деградация «рабочего» остатка, ПСЕВДОестественное изменение общественного сознания и культуры, ПСЕВДОестественные жизни, болезни и смерти, — псевдо-, псевдо-, псевдо-… Всё должно делаться чужими руками или происходить «само». Самое паршивое, что человеку часто самому внушались дискредитирующие его поступки, и даже намерения, и даже черты характера... «Новый мировой порядок» начали сознательно формировать с конца XIX века, и чем дальше, тем технологичнее. А она ещё жила.
Долгое время Алёна считала, что на всякую силу обязательно найдётся другая сила, и пока кто-то гробит её и семью, кто-то другой научился помогать таким, как она. И тоже не хочет засветиться, но именно отсюда (с чьей-то помощью) — три её Москвы, куда ей удавалось сбежать накануне «очередных последних» событий.
Судя по неразборчивости в средствах и настойчивости, с которыми её всегда пытались вернуть в родной и давно проклятый ею Петербург, кому-то приспичило добивать её именно там, причём, не абы как, но подобно большинству схем развития событий в таких историях, грязно, мучительно и тоже обязательно псевдоестественно. А кто-то другой, какая-то другая человеческая сила — вроде как, спасает, помогает вырываться и выживать. Потом она стала думать, что источник и катастроф, и спасений — один и тот же, просто игры эти — сложнее, опаснее и страшнее. Потом запуталась.
За эти годы чутьё у неё гипертрофировалось, хотя, она знала, что надуть её при желании и теперь не составит труда. С другой стороны, вот в этом знании как таковом как раз и заключались и сила, и источник дополнительной защищённости. Побольше веры в собственные силы — и давно могла бы сломаться.
Но, в общем, в данный момент она просто перетаскивала вещи в следующую общагу.
«Интересно, когда они всё-таки меня добьют? Но даже если нет — жить в ТАКОМ мире нет ни смысла, ни желания, ни радости. Если человека всё время убивать — он умрёт. Абсолютно летально, блин. Вот теперь я на своей шкуре прочувствовала, как вышло, что за относительно короткий период поумирали почти буквально все деятели прежней русской культуры, русскоязычные, многие даже в эмиграции, и дело было совсем не в том, советские они, или анти-. Вплоть до двадцативосьмилетнего Цоя и не дожившего в Америке до пятидесяти Довлатова. А Цой, насколько я знаю, вовсе не погиб за рулём в автокатастрофе, но катастрофа произошла вследствие остановки его сердца. «Вина» этих жертв — именно в том, что они русскоязычные, что они были носителями ЭТОЙ ментальности и активно её развивали. Интересно, когда не выдержит сердце, или нервы, или что-нибудь ещё — у меня?.. Вот тащусь сейчас неизвестно куда (а больше — некуда), и впереди — маета, измывательства, в которых даже никого формально не обвинишь, — в конечном счёте, впереди — ничто».
Оп-па!.. (Она уже подходила к нужному ей крыльцу.) Полковник. Давно знакомый эфэсбэшный Полковник. (Это было для неё почти его имя.)
«Вот это случилось, так случилось… Мир, что ли перевернулся, Земля соскочила с орбиты? Так вот к чему меня накручивали всю дорогу, вот почему кукловоды сегодня так опсихели!..»
Он стоял, довольно мрачный, задумчивый, опершись о раскрытую дверцу толстого (как говорили в Германии) BMW, за рулём которого сидел кто-то другой, и явно не шофёр. Рядом стояла ещё одна такая же машина, и в ней — трое. На мгновение её вдруг охватила бешеная радость, совершенно не понятно, с чем связанная. Но она и моментально взяла себя в руки: «Посмотрим, что ещё за новости…»
Формально он никогда не появлялся сам. А она, приходя в приёмную (когда это случалось), никогда до конца ему не верила. Правда, он очевидно и осознанно сам делал для этого всё возможное. В последние месяцы она вообще уже перестала ждать от этих встреч чего-то хорошего и больше не приходила. Чему же она обрадовалась? Сначала подумала, что прилив радости был внушённым, а потом поняла: эту радость вызвало именно то, что его сопровождала машина с тремя другими. Почему? — она не знала.
«Ладно, посмотрим».
Впервые в приёмной ФСБ она появилась в начале февраля 2006-го, и привела её к этому длинная и муторная вереница событий.
Из Германии, где прожила шесть лет, и от мужа-немца, всё же любимого, как показало время, и которого так никогда и никто не сумел заменить, Алёна уехала к началу 1995 года. (В 1993-м она уже закончила заочно Петербургский университет.) Определённую роль в её возвращении сыграла «очередная большая любовь» к былому политеховскому однокурснику старого приятеля из юношеских туристических компаний, разразившаяся и закончившаяся в Петербурге с середины 1994-го, во время её последнего появления перед окончательным возвращением, и по середину 1995 годов. 1995-1999 — её «смутные времена» в Петербурге, как в личной жизни, так и в работе. Ну, та дурацкая, хотя и бурная с виду личная жизнь требовала бы особого разговора.
После Германии, помимо прочего и не сразу, ей был подсунут петербургский «дружок», псевдохудожник (уже не первый такого рода), который просто, по сути, тянул и убивал её время в течение двух лет. Чего-то, более или менее похожего на любовь, у неё тогда не возникло, встречи их тоже были не такими уж частыми, но откуда-то у неё взялась дурацкая надежда на устройство личной жизни. Её самолюбие он вполне тешил, будучи весьма эффектным и в определённом смысле престижным партнёром. Но он её замучил. Неожиданно для всех она брыкнулась, связь эту полностью порвала, отказалась, едва появившись у «Фиолетовых», разбирать свои отношения с ним в качестве своей психологической проблемы, походила на дискотеки с молодыми подружками, крепко гульнула, сунулась ещё раз в журналистику и с молодым бандитом (на десять лет её младше), «собиравшимся начать новую жизнь» и подсунутым ей на тренинге у «Фиолетовых», сбежала в первую Москву. Да более того: в Москве она почти моментально разглядела, что никакую «новую жизнь» он начинать абсолютно не собирался, но наоборот, будет только тянуть её за собой на дно, так что Алёна и с ним не захотела загибаться и деградировать, тоже очень быстро разорвала отношения, но вместо возвращения в Петербург или хотя бы вместо состояния полной безысходности, устроилась на приличную работу и окунулась в новую специальность – компьютерный дизайн, закончив несколько курсов в Бауманке. С ней, похоже, вообще не знали, что делать. Правда, соображали не очень долго. Но это — забегая вперёд.
А работа — ... Работала она в «смутный петербургский период» в основном в литературно-мемориальных музеях, от научного сотрудника, хранителя фонда и до старшего методиста, всё время чувствуя при этом, что живёт не своей жизнью, из которой нужно куда-то вырваться. К тому же времени относились и её попытки утвердиться в журналистике. Прошло время, и они особенно ярко обнаружили назойливое постороннее вмешательство в её судьбу. К этому же периоду относились интенсивные тренинги у «Фиолетовых», американской психологической организации, где она оказалась вместе со многими другими сотрудниками тогдашнего музея, включая директора, поскольку у «Фиолетовых» имелась лицензия от министерства образования (оказывается, в 90-е годы это министерство навыдавало лицензии кому ни попадя, всем сектам, но тогда этого известно ещё не было) и позиционировали они себя как психологические курсы личностного роста. Базовый тренинг назывался «Пойми себя и других». Алёна пошла туда с радостью, поскольку очень хотела вырваться из какого-то замкнутого круга, и тогда ещё упорно пыталась искать его причины в себе самой.
Первая Москва прорвалась в её жизнь с начала 2000-го и продолжалась до середины сентября 2002 года. Тогда она, работая поначалу в рекламе недвижимости, неожиданно начала профессионально заниматься полиграфическим дизайном и поняла, что наконец-то нашла себя в отношении возможной постоянной работы, которая была бы в радость, а заодно, после долгих и буквальных скитаний по белу свету, нашла, наконец, СВОЙ город... Вынужденная вернуться (насильственно возвращённая) из Москвы, получив неизлечимый аутоиммунный диагноз, оказавшийся впоследствии липовым, она проскочила целую чехарду попыток устроиться дизайнером в Петербурге. Попытки эти были куда менее радостными, чем в Москве, и привели её как дизайнера в мерчандайзинговую фирму «СРусИнформ», представлявшую собой, как скоро выяснилось, высокопрофессиональнейшую бригаду психотехнологов, проводивших, между прочим, психологические тренинги, включая тренинг по устранению конкурентов «Челюсти». Их задачей, очевидно, являлось уничтожение Алёны как дизайнера в Петербурге. Этого, как ни странно, добиться не удалось, но всё закончилось её серьёзным нервным срывом. (Срыв, кстати говоря, произошёл через неделю после недоброй памяти школьного вечера встречи, посвящённого 20-летию выпуска. Ничего плохого там, КАК НИ СТРАННО, так и не произошло, но она и заглянула туда на часок, уже чуя недоброе и отказавшись от полной программы мероприятий. Через неделю её «догнали»). Потом в петербургском «Музее Музеев», куда её милостиво пристроил давний «Учитель» и «старший товарищ» Барбисовин, Алёна работала дизайнером примитивной анимации с конца октября 2003 и до самого новогоднего конца 2005-го. Январь 2006-го — в дворниках (это был никем не понятый её протест, который привёл, затем, к осознанию необходимости принимать совсем уже экстраординарные меры). ФСБ РФ в Москве, куда она обратилась тогда с заявлением — с начала февраля 2006-го и, с перерывами, до недавнего времени. Вторая Москва — с начала апреля 2006-го и практически до конца 2007-го. С середины июня до начала октября 2006-го — монастыри в Москве и затем — череда случайных московских заработков, в основном неквалифицированных. В начале декабря 2007-го — падение и смерть матери в Петербурге (в связи с чем вторая Москва и закончилась), болезнь отца, длившаяся три года, и после его смерти, с конца декабря 2010-го — третья Москва. Уезжая в Москву в третий раз, Алёна твёрдо настроилась, что теперь возвращения в Петербург больше не будет абсолютно любой ценой.
Итак, впервые в приёмной ФСБ она появилась в самом начале 2006 года. Но когда-то давно начинала она не с этого, а с церкви, православной. И не потому, что и тогда травля шла на уничтожение, — нет, тогда просто жизнь «почему-то» методично уходила вникуда, но всё ещё оставалось в тех рамках, чтобы походить на реальность, пусть даже на реальность со странностями и с элементами мистики, которые со временем всё усиливались (что и зародило в ней первые серьёзные сомнения в источнике происходящего). Вообще-то, вера ей, как и многое другое в «её» жизни, была навязана извне, но тогда она этого ещё не понимала и в любом случае не сопротивлялась, приняла всей душой. На самом деле в церковь её привели с конкретными целями, одна из которых была — укрепить в желании вернуться из Германии. Первый «комплекс мероприятий» по её возвращению, в который «атака православием» также входила, ещё летом 1990 года закончился провалом. (Да и какое возвращение, когда только-только пала Берлинская стена (впечатлений — море), ещё не было объединения Германии, а они с мужем уже ехали жить в Кёльн, откуда — Париж, Лондон, Корсика и ещё много всего.) В принципе, она там неплохо устроилась: гражданство менять не собиралась, а с российским гражданством при ПМЖ в Германии ездить туда-сюда можно было сколько угодно без виз. Что она и делала, учась, к тому же, на заочном отделении в Петербургском университете. Православие, кстати, как идея, в душу в те времена запало, осталось.
Тогда, видимо, вертухаям стало ясно, что помимо ностальгии, веры, профессиональной нереализованности, нажимать надо в первую очередь на отношения с мужем, заставить её уйти просто из семьи. Второй «комплекс мероприятий» в 93-94-м был проведён куда более профессионально по всем фронтам, занял года полтора и закончился на «ура»: она развернулась и уехала, вернулась на родину, собираясь, глупая, «зажить полнокровной жизнью». — «Да кто ж тебе даст»… В современной НАТОвской Западной Германии, кстати, таких как она, с духовными устремлениями и метаниями, с российскими порывами и «вселенской тоской в глазах», тоже «ещё только не хватало». Шёл 1995-й.
Дальнейшая история её православия, не прерванная даже «Фиолетовыми», за много лет по нарастающей всё больше становилась детективной. Под конец был даже период, когда она со страху стала причащаться каждую неделю. Но тогда уже «задурили» батюшки… Не в плохом каком-нибудь, конечно, а в том смысле, что точно так же поддавались воздействиям и выполняли «команды», хотя они, как известно, и причащаются каждый день. Ни от чего их это не спасало. Да и логика всего происходившего была очень уж человеческой, не мистической, равно как и нехороший юмор.
Летом 2006-го она потрудничала по месяцу-полтора в трёх монастырях, и из первого — буквально сбежала. Там дело пахло просто технологичным программированием в изменённом состоянии сознания. Под предлогом того, что она в своё время побывала на психологических тренингах у «Фиолетовых», которые у православных считаются сектой, её направили бывать в одном из православных центров помощи пострадавшим от сект. Любопытно, что тамошний протоиерей в миру был психиатр и к тому моменту, когда она должна была у него появиться, вернулся из поездки («командировки») не куда-нибудь, а в Сербию. В Сербии же, как известно, давно сформирована «молодёжная» организация «Отпор», взрослые руководители которой проходили стажировку в США, и которая сыграла решающую роль в организации и проведении одной из первых «бархатных революций» в постсоветской Европе. Инструкторы «Отпора» подготавливали «организаторов» и активистов грузинской «революции роз» — организации «Кхмара», а также украинской «оранжевой революции» — организации «Пора». Хорошо отметился сербский «Отпор» и в Киргизии. Всё — на деньги американских грантов. (А описываемые в данный момент события второй Москвы — это как раз середина двухтысячных, 2006-й.) Так вот, протоиерей-психиатр вернулся из Сербии и Алёна, после недолгого и странного общения с «дежурным богословом» должна была пройти у протоиерея «православный сеанс», но обязательно — в изменённом состоянии сознания (в истерике какой-нибудь). Ей об этом, конечно, не сказали, но это было шито белыми нитками. До истерики её никто не довёл, как ни старался, она осталась спокойной, как слон, и протоиерей… перенёс «сеанс», сказав, что надо лучше подготовиться. (По ряду признаков и судя по некоторым «душеспасительным беседам», было, похоже, что её, не очень вменяемую в изменённом состоянии сознания, собирались в обход правил «в виде исключения» быстренько постричь в монахини «по воле божьей»). В общем, она не захотела проверять, доведут ли её до истерики в следующий раз (а то свернут мозги — и уже не выправишь…), и просто сбежала. Но в тот раз она ещё решила, что здесь — дела «революционные», «посторонние», а церковь есть церковь.
Совсем уже на излёте истории с первым монастырём она была даже в Оптиной, где её проверили на бесноватость, — нет, чисто… Занятно, что с ней в церкви никто никогда не говорил ни о чём откровенно, всё время пытаясь что-то внушать, не выслушивая, и неизменно переводя темы разговора с «идеологически скользких» — на «благочестивые». В Оптиной от неё самой тоже ничего не услышали толком, на откровенный разговор не пошли, ни о чем не предупредили (но кто она и откуда, знали заранее) и отправили просто поклониться могиле оптинских новомученников, к которым не могут спокойно подходить бесноватые. Она — подошла, поклонилась, поставила свечки, приложилась к иконам, помолилась и спокойно ушла, а за ней наблюдали… Позже она подумала, что здесь отсутствие предварительного разговора и разъяснений как раз сослужило добрую службу: те, кто её всегда «слышит» и роется в мозгах, тоже, таким образом, ничего не знали заранее, а то бы ей наверняка «бесноватость» устроили — любо-дорого. Вытворила бы что-нибудь такое, что вся Оптина вспоминала бы это, что называется, до Второго пришествия…
В третьем монастыре, где она, было дело, «под занавес православия» трудничала за койку и трапезную, один очень современный батюшка всё давал понять, что готов побеседовать, — но тоже ведь, хоть тресни, сам не подошёл, не сказал ничего прямо, на разговор не пригласил. А у неё уже просто дырок в мозгах не осталось для мозгогрёбства, и нарываться по собственной инициативе она не захотела, не пошла. В том третьем монастыре она работала полиграфическим дизайнером в их издательстве, и дело кончилось тем, что её просто подставили. Красочную книжку, оформленную ею от и до, от вёрстки, сканирования и цветокоррекции до подбора, расположения и монтажа иллюстраций, нахально и даже издевательски приписали другой труднице, поставив чужое имя дизайнера-верстальщика.
В конце концов (вне монастырей) у неё украли вещи, вернув её пустой баул и «чудесным образом» сохранив только иконки и православные брошюрки. Разговаривавший с ней дьякон из второго по счёту её монастыря, продолжавший с ней общаться, ещё накануне откуда-то всё знал, и когда она спросила у него разрешения принести завтра на денёк тяжеленный баул для «передислокации», он, разрешив, как-то нехорошо и саркастически хмыкнул.
(Кстати, с его стороны прозвучала и любопытная реплика. Ещё раньше он, в ответ на выраженную ею благодарность за то, что он уделяет ей столько времени, задумчиво сказал «сам себе»:
— Попробовал бы я этого не делать!.. — а теперь он, как бы выругавшись в алёнин адрес, зло пробурчал себе под нос:
— Бомж союзного значения!..
Буквального смысла этих своих реплик он ей не объяснял, а она не спрашивала, хотя и запомнила.)
В давней общаге, где о хранении вещей была договорённость, баул оказался пустым, без тёплых вещей, без учебников и очень многого ещё, а ей сообщили лишь о готовности вернуть православные брошюрки и иконки. Тем же вечером со стороны церкви ей по этому поводу было заявлено, что это, мол, Бог ей путь указывает, оставляя только то, что ей теперь действительно понадобится. Алёне это больше не понадобилось никогда: она хлопнула дверью.
Итак, в 2006-м Алёна впервые появилась в приёмной ФСБ, хотя, это событие произошло раньше некоторых, только что описанных. Для её появления в приёмной были свои причины, и очень серьёзные. Примерно за год до этого, в начале 2005-го, не зная, как её ещё утопить, ей, собственно, впервые поцитировали её мысли. Причём, сделали это как-то аккуратно, поскольку если неожиданно с большой плотностью огорошить кого-то подобным открытием (то есть, дать понять человеку, что его «слышат» вообще, «слышат» всё), то это можно не пережить психически. Не исключено, что именно такая акция и готовилась в «Музее Музеев», где она в то время работала дизайнером в компьютерном отделе на полставки старшего научного сотрудника (предыдущий опыт музейной работы позволял взять её на эту ставку), — не исключено, что кто-то другой предварил те готовившиеся события, поставив её перед фактом не как снег на голову, а постепенно. Какое-то время она, ещё не понимая, что происходит, и чувствуя слежку, обыскивала свою квартиру, искала камеры и микрофоны, и ничего, конечно, не нашла. Но её «слышали» и на улице, правда, в первое время «свалив» это на возможности мобильной связи, хотя она, давно заподозрив неладное, от собственного постоянно включённого мобильника с неизъятым аккумулятором и так уже отказалась. Позже стало понятно, что дело и не в мобильниках, тем более что «слышали» не только слова, но до какой-то степени мысли. Видимо, мысли «слышали» хуже, или вообще не все вертухаи это умели, потому что часто её провоцировали именно ГОВОРИТЬ, — хотя бы шёпотом и себе под нос, но говорить, артикулировать.
Так вот, открыто цитировать мысли ей начали в Петербурге где-то весной 2005-го. К тому времени (поскольку всё это началось отнюдь не внезапно) она начала читать и практически уже перелопатила всю доступную православную литературу об обработке сознания в сектах. О существовании другой литературы на ту же тему она ещё просто не догадывалась, равно как и о том, что православные, великолепно изучив предмет, могут теперь заняться тем же самым. Где-то в середине 2005 года она, оставив «веру в душе», решила временно отойти от церкви и формальной православной традиции, поскольку началось то, что выше обозначено как «задурили батюшки», и вообще прогрессировало нечто, откровенно переходившее в богохульство. Например, стоило Алёне прийти в молитвенное состояние — в церковь заваливалась толпа детей лет 12-ти в предельно, чрезмерно ёрнических карнавальных шапочках в виде петушков, мышек, слоников, и все начинали то «истово молиться», то громко ржать, а батюшки и бабушки, обычно воинственные, оставались как в ступоре, — и пр. Из православной литературы об обработке сознания в сектах она почерпнула очень многое, но способ борьбы против такой обработки там предлагался один: «Богу молиться». Для неё это и так уже оборачивалось описанным выше, но внутренний протест в отношении церкви нарастал и по другому поводу: «Применяются психотехнологии. Это — ОРУЖИЕ. А вы, всё прекрасно понимая, лишаете людей возможности защищаться. Когда в них летят физические снаряды, вы же не предлагаете им тихо сидеть и молиться, — вы же сами благословляете их брать в руки оружие и идти воевать. Так почему же здесь вы ставите их в положение беззащитных мишеней, когда именно церковь должна кричать об опасности ТАКОЙ войны и о РЕАЛЬНЫХ возможностях обороны? Уж не боитесь ли вы сами просто потерять свою власть над ними?..» (Кстати, ни в каких монастырях впоследствии ей на этот вопрос просто не отвечали, никак, — да и задать его возможность не очень-то предоставляли…) Но это был уже 2006-й.
А после интенсивного «цитирования мыслей» ещё в 2005-м Алёна стала вспоминать всю свою предыдущую жизнь, событие за событием, цепочку за цепочкой, и вот тут шок её был настоящим. Она поняла, что под тотальным контролем находилась с младенчества, что какая-то мразь ВЕЛА её по всей жизни, «незаметно» заводя во все возможные тупики. (То-то она не могла понять, ну почему, почему ей никак не прошибить ни одну стенку, которыми была окружена… Способностей, энергии — всегда зашкаливало, она что только в жизни ни сделала, и всё это было вникуда, хоть разбейся…) И даже многое из истории её родителей она увидела совсем в другом свете, и даже многие жизненные передряги некоторых людей, которых она просто знала, виделись уже совсем по-другому. Пережить это понимание было почти невозможно, но Алёна пережила. Правда, с этого момента для неё изменилось ВСЁ. Наряду ещё с какими-то остававшимися чувствами и целями в ней навсегда, наверное, поселились ненависть и непрощение. Несмотря ни на какое христианство. И ещё в 2005-м всерьёз появился мат, которого, разве что уж совсем редко, да и то, больше в шутку, до тех пор не было никогда.
Её отец был из деревни и ругался, конечно, с детства. Но в своём детстве Алёна этого не знала. Был единственный раз, который она запомнила навсегда и именно потому, что он был единственным. Она была тогда ещё маленькой, и папа вёз её куда-то на своей рыжей служебной «Волге». Вдруг он пробурчал что-то невнятное и злое, с визгом развернулся, с визгом же затормозил машину около какого-то из своих постовых гаишников, у которого было что-то сильно не так с ситуацией на дороге. Опустил стекло и зычно выдал многоэтажную тираду. В чём было дело, она, конечно, не знала и не поняла. Папа отъехал в сторону и вдруг опять притормозил, уже не так резко:
— Ой, доченька, ты здесь!.. Прости меня, я совсем забыл, что ты здесь. Больше так не будет, прости, — И больше так не было. Она всегда знала его как очень доброго и любящего папу. Матом она начала ругаться именно и только здесь, в петербургском «Музее Музеев» около сорока лет от роду. Но и то, конечно, всегда понимала, где можно или нужно это делать, а где не стоит.
Летом 2005-го года психотехнологические атаки зашкалили, вплоть до самого что ни на есть допроса во сне, но об этом уместнее вспомнить позднее, в разговоре о ФСБ. Было ещё очень многое, — оно происходило постоянно. В «Музее Музеев» она всё надеялась на Барбисовина, семью которого (его самого, жену и сына) она знала лет двадцать. Когда-то он, потом его жена были её репетиторами перед поступлением в университет. Позднее их семья была знакома с алёниным мужем, — Барбисовин даже встречался с ними, будучи в Германии по делам. Сам он в восьмидесятых работал в основном в небольших музеях, пока года с 91-го не начался его карьерный взлёт. Знакомство с Алёной почему-то сохранялось. Ну, с её-то стороны — понятно: она, как многие его ученики, была заворожена его образованностью, нестандартностью мышления (как казалось особенно по молодости) и рафинированной интеллигентностью. А вот зачем это знакомство так долго готов был поддерживать он — ей стало странным, особенно после окончательного прозрения на его счёт. Вернее, как раз не странным (как только всё стало на свои места), а просто всё это — как-то дико…
Но в конце 2003-го после страшных её потрясений именно он, взлетев почти на самую вершину музейного Олимпа, привёл её в «Музей Музеев», устроив даже дизайнером, только не полиграфическим, — но не суть. Зачем он это в действительности сделал, она догадалась только впоследствии. Ещё ранней весной 2005-го они с женой пригласили её однажды в гости (что было событием вполне обыкновенным). В разговоре за столом проскочила тема «Мастера и Маргариты» с явной целью узнать, не воспринимает ли Алёна окружающую действительность по аналогии с этим романом. Нет, не воспринимала. Но как она поняла впоследствии, поскольку с ней невозможно было ничего сделать, нервных срывов больше не наступало, то Барбисовину было интересно, что же именно происходит, почему она вдруг стала так устойчива к бесконечным психологическим манипуляциям и издевательствам исподволь (а она к тому времени, особенно после потрясения, слишком многое поняла и почти окончательно осознала происходящее не как набор случайностей и стечение жизненных обстоятельств, не как причинно-следственную связь своих и чужих личностных характеристик, а как войну, действительную межцивилизационную войну с непривычным арсеналом вооружений). Барбисовина занимало, можно ли «из-под ковра» что-то ещё с ней сделать, на чём-то сыграть. Последовал толстый намёк, что неплохо бы ей написать письмо о её нынешней жизни, о том, чем она, как говорится, дышит, о чём молчит с таким стоицизмом. (Огромные письма давно были чуть ли ни единственным применением её литературных способностей. Поскольку потребность писать была сильна, то письма ей «разрешали» в качестве громоотвода: и душеньку успокоит, и толку с этого всё равно не будет, и сама позволит психотехнологам лишний раз ещё лучше её понять.) Несколько завуалированную просьбу она восприняла так, что Барбисовину, видимо, нужна более подробная информация, «чтобы принимать меры во спасение». Она собралась не сразу, но через неделю коротенькое по её меркам письмишко на двадцать страниц было готово. Это оказалось одним из её лучших писем: яркое, с юмором, с оборотами. Интенсивного цитирования мыслей тогда ещё не случилось, но, по сути, письмо было вот об этом же: о происходящем с ней и вокруг неё. Барбисовина она ещё воспринимала как старшего друга.
Она, глупенькая, написала его в единственном экземпляре, уничтожила черновик и везла его даже не в пакете, а на себе, под шубой, «чтобы врагам не досталось». Барбисовин в своём кабинете письму обрадовался, забрал его охотно. Алёна не сомневалась, что читать его он будет как можно скорее, и если не сразу, то, во всяком случае, сегодня же. Этому «живому богу» она верила беззаветно.
На какое-то время он с её горизонта исчез, не появлялся (работали они в разных отделах). Дней через десять она пришла сама прощупать почву. Он сказал ей, что письмо сейчас пока читает жена, «продирается сквозь почерк». Это была ложь абсолютная: во-первых, были причины, связанные с сыном, по которым ей бы это письмо он точно не показал (да и вообще, не мог он его не прочитать сию секунду, никак не мог, — иначе бы не «выпрашивал»). Во вторых, и это было дело давно и всем известное, почерк у Алёны — наипонятнейший. По крайней мере, когда это не скоропись, а текст, предназначенный для чтения кем-либо, кроме неё самой. А уж с ЭТИМ письмом она тем более постаралась. Так что он врал, но врал открыто, так, чтобы она НЕ МОГЛА поверить. А значит, как она считала, его «враньё» было просто откровенным для неё манёвром. Она ещё совсем не готова была предположить, что он искренне держит её за ТАКУЮ дуру. И ещё он сказал странную вещь:
— Больше не пишите. Вообще ничего, — Алёна честно не писала год.
…Вот что значит убеждённость, вера, особенно слепая!.. Ей тогда даже в голову не пришло, что здесь что-нибудь может быть не так. Дальше он целый год мог делать что угодно, а она изощрялась, изобретая себе объяснения в пользу того, что он — самый порядочный на свете человек, и ничего другого просто быть не может, кроме того, что он, спасая её и негласно подключив к этой истории какие-то более влиятельные и могущественные структуры, вынужденно ведёт какую-то двойную игру…
Но вообще, в этой вере кто-то (кто обычно) мог её искусственно поддерживать «изнутри»: без той веры в порядочность Барбисовина она бы в тот год просто не выжила. Родители, не посвящённые ни во что, так за неё переживали, что становились просто опасными и могли в любой момент наломать любых дров, начав её «спасать» на свой манер, а все остальные, особенно в Музее, в соприкосновении с ней тем более становились совершенно ненормальными и вытворяли такие вещи, которые в обычном состоянии никогда бы в жизни делать не стали и не смогли. Например, научные сотрудницы в курилке в случайном «разговоре между собой» в деталях описывали её комнату и даже Мишку (большую игрушку ещё из алёниного детства, побывавшую даже в Германии и вернувшуюся вместе с ней), — на Мишку она, сидя дома в комнате, часто смотрела в своих раздумьях или даже что-то «ему» рассказывала (когда хотела высказаться, зная, что её «слышат», и выбирая для этих разговоров себе под нос «благовидный предлог», адресата), — они описывали его, неприятно над ним подхихикивая. Но это ещё цветочки: часто в таких «случайных» разговорах «между собой» (но ей в лицо) выдавались куда более интимные и неприятные детали, которые уж тем более не могли быть совпадениями, особенно в таких количествах… И вот, бывало, что она внутренне совсем уже приходила на грань последнего нервного срыва, но тут вспоминала Барбисовина и в голове что-то ударяло: «Анатолий Львович!!!» — она успокаивалась, приходила в себя, выходила из штопора: «Ведь Анатолий Львович всё знает, он что-то делает, у него такой мощный, уникальный интеллект, а значит, всё обойдётся». Рассказать обо всём этом никому было невозможно под угрозой психиатрической расправы.
Шёл 2005 год, когда «цветные революции» были на пике актуальности, и Алёна, в силу некоторых вполне конкретных причин была уверена, что программисты и явные психотехнологи, работавшие в компьютерных отделах в каком-то очень уж странно большом для музея количестве, занимаются, например, созданием анимационных роликов психологического подавления и прочих воздействий, — что здесь, в Музее — один из петербургских штабов каких-то «цветных» дел, тем более, что они получали зарубежные гранты, с которых и Алёне немножко перепадало «на бедность». И то сказать, в каком-нибудь Физтехе за программистами в такой горячий период могли бы и присматривать, а в Музее, как казалось, такое и в голову никому не придёт… А как ни относись к российскому правительству, но вот ЭТО (!!!) «цветное» дело было настолько очевидно, вопиюще грязным и ни к чему хорошему не ведущим, что уж тем более, она не могла заподозрить ни в чём подобном Барбисовина.
Он, во вполне ЦРУ-шной манере, предпочитал действовать чужими руками и вообще особо не светиться, а потому сколько-нибудь явного участия в алёниной жизни и работе не принимал. Но к осени 2005-го её вера в него и его помощь, похоже, ему надоела: она дискредитировала его перед всем Музеем, и могли подумать, что действительно это он ей помогает. (Такой «дискредитации» Барбисовин боялся.) А ей, и правда, кто-то помогал, но никому не удавалось обнаружить, кто. Например, на день рождения ей, как водится, готовили очередную неприятность. Она как-то рассказала, что ей нравятся огромные коньячные фужеры, в которые коньяк наливается на самое донышко, чтобы греть такой фужер на ладони, наслаждаясь ароматом. В начале застолья ей подарили два таких фужера, самых больших и пузатых, какие только можно было найти (но действительно коньячных), а в сторонке уже виднелась бутылка какой-то гадости. Что бы это ни было, но сделано всё было бы технологично, «виновата» она была бы сама. Вдруг её срочно вызывают в другой отдел в другом крыле Музея к человеку, который уж вообще ни во что не посвящён, и ей приходится интенсивно работать за компьютером под его руководством, что-то там оформлять. Возвращается она к концу рабочего дня и, соответственно, застолья. Программисты испытывают такой облом, что даже перестают следить за выражениями лиц, на которых всё написано. А она, успев съесть вкусненького, спокойно уходит с подаренными бокалами отмечать в другом месте… И т.д. Алёна была искренне убеждена, что помогал ей именно Барбисовин или кто-то другой с его подачи, а тот смертельно боялся, что так подумает весь Музей… Он даже попытался, было дело, немножко уронить себя в её глазах — не вышло.
Где-то в конце сентября, что называется, началось. Алёна с утра, собираясь на работу, начала вспоминать историю её дальних родственников со стороны матери — в Крыму, куда глава того семейства когда-то после войны сбежал из Ленинграда, вторично женившись на местной учительнице и обустроившись и родив младшую любимую дочь. Уже позднее, уже на её памяти (воспоминания детства) кончилось всё очень трагически. Она вспоминала, и незаметно воспоминания превратились как будто в рассказ, она как будто мысленно разговаривала с кем-то, отвечала на вопросы, даже спорила. Доехала до Музея, а там по дороге её к отделу сидела молодёжная компания сотрудников. Они, опять же, разговаривали как бы между собой, но сказано это было очевидно и достаточно подчёркнуто именно ей, с вызовом:
— Теперь мы с тобой и дальше будем разговаривать долго и много.
После ещё нескольких таких эпизодов она пришла однажды домой, села и написала очень большое матерное стихотворение о Музее, — почти обо всех, с кем она там была в контакте. Барбисовин в число выматеренных тогда ещё не входил. Её мало волновала достоверность, цель была — зацепить по максимуму, обидеть. Она тут же выучила его наизусть, благо, с этим-то проблем никогда не бывало, и вот это стихотворение она на работе мысленно читала по кругу три оставшихся месяца 2005-го, и в курилке, и даже за компьютером, особенно выполняя монотонную техническую работу. И они «слышали». И ничего не могли сделать, как и она до тех пор: не предъявишь же ей претензии в том, что она не говорит, но думает…
Они понервничали, но взяли себя в руки; отношения даже как бы улучшились, но явно началась «завершающая фаза». Её всё чаще стали пугать смертями, как реальными, так и придуманными. Умерла, как ей сообщили, немножко знакомая ей двадцатилетняя девчонка, «неудачница». А таким психотехнологи права на жизнь не оставляют, обычно не зная, что до них или одновременно с ними над человеком поработала другая бригада психотехнологов, и ещё, и ещё, так что «продукт» такой работы к изначально реальному человеку может не иметь отношения вообще, в то время как теми, кто назначен, наконец, в психологические киллеры, вывод делается однозначный: это человеческое недоразумение из нашего мира, всё более совершенного, можно убрать, — да и вообще, зачем жить неудачнику и пр.? Одной молодой сотрудницей-программистом нечто такое говорилось Алёне даже прямо, правда, о другой женщине, тридцатисемилетней, которая умерла, оставив тринадцатилетнего сына, «но сына вырастит отец, а для неё самой это к лучшему: впереди у неё сплошные врачи и она всё равно никогда не будет счастлива». Что же касается той девчонки, то «неудачницей» она была всего лишь потому, что ей никуда было не устроиться на работу, её никуда не брали и не давали никакого движения. (Уж теперь-то Алёна хорошо знала, КАК иногда в действительности происходят подобные вещи...) В Музее всё это была в основном молодёжь и с девчонкой этой все они, тем не менее, дружили и ездили в археологические экспедиции. У служебного входа тогда висел даже некролог, но Алёна очень сомневалась в достоверности этой смерти: слишком странной была их реакция. Для них её смерть не стала не то что трагедией, а даже событием. С другой стороны, она относительно давно уже начала обращать внимание на то, что люди вообще как-то не так стали переживать трагедии, даже родители — смерть детей. Впоследствии она и сама не плакала, похоронив родителей, хотя на самом деле пережила всё это очень тяжело. У неё как будто был поставлен какой-то запрет на то, чтобы не только выражать эмоции, но даже испытывать их.
Но тогда же, в конце 2005-го, ей рассказали в красках и ещё одну историю, якобы одна женщина, сотрудница, вдруг умерла за компьютером на рабочем месте. Вот тут-то Алёна знала совершенно точно, что ничего подобного на тот момент, в 2005 году, в Музее не произошло. Хотя, в окружении ТАКИХ программистов умереть за компьютером реально и уже теперь, в третьей Москве, обоснование возможности таких убийств в специальной литературе она нашла. А в Музее подобная история действительно приключилась, но спустя полгода и в связи с совсем другими событиями. Вероятно, на месте той женщины, совсем по другим причинам, на стыке 2005-2006 годов и должна была оказаться Алёна, — к тому и готовили… Как знать, может быть через полгода реальная преступница-жертва была убита действительно затем, чтобы никому ничего не успела сказать, а может, перед какими-нибудь грандодателями у них оставался несданный зачёт по компьютерному убийству и они воспользовались новым «удобным случаем», как знать... В общем, под Новый год Алёна решила сделать презрительный жест и ушла из музея в дворники. До её появления в приёмной ФСБ РФ оставался месяц. Пока что она этого даже не планировала, хотя, мысли такие бродили.
Дворники, судя по объявлениям в газетах, требовались в изобилии, но устроиться она почему-то не могла никак: то «уже взяли», то трубку не берут, то зарплату вдруг предлагают не заявленную, дворницкую, а хуже «белой» музейной... В конце концов, через клининговую фирму она устроилась даже не дворником, а буквально помощником дворника в гараж в подвале элитного бизнес-центра на Невском. Гараж её порадовал: иметь дело с машинами, да ещё с хорошими, было куда приятнее, чем по-бабьи махать тряпкой или метлой. Но оказалась она опять (опять!) в психотехнологической среде дворников с образованием и уборщиц-моделей. Убираться, особенно среди машин и зарабатывать вполне приличные деньги можно было бы ещё довольно долго, но психотехнологий в таком количестве, как там, она выдержала не больше месяца. Барбисовину она говорила: «Ушла в дворники, а впечатление такое, будто всё равно работаю в Музее, в той же организации. Не в такой же, а в той же самой».
В тот день, когда она увольнялась, она уже собиралась, придя домой, сесть писать заявление в ФСБ, и стало совершенно очевидно, особенно по окончании той истории, что по некоему плану она должна была в самый последний момент поломоечной машиной разбить иномарку. Перспективы её в этом случае были бы самые мрачные: необходимость выплачивать ущерб закабалила бы её здесь очень надолго (и её бы, конечно, психологически добили), а появись она после такой «своей оплошности», только что разбитой иномарки, в Москве в ФСБ РФ с заявлением о преследованиях, вид она имела бы самый бледный. Ни о каком ФСБ речь бы уже, конечно, не шла.
А другого выхода, кроме ФСБ, ей было уже не придумать: всё однозначно шло к концу. Ситуация со здоровьем родителей становилась всё более устрашающей и ей было очевидно, что происходить всё должно именно у неё на глазах, тем более, что носило всё это тоже характер какого-то бреда и измывательств. Вокруг отца шла какая-то явная и дурацкая медицинская игра на тему кардиологии. (Умер он впоследствии совсем с другим диагнозом, ни к какой сердечно-сосудистой системе отношения не имевшим). У матери тем временем заболела поясница, и снимок показал невесть откуда взявшийся компрессионный перелом позвонка, причём, не только строго лежать, но и никакого корсета носить ей даже не предложили, пока Алёна не подняла-таки шум своим заявлением. Вот тогда спохватились, и надеть корсет матери всё-таки предписали. Только Алёна уже не сомневалась, что никакого перелома там, конечно, нет и быть не могло. Ещё до всякого заявления она застала свою патологически честную маму, которую никогда в жизни нельзя было бы заподозрить в сознательной симуляции, за рытьём в шкафу — и вприсядку, и внаклонку, и вприпрыжку. Всё это вместе взятое уже даже не производило впечатления заговора. Не оставалось сомнений, что у них у всех, и у коллег, и у врачей, и у пациентов что-то очень странное и серьёзное происходит с головой. Хором.
В общем, шёл последний день одного месяца алёниной работы дворником в гараже. Ещё до обеда там вдруг появилась не самая дорогая иномарка, вся в каком-то грязном, застарелом снегу, — в тот почти бесснежный день почти бесснежной зимы. Однако, номер машины ничем залеплен не был, ярко демонстрируя «страшную цифру» «13». Алёна внутренне ухмыльнулась: «Чёрт с вами, Андерсоны хреновы. К машине прикасаться всё равно нельзя, — пусть постоит пока, пообтает. Комья снега обвалятся — пол подчищу», — и пошла греться, пить чай.
Там ей сунули подписать задним числом какую-то должностную инструкцию. Она подписала не глядя: как-никак, всё равно последний день работы. Чай в тёплой комнате разогрел, разморил... Никто никуда её не торопил, и Алёна расслабилась, чуть не уснула. Потом поднялась и, разморённая, поплелась подчистить напоследок пол гаража. Шли последние пара часов её последнего рабочего дня.
Иномарку, оказывается, уже отогнали чуть вперёд, и грязные комья тающего снега лежали сзади неё. Алёна включила поломоечную машину и начала уборку. Находилась она при этом в какой-то прострации. Голова не работала. Дальше случилось «чудо».
Она, ничего не соображая, вела работавшую на приличном ходу тяжёлую поломойку прямо на иномарку. Она даже ничего не успела подумать, ни на что среагировать. В полуметре от машины её руки САМИ развернули поломойку, провели её в нескольких сантиметрах от иномарки и выключили двигатель. Только тогда Алёна очнулась, начала приходить в себя и понимать, ЧТО сейчас могло случиться. И — НЕ СЛУЧИЛОСЬ.
Она могла поклясться чем угодно, что поломойку от машины отвела не она, НЕ ЕЁ воля или реакция, — произошло что-то другое. Иномарка осталась целой. (Годы спустя, вспомнив эту историю, она подумала, что её хорошо рассказывать, когда ничего не случилось. Даже если ей никто не поверит, это ни к каким страшным последствиям не приведёт. А Евсюков — стрелял, и люди — погибли. Конечно, она никогда не знала, кто он такой и что там было в действительности, но она точно знала, что такое вероятно: «команда» стрелять МОГЛА быть дана извне. Конечно, с бухты-барахты такую «команду» выполнит не всякий, — с другой стороны, такой «теракт» может психологически готовиться сколь угодно заранее, да и человека на его исполнение подбирают не любого. Зря только ему насоветовали сказать, что он ничего не помнит: такие вещи происходят иначе, — человек всё помнит и если он ни о чем подобном не знает заранее, то он верит, что сделал это сам, только не понимает, что вдруг на него нашло, как такое случилось. И никому ничего не докажешь. И что бы там, в действительности ни стряслось с самим Евсюковым, но совершенно очевидно, что подобных «терактов» было не десять и даже не сто. Каким бы Евсюков ни был, но вероятно, что без «команды» извне люди могли бы не погибнуть. (И не было бы экстренного повода для перетрясок, преобразований и переименований в милиции-полиции.) А Алёну, наоборот, кто-то вытащил из беды: она всё помнила, но могла поклясться, что находилась в полной психологической (или волевой) отключке. И тоже никому ничего не докажешь, — но здесь это не страшно: ничего не случилось. Это трудный вопрос: с одной стороны знание о подобных вероятностях и о необходимости контролировать свои внезапные побуждения может само по себе предотвратить много бед, хотя и не стопроцентно, с другой стороны, такое знание как общепризнанный факт само по себе может развязать руки тем, кто хочет отнюдь не предотвращения бед. Это — проблема, но её надо решать. Решает ли кто-нибудь?..)
Перепуганная, она доубиралась осторожно и аккуратно. Вычистила поломойку, сняла перчатки, выдохнула и пошла в предбанник курить. Последний рабочий день был закончен. БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ.
В курилке сидел молодой, совсем неинтеллигентный, но умный и франтоватый старший дворник, инженер в прошлом. На Алёну он смотрел выжидательно и напряженно. Она небрежно бросила перчатки, села рядом, прикурила, спокойно откинувшись на спинку. Дворник явно чего-то не дождался, вскочил, как подорванный, помчался в гараж что-то смотреть. Смотрел в сторону той иномарки. Она была цела.
Он понёсся в охрану, туда, где размещался пульт видеонаблюдения. Оттуда вышел какой-то обалдевший, присмиревший и сразу ретировался. Алёна, никуда не торопясь, прикурила вторую сигарету.
Чуть ли ни с визгом к воротам гаража подъехала ещё одна машина. Алёна решила не выпендриваться, не лезть в бутылку, что она здесь больше, не работает, но с ленцой встала и открыла ему огромные двери. Заезжая, дядька, кажется, готов был по пояс высунуться из окна машины, впившись глазами в ту самую иномарку. Она была цела.
Уходила Алёна в полном одиночестве. Складывалось впечатление, что все окружающие где-то сидели в столбняке. Старшая смены не вышла даже попрощаться, принять по описи униформу, — прислала кого-то другого. Потом помещения, обычно многолюдные, как вымерли. Не было вообще никого. Алёна так и ушла молча.
Пришла домой и, даже не отсыпаясь, села писать заявление в ФСБ на 42-х страницах. Суть этого заявления была классическая: «Что делать?»
Хотя она давно уже была уверена в том, что туда, в ФСБ, её кто-то ВЕДЁТ (тогда считала, что они же это и делают, что её там ждут, и само по себе последнее, вроде, оказалось правдой), но страх не покидал её, автоцензор работал без передышки, и она старательно балансировала между эзоповым языком и тем, чтобы всё же хоть как-то была ясна суть. «Плохих» имён даже не называла (дело было вовсе не в Машах-Дашах-Петях-Васях, а в гораздо большем). Она пыталась объяснить, что происходит по большому счёту. Барбисовина по фамилии не называла, но указала должность, — именно потому, что ей хотелось точнее показать, КТО друг. Но Музей, будучи упомянут, занял ничтожную часть того заявления. Там были и детство, и школьные годы, и Германия, и «Фиолетовые», — липовая жизнь липовой личности. О цитировании мыслей тоже было сказано, достаточно отчётливо, но всё же не так прямо, как если бы она говорила без страха. Это потом, позднее, — чего она только ни понаписала! А тогда она страшно боялась, особенно если ей всё же померещилось, что направление задано КЕМ-ТО, или если ей кто-то просто задурил голову, — она страшно боялась, что её попросту объявят сумасшедшей.
История с НЕ разбитой, к ужасу всего бизнесцентра, иномаркой, воспринятая ею как дорога, расчищенная для этого заявления (вероятно, так оно и было), успокаивала, но уверенности она не чувствовала ни в чём. В какой-то момент пришла «поддержка» (тоже неизвестно ещё, чья). Она рассказала в письме-заявлении, как отец забирал её, больную, на машине из первой Москвы (как потом выяснилось — получать неизлечимый аутоиммунный диагноз, оказавшийся впоследствии липовым). Они с отцом остановились на заправке где-то между Москвой и Петербургом. Заправка стояла у дороги, и больше там не было ничего: трава на большом диком пустыре и вдалеке — лес. У заправки стоял домик известного назначения, — деревянный, но даже вполне цивильный, с водопроводом и электричеством. Пока отец заправлялся, Алёна направилась именно туда. Служительница (которая там была, убираясь и собирая деньги) смотрела телевизор. Алёна вошла и — «чудо»! Чуть ли ни единственный раз за всю их историю по телевидению показывали «Фиолетовых», — американские психологические тренинги, которые Алёна напосещала вдоволь, и в Петербурге, и даже в Москве, попав на эти тренинги, когда работала старшим методистом литературно-мемориального музея (который и оплатил их тогда многим сотрудникам, поскольку у «Фиолетовых» была лицензия от Министерства образования). Хорошо знакомая ей пожилая инструкторша вела открытый тренинг, «мастер-класс».
Перечисляя в письме-заявлении невероятную, невиданную череду подозрительных совпадений, которые она давно уже именовала не иначе как фокусами, она рассказала и об этом. «Представьте себе, — остановились мы случайно, наугад, и вот, в деревянном сортире в чистом поле, именно тогда, когда туда захожу я, чуть ли ни единственный раз за всё время их существования по телевизору вещает Карина. Я и так собиралась к ним наведаться, а тут, уж конечно, я восприняла это просто как знак судьбы!.. Только много было подобных «знаков», ненормально много». Едва она всё это написала и пошла попить чаю, ведущая теленовостей с лучезарной улыбкой до ушей напомнила о том, как Путин когда-то обещал мочить террористов в сортире... Телевизионные фокусы, подобные этому и похлеще, повторились ещё. Алёне, самой или тоже под воздействием, казалось, что это — именно поддержка.
За два с половиной года до написания заявления был очень острый, критический период, когда она пришла к убеждению, что ТАКОЕ вытворять могут только спецслужбы, и не важно, чьими руками. Ей оставалось понять, чьи же это непосредственно шуточки, ЦРУ или ФСБ. Ни тем, ни другим она, по логике вещей, не была нужна абсолютно, но и все остальные версии уже пришлось отбросить. Череда событий и фактов, включая американское происхождение «Фиолетовых», указала ей на ЦРУ. Если то, что с ней (и как она уже увидела, не только с ней, и преимущественно с самыми что ни на есть летальными последствиями) происходило — это часть плана геноцида российского народа и сталкивания его к деградации, то всё, вроде, становилось на свои места. (Позднее сюда добавился ещё криминал с его претензией на абсолютную власть, но сути дела это не меняло, тем более что криминал такого уровня тоже замешан на политике). Если бы она пришла тогда к выводу, что это — ФСБ, то в ЦРУ она бы, конечно, точно не пошла. Наверное бы, просто свихнулась от ужаса. Но, как и с чем отправиться в ФСБ, прося о помощи, она тогда не знала совсем. Теперь же собралась с духом и писала.
Написав, она позвонила в семью Барбисовина, прося срочной аудиенции: она хотела рассказать им, куда собралась, чтобы ничего не предпринимать у них за спиной, а разговор это был совершенно не телефонный. У них не нашлось для неё времени. (Вероятно, ещё и в связи с иномаркой в гараже, НЕ разбитой непонятным образом). Тогда она решила позвонить после, когда дело уже будет сделано, и вместо визита к ним отправилась на Московский вокзал. Назавтра она была на Лубянке.
Некоторые метания ей ещё предстояли, но по существу это начиналась вторая Москва. Позднее она убедилась в том, что уехав тогда, она действительно подарила родителям пару лет жизни: вся ахинея с их здоровьем на тот момент сразу закончилась. Но если первая Москва, несмотря на общий нехороший контекст, подарила ей очень много светлых и продуктивных периодов жизни, то теперь начинался сплошной кошмар. Однако теперь было предельно ясно, что всё это (как и «неприятности» первой Москвы) преследует единственную цель: вернуть её в Петербург, поскольку программа её медленного и псевдоестественного уничтожения, «написанная», видимо, ещё до её рождения (как элемент воздействия на ближнее и дальнее окружение, элемент создания определённого упаднического общественного настроения) была под Петербург и «заточена». И Алёна стояла насмерть. Вот только не на родительскую, — на свою...
Но когда Алёна в начале 2006 года отправилась с заявлением в ФСБ, ничего плохого и не случилось, — просто родителей сразу оставили в покое с медицинскими «фокусами». Так она впервые появилась в приёмной, и приняли её, вопреки всем опасениям, приветливо, улыбчиво и не вежливо даже, а в официальных рамках почти радушно (как она позже увидела, встречали там так далеко не всех). Заявление на 42-х страницах приняли безоговорочно и велели ждать месяц.
По возвращении в Петербург через два дня она немедленно позвонила Барбисовину и теперь уже сказала открытым текстом, что была в Москве в ФСБ и подала заявление. Время принять её дома нашлось немедленно. Это была пятница, а ей он назначил на ближайший понедельник. За выходные они, оказывается, эвакуировали из квартиры взрослого сына. (Обрадовались, что их сейчас арестовывать прибегут, размечтались... Интересно, ЧЕГО, раскрытия КАКОЙ тайны они так боялись?..)
Сначала её немножко напоили горячим глинтвейном, после которого её вдруг понесло рассказывать всякую чушь, дурацкие мелкие детали — вместо настоящей и серьёзной правды, которую она как раз и собиралась поведать. Барбисовина Алёна не видела таким никогда в жизни. Он метался, покрывался пятнами, дрожал, текст заявления оторвал с руками и принялся читать сразу (а она заранее и отксерила его именно в этих целях). Жене он сначала пообещал его показать, рассчитывая, видимо, что там — банальный донос и сейчас он убьёт Алёну в глазах жены. (Интересно, донос — НА ЧТО? — видимо, БЫЛО что-то такое, о чем она и не подозревала...). Или дело было именно в подготовке «цветной» революции, о чем она как раз ничего не писала, не имея на руках ни доказательств, ни достоверных фактов? Неужели она настолько догадалась?.. Но в заявлении этого не было. Убить её в глазах жены было нечем. Поэтому жене он этого неожиданно читать не оставил, вдруг вернув Алёне текст и велев забрать с собой.
Было там нечто совсем другое. Скольким людям она давала это читать — никто, кроме Барбисовина, даже ничего толком не понял: какие-то общие слова, воспоминания, ни одного факта... Но там была как раз именно СУТЬ. И произошло нечто убийственное: не дав жене читать текст, он читал вслух отрывки, профессиональнейше сфальсифицировав его содержание... Вплоть до... низости какой-то. У неё была описана медитация у «Фиолетовых», а он, ничего не объясняя и не комментируя, выхватывает из контекста: «Свет погашен. Все лежат на полу в удобных позах», — Алёна, чуть ни в слезах: «Но это же о медитации речь!» — нет, он — дальше, в том же духе. Всех мелочей по тексту уже и не вспомнишь, но содержание было сфальсифицировано и извращено. А для жены он — уж тем более был БОГ.
Под конец Барбисовин сказал, что с ФСБ дела никогда не имел, но теперь будет принимать меры, раз уж письмо УЖЕ ТАМ. Связи у него были ядерные. Конечно, как раньше, так и теперь, он рассчитывал, что глупости пускай себе делает весь этот гитлер-югенд, а уж он-то, такой умный, всё организует тихо и аккуратно, оставшись в стороне и не на виду…
Придя домой, она ходила по комнате, схватившись за голову и приговаривала: «Боже мой, я вообще ничего не понимаю в людях!..» На неё посыпались озарения, и о том, что было в последний год, и о том, что стояло за этим общением все двадцать лет. В её памяти всплыл эпизод примерно десятилетней давности, когда она рассказывала Барбисовину о каких-то своих неприятностях, а он с каким-то подтекстом утвердительно-философски заметил:
— Алёна, всё идёт по плану.
Тогда её эти слова, помнится, несколько внутренне смутили (она восприняла это как шутку, но нехороший какой-то в этой шутке получался «план»), но ей даже в голову не пришло спросить: «ЧТО за план? ЧЕЙ план? МНЕ он зачем нужен?»
И в те дни посыпавшихся озарений, и позднее, когда начиналась и разразилась трагедия с её родителями, она стала одно за другим вспоминать его реплики, комментарии, эмоциональную окрашенность тех или иных слов, и картинка в её сознании сложилась совсем другая, новая: всё это время он презирал её родителей (особенно отца), с которыми никогда не был знаком, и уж тем более её саму, старательно собирая как минимум в его собственной памяти весь негатив, весь возможный компромат, все те психотехнологические заготовки, которые ему подкидывали через неё психотехнологи, кукловоды, невидимые до поры ни ему, ни ей... А раньше всего этого понять, посмотреть на вещи вот с такой точки зрения она не могла: зачем же вообще тогда было это общение, зачем нужно было его длить, когда так несложно казалось прервать, причём очень давно?.. Тогда же, после того последнего разговора, через пару-тройку дней маеты, Барбисовин перестал для неё существовать как живой человек, — остался образ предателя и злодея под высокоинтеллектуальной и интеллигентной маской. А вот она для него, похоже, существовать начала...
В ФСБ её заявление переслали, как положено, в Петербург, по месту прописки, где через месяц из УФСБ по Петербургу и ЛО она получила вежливый отказ вместе с пачкой своих проштемпелёванных текстов. (От Петербурга она ничего другого и не ждала, уже имея некоторый опыт). Только она уже чувствовала, что история не закончена. Так оно и было.
После отказа ситуация со здоровьем родителей стала опять ухудшаться. Довольно быстро возобновились и её собственные «неприятности» — по нарастающей. Через месяц она собралась и рванула во вторую Москву, окончательно. Родителям позвонила уже с вокзала, попросив прощения и пообещав регулярно звонить и приезжать на выходные каждый месяц или два (что выполняла дотошно и пунктуально). Идти после отказа в ФСБ она, в общем-то, не планировала, — ей главное было уехать. За три первые же дня её и в Москве немедленно довели её до ручки.
Во-первых, она собиралась разыскать молодого парнишку, Игоря, с которым работала в полиграфическом отделе рекламного агентства ещё летом 2002-го, в первой Москве. Уже теперь, осенью 2005-го, в последнее полугодие работы в петербургском Музее, когда её собственная психологическая ситуация стала невыносимой, до неё дошёл слушок о самоубийстве Игоря. Её сразу как ошпарило: такое ведь действительно могло случиться.
В первой Москве, до осени 2002 года, ей уже невозможно было не видеть, что вокруг неё самой происходит нечто запредельное, но тогда она всё ещё пыталась объяснять себе это естественными причинами. В странных уже тогда преследованиях с какими-то возможностями выше нормальных, она всё ещё видела след былого конфликта в первой московской фирме, упорно считая, что главный враг её, Рябочёв — «КГБ-шник с соответствующими связями», а отсюда — и невероятные возможности информированности и травли. Как стало очевидно позднее, ФСБ в её глазах действительно кто-то упорно и целенаправленно подставлял, вплоть до того, что ей несколько раз устраивали шутовские демонстративные слежки. А перестроечная и постперестроечная антикагэбэшная кампания наделила эту организацию в глазах обывателей буквально инфернальными чертами (о ЦРУ тогда в порыве братания с ухмыляющейся Америкой забыли вообще), так что когда вдруг происходило нечто жуткое и необъяснимое, то ответ на вопрос: «Кто?» — у многих был заранее готов: «Если не чёрт, то КГБ». Пока она маялась во всех этих своих ужастиках, она проворонила Игорька. Тогда ей ещё совсем не могло прийти в голову, что всё это может касаться не только её одной.
Игорь был на тринадцать лет младше тридцатишестилетней тогда Алёны, но формально даже считался её начальником. Однако дизайнерского опыта у неё было уже больше, и он у неё охотно учился. Из агентства, помнится, тогда уволился (был выжит) весь коллектив, молодой и весёлый (столь же весёлая и моложавая Алёна оказалась в их компании своей, равной).
Надо сказать, что всего лишь десять лет назад молодёжь была ещё другая, «на старых дрожжах», — мышление ещё не было так алгоритмизировано, а значит, они были куда более ЖИВЫМИ, интуитивными, ещё не начинали так безнадёжно путать свои алгоритмы и чужие, привнесённые, что грозит с лёгкостью и полностью попадать под чужое «управление». Их ещё не замкнули тогда на собственные насущные проблемы, кроме чужой индивидуальной психологии (читай: «садизм»), да и то фальсифицированной. Их ещё не замкнули на свои частные дела (деньги, карьера, любовь или просто секс), кроме которых они не хотели бы больше ничего знать, когда им уже можно было бы по большому счёту врать и внушать, что угодно, а у них исчезли бы все ориентиры и критерии. Мозги работали ещё вживую, интуитивно и разнообразно. С ними ещё можно было действительно интересно поговорить. Какие-то жалкие десять лет, а как резко всё изменилось! И вообще-то, это — десять лет правления петербуржцев в стране… Что это, какая-то дикая государственная политика «европеизации», когда от Европы надо взять, как обычно, всё худшее (а на самом деле — по максимуму отупить народ, чтобы он не мешал им, этим народом, управлять), или просто следствие ведения консциентальной войны, с которой данное отдельное государство справиться действительно не в состоянии?..
А тогда, в 2002-м, вдвоём с Игорем они даже пытались устраиваться вместе на новую работу, так они успели сработаться. Одно время ещё вместе халтурили у него дома за компьютерами, его собственным и его гражданской жены Марины. К слову сказать, именно Игорь за пивом «напророчил» ей душераздирающий диагноз за месяц до того, как у неё начались проблемы с глазами, и за пару месяцев до того, как диагноз был поставлен. Но обвинить его в осознанном или хотя бы добровольном участии в той «кампании» было бы немыслимо. Потом «жизнь» их раскидала. Ей пришлось вернуться в Петербург получать и впоследствии опровергать страшный диагноз неизлечимой аутоиммунной болезни.
Так вот, когда позднее в Петербурге до неё дошёл слух о его самоубийстве, в её воспоминаниях всплыла очевидная и стройная схема его собственного психологического уничтожения. Для подавления же человека, особенно окончательного, в первую очередь используются методики сексуального подавления, даже когда при этом по тем или иным причинам (возможность нежелательной огласки и пр.) не прибегают к открытому криминалу. Подходы к женщинам и к мужчинам в этом случае различны, но суть одна. Алёна ещё в те времена даже заметила со стороны одной лихой девахи применение в отношении Игоря техник НЛП (на тренингах-то она восприняла многое, да и начитаться тогда чего-то уже успела). И даже написала ему об этом большое письмо, предупредив, как умела. Но она тогда сама ещё восприняла эту девку просто как психотехнологически натасканную сучку, запавшую на красивого, эффектного парня, — она ещё не увидела во всём этом СИСТЕМЫ и чего-то большего, нежели её собственные разборки с кем бы то ни было. В целом же, у него происходил ещё какой-то полный обвал с работой, далеко не с первой, и с выплатами денег, причём, началось это более чем за полгода до знакомства с Алёной (что она теперь особенно для себя отметила, испугавшись, не из-за неё ли угробили кого-то ещё). Перед ней проскочили некоторые его нехорошие сексуальные историйки, неприятные для него и связанные, что интересно, не только с той серьёзно обученной девицей. Его отношения с Мариной портились на глазах, а он метался, всё больше в чём-то увязая и не зная, как и куда из этого вылезти. Однако, опеки и учительства в любой области, кроме профессиональной, он от Алёны категорически не принимал, желая оставаться мужчиной.
(Впрочем, в действительности она и не сумела бы ничего сделать. Дилетанту-одиночке противостоять целой отработанной системе ЦРУ — это то же, что идти с пистолетом против танков. На гибель пойти можно (в этом бывает свой резон), но только когда понимаешь, что никакая практическая цель не будет достигнута заведомо. Хотя, даже то, что дело приходится иметь с куда более страшной системой, чем любая собственно человеческая, она поняла позднее, — тогда всё виделось ещё не так фатально.)
В конечном счёте, у него усиливалось ощущение замкнутого круга, безвыходности. Алёнин отъезд, страшные диагнозы и передряги это общение прервали.
Теперь, когда вечером, ближе к ночи, до неё, так или иначе, долетел слух о его самоубийстве, она назавтра же после работы понеслась проверять, звонить с центрального переговорного пункта (из полностью подконтрольного кому-то дома ей никуда звонить не хотелось). Она набрала московский номер Марины — ответил голос ребёнка лет десяти. Со времени первой Москвы, когда никакого ребёнка у них ещё не было, и к тому моменту прошло неполных три года. Алёна набрала номер ещё раз — то же самое. Правда, квартира у них тогда была съёмная, и в ней мог жить уже кто угодно. Матери Игоря, с которой у него была своя комната в коммуналке, она дозвониться не смогла: номер был наглухо занят.
Плюнув на всё, она приехала домой и стала звонить из дома. По обоим городским (не мобильным, — городским!) московским номерам ей раза по три ответили: «Абонент находится вне зоны досягаемости». Алёна поняла, что из Петербурга звонить бесполезно.
Теперь, оказавшись во второй Москве, первое, что она сделала — стала звонить Игорю из уличного автомата. По прежнему номеру Марины её просто резко послал старый мужской голос, а по номеру Татьяны (матери) она, наконец, дозвонилась. Какая-то взволнованная женщина ответила ей, что у Игорька всё хорошо, но больше они здесь не живут. Алёна стала упрашивать дать ей хоть какие-нибудь координаты. Женщина продиктовала телефонный номер. Этот номер опять оказался бесконечно занят. Алёна решила звонить позже и… в течение получаса у неё на улице стащили записную книжку. В общем, стало ясно, что это безнадёжно и ничего узнать она не сможет.
Вторая, кого она стала разыскивать назавтра (второй день второй Москвы) — это Лариска. Тем более что предыдущую ночь она переночевала в московской гостинице (ни о каких общежитиях Алёна тогда ещё знать не знала, даже в голову не приходило никогда) и тратить впустую столько денег больше было ни к чему. А Лариска бы точно помогла с ночлегом хотя бы на первые дни.
В первой Москве Алёна, было дело, даже снимала хорошую однокомнатную квартиру. Закончилась та история (вместе с тогдашней работой) опять какой-то мрачной ахинеей. Поскольку возвращаться в Петербург она не собиралась, она, проболтавшись по знакомым, тогда ещё имевшимся, осела в Подмосковье, в восточном направлении. Просто села в электричку, проехавшую намеченную ею станцию, и сошла, где попало, решив поискать жильё наобум. Поговорила с несколькими хозяевами домов и, в конце концов, набрела на Лариску. Оказалось, что у той был роскошный и обустроенный мужем частный дом с водой и отоплением, а ещё — плохонькая квартирка без удобств в другом частном доме по соседству. Эту-то квартирку она и готова была сдать за символическую плату. Туалет и вода — на улице метрах в пятидесяти, отопление — печка. Алёну устроило. Был апрель месяц, и дольше осени она там оставаться не планировала, ещё надеясь заработать денег и выкрутиться, ещё не поняв, что ей не дадут этого сделать.
Лариска была алёниной ровесницей с двумя детьми (как говорили, не от мужа, а неизвестно от кого) и выпивохой. Муж с ней не жил, уехав в городок поблизости, но и не бросал, навещая детей, переживая и всё надеясь вылечить Лариску от алкоголизма.
Всё это вместе взятое производило странное впечатление. Выпивка и гульба как-то не вязались с её трезвой натурой — широкой, доброй и, хоть тресни, по-своему крестьянски целомудренной. Внешность пропитой не была совсем. Детей любила, хотя, иногда и отстранялась от них, полностью полагаясь на старшую дочь. Пообщаться с ней трезвой или слегка подвыпившей было приятно, — Лариска оказывалась душевной и просто очевидно умной. Но когда запивала всерьёз — беда. Все, и соседи, и муж почему-то считали, что она обязательно бросит. И правда, глядя на неё вменяемую, просто невозможно было подумать, что эти пороки — всерьёз. Но бывало, что её как будто переклинивало, и она даже без выпивки становилась другим человеком. Уже позднее Алёна наблюдала такое в отношении совершенно иных, даже давно знакомых людей, и всё больше понимала, что выводы здесь надо делать вовсе не об этих людях. («Липовая жизнь липовой личности»).
В начале лета, когда Алёна уже устроилась в Москве на новую работу (где и познакомилась с Игорем), когда она очень рано вставала и ездила на электричках, бегая от контролёров за полным отсутствием, по первости, денег, она рассорилась с Лариской, не выдержав начавшегося бреда, и сняла домик без удобств, ещё похуже, но тоже за бесценок у другого хозяина. Лариска попыталась было увязаться за ней и там, но быстро отстала, загуляв.
С начала сентября у Алёны что-то случилось с глазами. Она ещё даже не представляла себе, что это такое, но почувствовала: произошло что-то серьёзное и придётся уехать.
Любопытно, что где-то в конце июля в разговоре с Игорем Алёна назвала этот диагноз и сказала дословно: «Это самое страшное, что может случиться с человеком». (Мать её давней юношеской подруги лежала не первый десяток лет в полном сознании с этим диагнозом, и подруга посвятила ей жизнь, отказавшись от собственной. Интересно, опять же, что по прошествии двадцати пяти лет стал вопрос, а было ли у неё это заболевание, и если нет — что же с ней всё-таки случилось, почему у неё повырезали половину внутренностей (что при всех сопутствующих заболеваниях для данного диагноза абсолютно не характерно, и не сделали ли из неё просто донора органов…) Алёна произнесла тогда слова о самом страшном, даже не представляя, что подписывает себе приговор, и с чьей-то подачи этот диагноз оказывается у неё на подходе… А потом, когда всё будет уже пережито, он будет снят.
В сентябре, когда глаза заболели, она, чувствуя катастрофу, позвонила отцу, чтобы он её забрал — с вещами и с её зоопарком, котом и крысой. (Тогда-то в дороге и был «сортир в чистом поле»). Умереть, чтобы только не возвращаться, она была ещё не готова, тем более что родители ещё жили тогда, волновались, ждали, и она не чувствовала себя вправе причинить им последнее горе. Кроме того, она, ещё не зная, что именно с ней происходит, всерьёз испугалась, что просто теряет зрение.
Лариска к тому времени протрезвела, опомнилась, они помирились. За Алёну она переживала, как за родную, и всё уговаривала: «А может, останешься, не поедешь? Может, обойдётся?..» — как ни странно, позже выяснилось, что могло и обойтись, но тогда это ещё не было известно, как и сам липовый диагноз. Лариска продолжала уговаривать: «Квартирка сдана, но ты живи в доме, он большой, я с тебя даже денег не возьму!..» Алёна уехала.
Теперь, назавтра после неудачных попыток что-то узнать про Игоря, Алёна ехала в тот посёлок. В электричке, как положено, купила билет, — ехала спокойно и вспоминала, вспоминала… «Только бы Лариска была трезвая! Уж она-то поможет, не бросит»
Подходя к тому большому дому, Алёна увидела что-то странное. Подошла ближе и поняла, что дома просто больше нет. Вместо него стоял новый каркас. Соседи сообщили, что два года назад Лариска сгорела в этом доме. Муж строил новый, живя пока с детьми в той самой дополнительной квартирке. Дочь была уже старшеклассница. Алёна дождалась их всех, со всеми поговорила и осталась до завтра. На большее рассчитывать было нельзя.
Узнав о случившемся, она в растрёпанных чувствах добрела до второго дома, где жила в то лето. Вспомнила Сергея, сына хозяина, тоже молодого студента Бауманки, который в те времена иногда заходил и с которым они подолгу болтали. Вскоре из Бауманки он был отчислен по каким-то дурацким и странным причинам, и позднее Алёна засомневалась, не из-за знакомства ли с ней. Сейчас и дом, и двор были наглухо закрыты, — в деревне ничего не знали.
Назавтра она, переночевав у ларискиных мужа и детей, поехала в Москву, чтобы всё же пристроиться впредь куда-то с ночлегом. Всё это время непрестанные мелкие фокусы продолжались по нарастающей. Например, ей навстречу пускали «призрак» Лариски: немного похожую тётку, пьяную и сыпавшую знакомыми, очень характерными фразами погибшей приятельницы. В Петербурге такие шуточки ранее уже практиковались, и былое письмо Барбисовину за год до её заявления в ФСБ содержало подобные «миниатюры» о том, как «гитлер-югенд» в состоянии взять соответствующий учебник, всей компанией вычитать симптомы и устраивать спектакли уничтожаемому человеку, убеждая его и окружающих в его невменяемости. И поэтому никому ничего даже не расскажешь… Но то письмо она написала ещё даже до цитирования мыслей, так что многое в нём было наивно. А сейчас было важно другое: Алёну, оказывается, никто с её «бегством» не потерял, — ей методично выматывали нервы, и в покое её уже никто не оставит.
Она села в электричку. И — здрассьте. Напротив неё уселся тот самый сын хозяина второго дома. Событие невероятное, поскольку в посёлке сам он не жил, да и отец тоже обитался у сожительницы отнюдь не в этих краях, — дом был заперт. Делать этому парню здесь было нечего. Конечно, на самом деле ему уже кто-то сообщил, что Алёна приехала, остановилась у ларискиной родни, — видимо, ему дали задание появиться. Но на контакт он особо не шёл, — поговорили они не много. В университете его, оказывается, восстановили. В целом же разговор складывался «не тот»: это стал другой человек с другим мышлением, интересами. «Всё ясно, — думала Алёна, — Значит, Игоря нет. За этого я тоже беспокоилась — мне его предъявили немедленно. А кого нет — того уже не предъявишь… То-то мне оборвали все концы, даже книжку стырили…»
Это был третий день второй Москвы.
Из Москвы она по наивности уехала на другой электричке поискать жильё в западном направлении. Невооружённым глазом было видно, насколько здесь всё дорого. Она доехала до конечной станции, вышла. По поводу жилья ей посоветовали обратиться на рынок. Спрашивать надо было у кавказской пожилой женщины, сидевшей среди коробок. Увидев Алёну, она сказала:
— Подожди, я сейчас ширнусь, — и вколола себе в вену тонкий шприц.
Это добило. Ни о каком жилье спрашивать уже, конечно, не хотелось. Она пошла обратно на электричку.
В электричке уже даже не думалось, куда теперь ехать и что делать. И тут озарило: «Лубянка! Вот пусть меня там лично выгонят, и я уже точно буду знать, что это — конец…»
Из электрички она сразу направилась к метро, чтобы во второй раз появиться в приёмной ФСБ, — теперь уже, как оказалось, надолго. У входа в метро какие-то парни разговаривали, как водится, о чём-то своём:
— Лубянка. Теперь — Лубянка.
«Лять», — мысленно ругнулась Алёна.
Она приехала, зашла в приёмную и начала уговаривать дежурного:
— Два месяца назад я подавала заявление, его переслали в Петербург, хотя я просила этого не делать… Там я, разумеется, месяц назад получила отказ. Но я сейчас — в отчаянной ситуации, я просто вообще не знаю, куда мне пойти, когда я выйду отсюда. Может быть, со мной согласится хоть кто-нибудь поговорить?
— Хорошо, — сказал дежурный, — Посидите, я узнаю, — и ушёл.
Вернувшись, сообщил:
— Вас примут.
Алёна стала ждать.
Пока она сидела, из коридора доносился разговор каких-то двух мужчин. Один из них вещал другому громко, уверенно, начальственно:
— Ваше заявление ещё не рассмотрено. Месяц не прошёл, с ним работают. Но я уже сейчас могу вам сказать: того, о чём вы пишете, с нашей точки зрения не существует в природе. Если вы уверены, что вас подобным образом прессингуют, ну так делайте что-нибудь, принимайте меры. Идите в организацию по правам человека, идите в ООН, идите к Папе Римскому!..
«Ну, всё, — решила Алёна, — Можно считать, что это ответили мне. Но пусть мне это скажут в глаза, тогда я точно буду знать, что для меня всё кончилось.
Прошло ещё какое-то время, и появился другой сотрудник. Кивнул ей, жестом пригласил проходить. Это и был Полковник. Так она его увидела в первый раз.
Заходя в кабинет, она мрачно пробурчала:
— Я слышала, у вас тут к Папе Римскому посылают. Вы меня сейчас тоже туда пошлёте.
Он добродушно ответил:
— А вы не обращайте внимания. Это кому сказали — тому сказали. С вами у нас сейчас свой разговор будет.
И первый их разговор длился более двух с половиной часов.
Комедия с Папой Римским нужна была, возможно, затем, чтобы у неё опять включился внутренний цензор. Он включился, — она стала думать над каждым словом. Полковник ещё усугубил, тактично (видимо, чтобы не травмировать) представившись ей как «психолог с медицинским образованием». Вероятно, это было ещё и что-то вроде служебного психиатрического освидетельствования. Но рассказала она всё равно много, и уж «приключения» последних трёх дней — полностью. Отрезюмировал он этот долгий разговор примерно так:
— С вами всё в порядке. Вам ничего не кажется и не показалось. Кроме одного: что охота ведётся только за вами одной или что за вами она ведётся как-то особо. На самом деле — вам не передать, что сейчас творится. Вы знаете, сколько у нас таких заявлений, как ваше!..
Алёна догадывалась. О том, что это — система и, по всей вероятности, геноцид, она уже знала. Но услышать эти слова от официального лица было неплохо. Он продолжил:
— Но мы не можем этим заниматься и принимать меры: у нас недостаточно законодательной базы, — последние слова он произнёс с выражением и сделал паузу.
Алёна смущённо ответила:
— Извините, что я отняла у вас столько времени. Я просто не знала, что мне делать. Поговорили со мной — и то уже легче, и то спасибо. Вы не подумайте теперь, что я собралась к вам таскаться…
Он, невозмутимо:
— У меня к вам — встречное предложение: приходите как угодно часто и пишите вообще всё, что вам захочется написать, хоть лирику. Я здесь бываю по будням в рабочее время, а записки можете передавать круглосуточно, — я предупрежу.
Ещё Полковник ненавязчиво продемонстрировал ей, что знает о ней гораздо больше, чем она рассказала. Любая её информация была ФСБ не нужна: они без неё и лучше неё откуда-то знали всё, что с ней и вокруг неё происходит. Впрочем, кто-то же действительно всегда знал, что она говорит, что думает, что слышит, а возможно ещё — и что видит. Если этот «кто-то» не был ФСБ, то в ФСБ они, похоже, тоже это умели. Но если бы это были только они сами, то и разговоры, и общение можно было бы строить совсем по-другому. А так — всегда принимались негласные, но очевидные «меры безопасности», вызванные именно тем, что всё это общение заведомо неконфиденциально. Всё время шла какая-то перманентная комедия типа Папы Римского.
Кроме того, он не попросил её ни о каком неразглашении. Напротив, произнёс дословно:
— НапИшете потом обо всём этом, как ещё никто не писал… — когда наступит это «потом», он так и не уточнил.
Он ещё раз напомнил ей часы работы приёмной и предложил приносить записки в любое время. На том и порешили.
Но Алёна всё равно не собиралась, как она выразилась, туда таскаться. Тем более что после этого посещения у неё как-то быстро всё нормализовалось, если можно так выразиться о ситуации продолжавшегося кошмара: она устроилась с жильём и работой, согласившись поторговать юбками на подмосковном рынке. Без повторных визитов она продержалась месяц. Родители опять были более или менее в порядке (она регулярно звонила им два раза в неделю), но вокруг Алёны продолжалось неизвестно что. Приходить в приёмную пришлось уже намного чаще.
С женщиной из общежития она сняла комнату там же, в Подмосковье. Соседи были молодой парой с ребёнком, к ним заходили гости, и поначалу всё было мило и даже весело. Но довольно быстро всё стало съезжать в какую-то дурную сторону. Начались надуманные скандалы, усиливалось акцентирование сексуальной темы, назойливо и очень психологично. В одной из записок она писала, что всё это стало всё больше и больше производить впечатление сутенёрской бригады. Но толком почти ничего рассказать не успела (да ей и не шибко предлагали рассказывать). Однажды, когда какие-то непонятные тучи уже совсем сгустились, она, решив не ходить на работу и приехав в Москву, зашла в приёмную, и после нескольких слов, почти на пороге, Полковник вдруг сказал ей, сам, без её предисловий:
— С квартиры съезжайте немедленно. Своими силами вам там уже не справиться.
Она съехала. Когда стало негде и не на что жить, ей, тогда ещё тихо верующей, и предложили поработать в монастырях.
В середине лета она побывала у родителей. Только тогда она узнала новость (поскольку жить ей приходилось безо всякого телевизора): в петербургском Музее, оказывается, раскрыли кражу, и главная виновница умерла за компьютером на рабочем месте, так и не успев толком ничего рассказать. Случилось именно то, чем её пытались пугать за полгода до этого… Уже теперь, в третьей Москве, Алёна читала в «Атаке на подсознание» то, о чём тогда только догадывалась: «Специфическая особенность программно-математического оружия — его способность психологически воздействовать на абонентов информационно-вычислительных систем. Группа мероприятий по защите операторов [людей], обслуживающих информационные структуры, может приобрести актуальность в ближайшей перспективе в связи с развитием методов прямого воздействия на человека. Уже существующие приёмы воздействия на операторов: голографические изображения, вирус «666», выдающий на экране цветовую комбинацию, вызывающую изменённое состояние сознания человека, вплоть до блокирования сосудов головного мозга; модуль Brain Blaster программы «Ecologist», подавляющий иммунную систему пользователя и др.» Книга вышла в 2003-м, а вторая Москва была уже в 2006-2007-м…
Отдельная история была и со снами. Ещё до второй Москвы, работая в Петербурге в Музее Музеев, Алёна не раз видела фальшивые сны, и не нужно было ничего особо знать, чтобы понять, что такое не могло быть сном, а являлось чем-то другим. В первую очередь, «допрос во сне».
В Музее она была в двухнедельном августовском отпуске, сидела дома. Однажды в середине дня ей вдруг страшно захотелось спать. Ну, взяла и легла. Сразу же отключилась. Она даже не видела в этом «сне», с кем разговаривает, — был только голос, ощущение присутствия и её собственные ответы на вопросы. Разговаривала с ней женщина, по манере похожая на начальницу её компьютерного отдела Музея. Начальница была значительно младше Алёны, несколько тупенькая, над чем хихикали все, но всё же, программист и, похоже, психотехнолог, как и все в тех компьютерных отделах. (В Музей попала, разумеется, по большому знакомству). Её немножко психологически «вытягивали», пытались технологично «делать умной», и она вполне могла проходить что-нибудь вроде практики с подачи тогдашних тамошних западных «грандодателей». А может, это была и не она, — кто знает… Разговор был долгий, связный, без перерывов и отвлечений, что было вовсе не похоже на сновидение. Но «официально» считается, что это был просто сон, хотя, таких и не бывает.
Поскольку в Петербурге Алёна всё рвалась обратно в Москву, то «начальница», пообещала ей найти в Москве работу. Алёна закипятилась:
— Да не надо мне, — я всегда сама находила! Мне бы самое главное — более или менее нормальное дешёвое жильё на первое время, а остальное я сделаю!
— Ну, хорошо. Я тебе помогу. Только расскажи мне, как ты стала дизайнером. Не была, не была, и вдруг раз — и стала…
И Алёна, ничего толком во сне не поняв и не желая понимать, начала взахлёб рассказывать, как она оказалась в первой Москве, как скиталась, как разбиралась с молодым петербургским «фиолетовым» бандитом и отшивала его, поняв, что никакую «новую жизнь» он начинать не собирается… Она уже подходила к рассказу о работе, где начался дизайн (как она там оказалась, как всё складывалось), но «начальница» прервала её сердито:
— Долгая какая история! — и как будто кто-то нажал какую-то кнопку: Алёна резко проснулась, как не спала, и сразу бодро села на кровати, удивлённая.
Она быстро сообразила, к чему мог быть этот «допрос» (если так оно и было): поскольку реальную начальницу, у которой с дизайном было тоже плохо, «тянули», то, скорее всего, ей хотели построить НЛП-шную схему, как другой человек «на ровном месте» вдруг вполне успешно становится дизайнером. Алёна так завелась от этого предположения («даже способности, и те воруют, не спросившись!»), что историю дорассказала вечером маме в том ключе, что «само выросло, поскольку было из чего расти». (Папа-то у Алёны в молодости рисовал, и вообще, всегда рисовал хорошо, и сама она всегда к этому тянулась, да только мешало как раз какое-то маниакальное убеждение, что не умеет. Вроде того, что хоть от руки и не рисует, но какие-то природные способности в этой области действительно давно очевидны, вот и стала дизайнером слёту.) «Если от природы семя посеяно — само вырастет. А если нет — даже чертополоха не дождёшься». Злилась она ещё дня три: «Заразы, спросили бы, поговорили, объяснили, что к чему — я бы сама рассказала, что нужно. А когда вот так, подло, в обход сознания — хорошо, что я им вместо этого байки травить начала!» Выйдя на работу, она (не в чей-то конкретный адрес, а между делом и «к слову», якобы поведав о чем-то постороннем) всё это им сказала.
Следующая яркая история со сном была похуже и попротивнее. Это было уже ночью, под утро. Ей приснился немецкий муж и свекровь. Причем, муж был какой-то потерянный, а свекровь — вся чёрная. Она ещё во «сне» умудрилась подумать: «Вовсе это не она. Бабу какую-то гуталином вымазали, а мне мозги парят». Когда проснулась (теперь уже нормально, без «эффекта нажатой кнопки»), сразу решила, что если уж такой сон ей «прислали», значит, надо его проверить. С мужем связи давно не было, — позвонила в Германию его тётке (а родственники мужа его координат ей не давали). Та тут же ей сама сказала, что в прошлом году свекровь умерла. Ни в какую «мистику» Алёна больше уже не верила, тем более что сама же ещё во сне восприняла это как устроенный кем-то маскарад. Кто-то хотел сообщить и сообщил ей о смерти свекрови, и известие это очень её расстроило.
Позднее фальшивые сны ещё мелькали, и в основном целью их было всё то же психологическое подавление. (Кстати, во сне часто кричала её мать, и перед смертью очень жаловался на сны отец…) Во второй Москве в ФСБ эту тему она поднимала.
Надо сказать, что общение в приёмной было, как правило, «ни о чём». Это выглядело просто неким подобием психологической поддержки, хотя, и не только от Полковника, она как минимум дважды слышала слова: «Мы - не служба психологической помощи», «Мы - не благотворительная организация». Но не однажды Алёна приходила туда на грани, а уходила — ровная, спокойная… Спустя некоторое время история со снами стала повторяться и в Москве. ГОВОРИТЬ об этом ей в приёмной тоже не очень-то давали, но НАПИСАЛА она много. В самом суровом случае записки были нецензурными. Это произошло как раз накануне того, как её впервые «выпустили в свободный полёт» — пожить без ФСБ. Но сны ей при этом как будто постепенно «перекрыли». Теперь, в третьей Москве, она уже более пяти лет жила вообще без ночных сновидений, чему была несказанно рада.
Впрочем, она не могла утверждать, что сны были ей «блокированы» именно стараниями ФСБ. Ей и раньше кто-то всё время помогал, равно, как и кто-то её гробил, и не было никакой гарантии, что то и другое делает не одна и та же «структура», и что кто бы это ни был, с ФСБ они находятся в какой-либо связи. В приёмной прямо не говорилось просто ничего. Прямо и что угодно она могла только писать на правах частных записок. Прямые слова и указания можно было пересчитать по пальцам: сюда входило предложение немедленно съехать с подозрительной квартиры, «снятие аутоиммунного диагноза» и ещё очень немногое, в основном, кстати, более позднее, перед третьей Москвой, когда она ухаживала за умирающим отцом и иногда, пока его состояние ещё позволяло, наведывалась в Москву на денёк на «Сапсане», не оставляя отца одного на ночь.
Она, помнится, жаловалась кому-то из знакомых, что в ФСБ ей ничего не говорят и не объясняют, а ей ответили: «Ты нашла место, где спрашивать! ТАМ тебе точно ничего не скажут!..»
Был ещё один подарок, тоже ещё не известно, чей. В последнюю встречу «спокойного периода» у неё с Полковником состоялся довольно странный разговор с элементами его клоунады. Позднее она поняла, что ей был дан «ключ». Ни о чём конкретном речь тогда не шла, но похоже это было на какую-то её «раскомплексовку» в целом. Она не однажды вспоминала те слова, похожие на «ключ», и ей трудно было судить, насколько это подействовало и не подействовало в плане её внутренней свободы. Но совершенно неожиданно «выстрелило» в рисовании.
Алёна давно уже догадалась, что рисовать она должна была с детства и иногда у неё проскакивали явные успехи, особенно летом, подальше от тогдашнего Ленинграда. Но вообще-то, именно в Доме учёных, куда мама старательно водила её ещё до школы, в отношении рисования на неё был наложен комплекс, — теперь она давно уже знала, какой и как это было сделано. Знала, но упорно считала, что поезд ушёл и то, что было сделано в раннем детстве, необратимо. Теперь во второй Москве, уже «в свободном полёте без ФСБ», она валялась нога на ногу в очередной общаге на своей койке на втором ярусе, неожиданно вспомнила «слова-ключ» и её прорвало: «Да наплевать, умею я рисовать, или не умею! Хочу, и всё. И наплевать на всех, хорошо я это делаю, или плохо». Взяла, и шариковой ручкой нарисовала в блокноте свою ногу, ступню без носка. Первый раз в жизни у неё вдруг получилось. Хорошо ли, плохо ли, но — действительно человеческая нога. Слёту. Потом — звери, лица, человеческие руки, что раньше казалось нарисовать немыслимо. В общем, всё. Она открыла для себя другой мир, в который можно было теперь окунуться и благодаря этому пережить очень многое: она стала рисовать, обретая совершенно новое ощущение себя.
Вообще-то, эта история больше других смахивала на то, что Полковник принял в ней прямое участие: он очень поощрял любые индивидуально-творческие начинания. Но по большей части всё было не так безоблачно, и более того, странно и подозрительно. Он помогал ей, но всё это сводилось к помощи физически выжить, чтобы сидеть тихо, тем и удовлетвориться, и потом когда-нибудь тихо кануть вникуда (в лучшем случае). Кстати, «слова-ключ» применительно именно к рисованию мог ей «напомнить» вовсе не он... В общем, чёрт ногу сломит. Что-то здесь было не так. В целом попахивало заказом, который Полковник, несмотря ни на что, выполнял, стараясь остаться благотворителем в её глазах. Короче говоря, попахивало Барбисовиным.
Полковник мило с ней общался, снимал стресс, а потом её окружал ещё больший кошмар. Она опять всё надеялась, что ведётся «двойная игра», а потом с ужасом вспоминала, что в отношении Барбисовина верила в то же самое, и так кардинально ошиблась в этом человеке, которого знала больше двадцати лет. Хуже всего было то, что она действительно почти постоянно находилась под тем или иным воздействием, а внушались, как она хорошо знала на своём и чужом наглядном опыте, не только мысли и идеи, но и их отсутствие, и состояния, физические и психологические, и болезни и исцеления, и длительные увлечения, не всегда «доброкачественные» (а разглядеть это подолгу не давала какая-нибудь ложная идея, внушённая как аксиома), — в общем, очень многое, слишком многое. Жизнь же, её остаток, продолжала под чьим-то железобетонным контролем улетать в задницу. Как и вся жизнь с рождения. Да и не просто в задницу, а всё это непрестанно сопровождалось мерзостью, более всего — с сексуально-сортирным оттенком, как в Музее Музеев. Ни права, ни возможности быть человеком ей не оставляли. И то, что точно так же мучили до смерти многих других людей, утешением быть, мягко говоря, не могло. А бежать было некуда, обратиться не к кому, изоляция от кого-либо и чего-либо нормального стала уже полной.
С другой стороны, она не сомневалась, что если бы не хотя бы факт её обращения в ФСБ, всё кончилось бы гораздо раньше. Но и длиться всему этому — зачем? — чтобы дольше могли измываться?.. Жизнь и всё, для чего она родилась на свет, было уже отнято. Годы уходили на всю вот эту дрянь, и впереди мог быть только омерзительный конец. Это — абсолютный, стопроцентный фашизм, противостоять которому не дадут уже никому. Или — противостояние действительно почти невозможно, но кто-то всё же пытается что-то делать?
Голова у неё пухла.
Она знала одно: всё равно, конечно, когда-нибудь умрёт, но умрёт, не простив и не сняв проклятия.
Да вот только, скорее всего, никто никогда об этом не узнает: в сегодняшнем мире во всём царила Большая ложь. Фальсифицировалась история. Причем, грязно, нагло, просчитано. Например, сносился (пардон, — переносился) какой-то памятник советским воинам в Прибалтике, где среди похороненных была одна женщина, и о ней заявили: изнасилована. Задохнувшиеся от негодования, хранители памятника и музея стали уверять: нигде нет подобных сведений, — о ней даже не значится в документах, что она погибла в бою, а так и записано, как есть: сбита машиной (на войне погибали и так). Но их возражений почти никто не слышал, а грязное заявление — все. Подобным образом были облиты грязью почти все герои, почти все святыни минувшего.
Так, оказывается, происходило и в отношении простых людей, ничем не знаменитых: события фальсифицировались для изменения самого общественного настроения, и не только события из новостей, но и просто из жизни. Жить в России должно стать не только плохо, а мерзко. Алёна столкнулась с этим, когда умирал её отец. Позвонила приятельнице — очень давней, ещё из детства, — у той тоже что-то случилось с мозгами, как и у всех в её окружении (а круг лжи и фальсификаций замыкался вокруг неё с какой-то противоестественной чудовищностью и непрошибаемостью). Приятельница вдруг заявляет:
— Когда не станет твоего отца, тебе может открыться, что он был совсем другим человеком, чем ты думала.
Алёна поперхнулась:
— Да про своего отца я знаю более чем достаточно! Он был вовсе не идеален, и весь «пакет компромата» мне известен. Но, во-первых, я не удивлюсь, если отцом с незапамятных времён так же кукловодили, как и мной с рождения, создавая искусственную личность для какого-то дальнейшего сценария. Тем более что некоторые черты его характера и поступки находятся в жесточайшем противоречии друг с другом, с той его натурой, которую я знала и видела, с тем, как он самоотверженно ухаживал за больными, за своей матерью и за своей женой, моей мамой. А такое противоречие я замечала и у других людей, и это вовсе не сложность натуры, а искусственное вмешательство. Подтверждений тому — много, и даже в самОй логике вещей. Во-вторых, если какая-нибудь зараза хочет мне что-то про отца «добавить» — пусть говорит сейчас, пока он жив, в сознании и может что-то ответить. Надо же, вся культура веками вырабатывала правило: если это не крупный государственный и подобный деятель, которому не избежать оценок, то о мёртвых — или хорошо, или ничего. А теперь взялись обливать грязью тех, кто уже не сможет ни на что возразить!.. Да после смерти отца я ни от одной дряни ни одного слова слушать не буду. Всё.
— Подожди ещё. Может, окажется, что он брал взятки и на тебя вдруг свалится состояние.
— Если что-нибудь откуда-нибудь свалится, я к этой фальсифицированной грязи не притронусь.
У отца, конечно, не оказалось никаких денег. А если бы вдруг оказалось, она бы не поверила в то, что они отцовские и она могла о них не знать. Это был бы какой-нибудь бесплатный сыр в мышеловке. Но ЧТО с ними со всеми в алёнином окружении так одинаково случилось?!! ЧЬЯ это была кампания?..
У папы были ещё две дочери от первого брака, значительно старше Алёны, — две дочери от жены, с которой отец развёлся относительно задолго до знакомства с алёниной матерью. В разговоре со старшей дочерью отца она опять возмутилась:
— Про папу бесконечно пытаются что-то врать. Вплоть до того, что ТЫ, ты сама зачем-то наврала мне, как познакомились мои родители, а я эту историю без тебя знаю с детства: их специально познакомили, и тому было много свидетелей, которых я с детства знала сама. ЗАЧЕМ ты мне это врёшь, да ещё так тупо, даже сначала не поинтересовавшись, что я знаю, что нет? Что у вас у всех (просто У ВСЕХ) с головой?!! Что вы делаете?!! А ведь про меня тоже что-то бесконечно врут, и я даже не знаю, что именно, на что отвечать, — я только вижу беспричинную для меня резкую перемену ко мне вообще всех знакомых, какие-то нелогичные и дикие поступки и заявления, вызванные чем-то таким, о чем я даже не могу догадаться. Совершенно незнакомые люди вдруг азартно включаются в травлю, а я даже не знаю, ЧТО им наговорили. Когда помру я — вокруг меня тоже зачем-то расцветёт какая-то махровая ложь, а я уже ничего не смогу с этим сделать!
То, что ответила ей дочка отца, было за все пределы. Беспечным тоном она ей сказала:
— А какая тебе разница, что про тебя скажут после твоей смерти?..
Всё, этой «сестры» для Алёны больше не существовало. Как и всех этих «родственников». Впрочем, толком их для Алёны и не было никогда: она была с ними не более чем знакома, никогда не имея ни общей жизни, ни задушевных бесед, ничего, кроме некоторых совершенно чужих для неё общих застолий по праздникам, да и то, мягко говоря, нерегулярных. Общение с ней они уплотнили после смерти матери, когда отец на глазах стал сдавать, и запахло квартирой (если, конечно, что-то случится с ней самой, чего, собственно, и ждали).
Она видела, что вокруг неё тоже зачем-то усиленно фабрикуется какая-то Большая ложь, должная махрово расцвести после её смерти. Какой-то очередной сценарий для очевидного усиления ощущения мерзостности жизни в России. И схвачено вокруг неё всё было какой-то железной хваткой. Не этот ли «заказ» выполнял Полковник, стараясь держать её в безвестности и в социальных низах? Или просто опасно было «светиться», поскольку таких людей вообще убирали? Но, как и зачем тогда жить, если не заниматься тем единственным, что несёт радость и смысл, или если быть готовой к тому, что всё это — впустую и исчезнет самое позднее вместе с тобой, так и не проявившись никак и ни для кого? Ответить на вопрос о полковничьих целях могло бы только время, если бы она дожила до ответа...
Так что о её непрощении и проклятии виновных, известных ей или неизвестных, вряд ли бы кто-нибудь узнал. Не очень давно умерла какая-то актриса, и Алёна как минимум раза три слышала во всяких новостях, что та, умирая, всех простила. Сообщение было нетривиальным, и напрашивался вывод, что здесь что-то не так. За этим явно стояла какая-то нерассказанная история, и это наводило на мысль либо об обычной в наше время лжи (как знать, может, в действительности она, наоборот, кого-то прокляла), или о том, что над её прощением была извне проделана большая работа, а в результате какие-нибудь подонки могут потереть руки, оставаясь «с чистой совестью»... Причем, теперь такие вещи делались не в христианском ключе (хотя, прикрывались они часто именно христианством, но никакие несектантские христиане никогда не призывали простить, например, Геббельса с Гиммлером и сурово предостерегали от заигрываний с бесами, от молитв за них, как от большой опасности, от которой уже никто не спасёт), — теперь призывы к всепрощению происходили как заведомая манипуляция и как инструмент построения Нового мирового порядка, когда люди заведомо готовятся разрешить делать с собой и с другими всё, что угодно, заранее настроенные прощать вообще всё, к каким бы чудовищным последствиям это ни приводило. Для этих, в частности, целей людей и целенаправленно примитивизируют, отшибая мозги... Алёна знала, что как бы её ни оболгали, но вот ЭТОГО всего и тех, кто сознательно принял Новый мировой (фашистский) порядок, она не простит. Остальное о ней будет ложью.
Спектр её предположений о Полковнике был широк до степени всеобъемлющей.
Первым из худших предположений было то, что он действительно завербован с подачи Барбисовина. Сюда же могли входить и два других предположения, в принципе автономные: то, что Полковник — не москвич, а скорее всего, петербуржец, и второе — то, что он вообще не эфэсбэшник, а хрен знает кто (психотехнолог), иногда занимающий кабинет приёмной ФСБ РФ по какой-то там договорённости. Нейтральным предположением, скорее всего верным при любых других раскладах, было то, что он, кем бы там ни был, просто статист. В худших в любом случае, но даже если вдруг в лучших целях, всё равно занимаются ею совершенно другие люди, которых ни она, ни кто-либо случайный не знает и не может знать в лицо. Ну и самой мерзостной была простенькая версия, что здесь, в ФСБ — просто то же, что везде: как в Музее Музеев, как в церкви, как со свихнувшимися родственниками, — консциентальная война тотальна и охватывает всё и всех, включая ФСБ, где тоже работают такие же живые люди, так же подверженные воздействиям и способные выполнять «команды», сами того не замечая. То есть, ФСБ — это просто абсолютно то же, что всё остальное, разве что, факт её появления там кого-то насторожил и что-то отодвинул. Но и не более того. Самое радужное предположение Алёной иногда рассматривалось, но всё больше казалось смешным: это было то, что полковник — это действительно московский эфэсбэшник, что война за страну и её народ всё же негласно ведётся, но дело это столь трудное и долгое, что на жизнь Алёны точно не хватит. Длить же её существование вот в этой мерзости было заведомой пыткой и псевдоестественным убийством, чем, собственно, и занимались те, кто к ней прицепился намертво.
Была одна тема, которой за всё время общения Полковником было уделено относительно много времени. Это — саентология. Алёна не имела отношения к питомцам Хаббарда, хотя, «оксфордский тест» однажды заполнила. Знала о них много, поскольку в своё время начиталась чего только можно, как и о других сектах. Знала, что они действительно претендуют на глобальную переделку сознания, мечтают о мировом господстве, занимаются чтением и внушением мыслей и образов, и что суть их однозначно фашистская, а тормозов нет, поскольку на человека они смотрят как на механизм, вернее, на колонию клеток, и значит, обращаться с ним, как с табуреткой — совершенно нормально. Всё это Алёна знала сама и давно. И в принципе, не очень понимала, зачем эти разговоры. Если к ней прицепились именно они — то что она сама может сделать, если ей не дали оружия обороны? На них, саентологов, просто хотят перевести стрелки с чего-то более значимого?.. Может быть, может быть...
Чем она только ни занималась во второй Москве! — от откровенного бродяжничества с ночёвками на вокзалах, от неквалифицированных заработков (какие-то листовки и хрен знает что ещё), и до полиграфического дизайна, по-первости, в монастыре, и потом в рекламно-производственной фирме. Бред вокруг неё продолжался неизменно. Результатом его было — «ни горячо, ни холодно», разве что, жизнь улетала именно вот на этот бред. Любые начинания обязательно кончались, быстро, плохо и очевидно кем-то предумышленно. К Полковнику она в конце 2006-го и в 2007-м не заглядывала. Был период в начале 2007-го — она ежедневно специально проходила перед камерами видеонаблюдения приёмной ФСБ и корчила рожи. Ноль эмоций. Правда, тогда же её однажды так довели до ручки уличными фокусами, что она в два часа ночи на Лубянской площади (правда, не у «главного здания», а у «Детского мира») в голос на высоких децибелах читала матерную «поэму», ту самую, которую когда-то три месяца по кругу мысленно читала в Музее Музеев. Назавтра, как обычно, пошла, злая, показывать язык в ФСБ-шную камеру. Только стала в позу — камера, в первый и последний раз на её памяти, качнулась и медленно-медленно отвернулась от неё в другую сторону... Это было единственной их реакцией на все её выходки. Потом она устроилась (сумела, наконец) на очередную работу, занимавшую всё её время. В остальном было очень много всего в том же духе, но рассказывать все эти байки — долго и уже скучно, — всё это сгодилось бы для дружеских интеллигентских пьяных компаний, не отравленных психологией и не заклиненных на насущных проблемах, если бы такие компании у неё когда-нибудь ещё были.
Летом она, умудрившись заручиться предварительной договорённостью, написала и отдала огромное письмо известному телеведущему. Письмо вот об этом, о способах псевдоестественного уничтожения и о том, что ей, похоже, крышка. В тот же день, когда она передала письмо, часов через пять-шесть «ответил» на это письмо... Полковник, появившись неожиданно и мимолётно (впервые за последний год её с ними «разрыва»). Но появление это было таким, что бежать к нему на «аудиенцию» ей не захотелось, — то ли сама почувствовала, то ли он дал понять, что не нужно.
Прошло ещё почти полгода. Она уже ушла с той работы, где за три месяца снова всё выродилось в психотехнологическую истерику персонала и других сотрудников на её уничтожение, уже успела поработать дизайнером, где опять, кажется, битком набилось невменяемых петербуржцев, и ей снова пришлось уйти, — написала два письма в Президентскую администрацию (тогда ещё путинскую), не желая появляться в ФСБ и не зная, что ещё предпринять (всевозможных правозащитников она тогда уже обошла, увидев, что всё это или ерунда, или в отношении лично неё здесь «всё схвачено»). На каждое письмо она получила содержательный ответ из Президентской администрации: «Рассмотрено, принято к сведению».
К декабрю 2007-го ситуация вокруг Алёны обострилась до последнего. Ни одного разговора не обходилось без темы верёвки и мыла (это при том, что общения как такового у неё не было почти ни с кем). Именно эта тема была акцентирована в Петербурге накануне её отъезда во вторую Москву. Ей даже назойливо напомнили песню Высоцкого «Верёвочка» («Как во смутной волости...», «Как верёвочка ни вейся...») А тема возвращения в Петербург вокруг неё теперь, в Москве конца 2007-го, педалировалась с какой-то невиданной настойчивостью. И вот, в ноябре она сидела, курила у «Китай-города» со стороны административных зданий. К ней подошёл очень толстый, очень солидный, очень дорого одетый дядька средних лет и навязался с каким-то «проходным» разговором. Минуты через три он ей вещал:
— Ну, я надеюсь, что никакие проблемы в Москве не доведут вас до верёвки и мыла! (Мыла, — это важно.)
Она стала его отшивать. Отвечая на какой-то его вопрос, сказала, что нет, в ЭТОМ здании на Старой площади она ни с кем не общалась, — только в ФСБ. Он как подскочил:
— Так что же вы сидите ЗДЕСЬ? Это — не их территория. Вам нужно по Новой площади вон туда, — он махнул рукой наверх, в сторону Лубянки, — Там и сидите.
Алёна заворчала:
— Вы масляной краской на асфальте границы нарисуйте, где у вас тут какие сферы влияния и где мне сидеть, а где нет. А то мне забыли рассказать. Я от вас, неизвестно кого, в первый раз это слышу.
Странный разговор на Старой площади с человеком непонятным, неприятным, но обращавшим на себя внимание бьющей в глаза респектабельностью и посвящённым при этом в тему верёвки и мыла, запомнился. В тот момент, после разговорчика, Алёна собралась, конечно, курить впредь вообще только здесь, у Старой площади, но как-то «само вышло», что больше она туда не выбралась.
После такой «отправки за шиворот» на Лубянку, она туда, разумеется, тем более не пошла. (Возможно, кстати, что того от неё и хотели.) Написала третье письмо в Президентскую администрацию — о том, что вот, уже не только едва знакомые девицы в общагах и в других местах, но и незнакомые дядьки на Старой площади учат её вешаться. А вокруг происходило ещё очень много уличной ерунды, дотошно описанной в её обращении. (Кстати, Полковник по-первости про верёвку и мыло тоже что-то вворачивал, но это выглядело добродушно и походило на «тренировочку от противного», чтобы она взъерепенилась: «Ещё чего! — не дождётесь!» Позднее, кстати, когда очень доставали, она стала говорить: «Это не мой способ. Уж вешаться-то я точно не буду, — надо станет, соображу что-нибудь в своЁм роде».)
Теперь, в самом конце ноября, она в ответ опять получила: «Рассмотрено, принято к сведению». Самое смешное, она тогда верила, что если написали, значит, действительно — рассмотрено и к сведению принято… В том письме она выразила и беспокойство за родителей, но другого рода: поскольку в Петербурге перед её отъездом начали, а теперь интенсивно продолжили донимать её с этим повешением, она беспокоилась, что убрать её хотят именно при жизни родителей. Ведь мутилось-то всё это как минимум с её рождения, а похоже, что и раньше, — родители (и между прочим, вся большая семья, как отцовская, так и материнская, — отца с матерью, скорее всего, и свели не случайно), — родители, наверное, были первыми фигурами некоего сценария. Когда Алёна ещё раньше говорила о том, что «игры» здесь могут быть куда более сложными и страшными, чем кажется на первый взгляд, она как раз и имела в виду, например, то, что все члены этой семьи, большой и маленькой, давно использовались как инструменты психологического подавления друг друга, и в принципе, всё равно, кто кого угробит и доведёт раньше, лишь бы гробили и доводили, желая того или не желая. Мучая родителей у неё на глазах, доводили её, и наоборот. Теперь высветился очередной вариант развязки. То, как её, позднюю, любили мама и папа, было притчей во языцех, и теперь она писала, что пусть с ней будет что угодно, но — потом. Заставить родителей, особенно под конец, пережить ТАКОЕ, было нельзя никак.
Страха как такового у неё не было: её «пугали» уже много лет, но никогда по-крупному ничего не случалось. Да и кто-то ею, очевидно, поддерживал в этом бесстрашии, в уверенности, что пусть это всё мутится, но последнего — не произойдёт.
А с родителями тогда всё-таки разобрались. Не собственно из-за неё: они могли бы пожить дольше лишь в одном случае: если бы она поверила во всё происходившее как в естественный ход вещей и согласилась выполнять «свою» программу, сходя с ума, увядая и умирая у них на глазах. То есть, им бы дали пожить подольше, только если бы им предстояло пережить дочь. Нужно было совсем не знать её родителей, чтобы предположить, что они бы предпочли этот вариант чему угодно другому. А уничтожали-то всю семью в любом случае...
Отца Алёна, видимо, в конечном счёте, должна была пережить не более чем на сезон. «Родственники», во всяком случае, почти откровенно собирались хоронить её той же зимой. Так бы, видимо, и было, если бы она, совершенно больная, в конце 2010-го не рванула после его смерти в третью Москву, где вдруг выздоровела максимум за месяц.
Уже теперь, если Алёне действительно кто-то помогал, то по причине невозможности бесконечно держать оборону по всем фронтам, стариками могли и пожертвовать (они были действительно совсем старики: она была у них поздней), да и то, было видно невооружённым глазом, насколько всё, что должно было с ними произойти по очередному плану, было хуже, тяжелее, страшнее того, как всё обернулось в конечном счёте. И всё равно, люди не должны умирать ТАК. А сделать было ничего невозможно: любая её попытка что-то серьёзно изменить, исправить оттянуть, немедленно сопровождалась ухудшениями их здоровья, страданиями, смертями. Никакой положительной активности проявлять было нельзя. На душе у неё навсегда осталась гнойная рана, и – непрощение настоящих виновных. Ей оставалось только проклясть тех, кто всё это организовал и кто участвовал во всём этом осознанно и добровольно, знала она их или не знала, – и никогда не простить, не снять проклятия, что бы ни было с ней самой
...С ней — действительно, до сих пор, до третьей Москвы, ПОСЛЕДНЕГО не произошло, хотя, должно было. Теперь, в третьей Москве, она была готова ко всему. (Беспокоиться было уже не за кого...) А тогда, на излёте второй Москвы, в конце 2007-го, она, несмотря ни на что, всё оставалась в уверенности, что как бы сильно ни пугали, по-крупному бояться нечего... В конце концов, она уступила (тем более что родителей пора было навестить) и решила съездить к ним на более длительный срок, чтобы и здесь, в Москве, заодно всё утихло. Представить, что её там ждёт, она не могла никак. В начале декабря она поехала в Петербург на месяц-другой... Эта поездка продлилась три года и для неё самой должна была тоже стать последней.
Приехала она за день до декабрьского голосования. Назавтра они с родителями, не вместе, но всей семьёй в течение дня сходили проголосовать. Напослезавтра жизнь с треском разлетелась в клочья. Упала и вскоре умерла (хотя никто никогда этого не будет доказывать, но Алёне-то это было продемонстрировано с такой наглядностью, что никаких вопросов и разночтений оставаться не могло: в действительности была убита) мать, и в тот же день на глазах начал сдавать понявший всё отец.
Вообще, виной всему были не её визиты в ФСБ и не письма команде президента. Всё готовилось загодя. Но по очередному «изначальному плану» (ещё в связи с её возвращением из Германии) всё должно было произойти тихо и мерзко, — просто закат (по очереди) ещё одной семьи, большого клана, «которому туда и дорога». Если бы она по возвращении что-нибудь сделала с собой после краха большой-пребольшой любви 1994-95 года, родители бы отправились следом практически сразу, и цепная реакция должна была бы начаться. Но она не могла ничего с собой сделать из-за любви, какой бы то ни было, — это в действительности вопиюще противоречило её натуре, вопреки впечатлению, произведённому провокацией и подставой, удавшейся в её 15 лет. Какой бы бардак ни устраивали всю жизнь из большинства её любовей, и как бы ни бурлил темперамент, больше всего волновало-то её по большому счёту совсем не это. Кроме того, происходить всё должно было по возможности тихо, и огласке подлежал только результат, что давало бы простор для любых фальсификаций, — а вместо этого сам «процесс» её доведения до ручки она делала всё более и более шумным... (Надо заметить, что ещё в конце 2001 года она обратила внимание, что её любовные интрижки стали заканчиваться всё мерзостнее, совершенно разные люди стали вести себя всё более одинаково, и от интимной жизни с того времени она отказалась полностью. Для неё это было самой маленькой потерей из всех возможных.)
Теперь с повешением её донимали в тех же целях. Однажды, в 2006 году, она не нашла в определённый момент (когда ей было очень нужно в своих целях) другой дешёвой гостиницы на востоке Подмосковья, где хорошо всё знала, и остановилась в Электростали, где наконец-то нашла, что искала. В этом городе, работая в Москве, жил один деятель, в которого она была влюблена в свои «полгода счастья» в 2000-м. Оказавшись во второй Москве весной 2006-го, она поначалу появилась у него с совершенно практической просьбой, но поняв, что он ничем ей помогать не будет и что начинается очередная бодяга с чьей-то игрой на её надеждах и их крахах, она на это старое знакомство сразу, что называется, «забила». Сейчас, остановившись в гостинице, ни о чём подобном она даже не подумала, занятая совсем другими проблемами и делами. Но в действительности, случись с ней вдруг что-нибудь в Электростали, с точки зрения «общественного мнения» это было бы накрепко связано с именем того персонажа.
Остановившись в Электростали, она, никому, разумеется, не собираясь ничего об этом говорить, дважды ходила на тамошний центральный переговорник звонить маме в Петербург, врать, что у неё всё прекрасно, и клянчить денег, чтобы какое-то время перебиться до следующей работы. Оба раза в переговорнике мгновенно выстраивался невесть откуда длиннейший «хвост» очереди прямо до её кабинки и люди, никто ничего не стесняясь, ждали там чего-то с сальными рожами. Но она звонила всего лишь маме и ничего другого «ни с какого перепугу» не планировала. Между тем, в номере её гостиницы люстры не было, из потолка торчал крюк и от входной двери был протянут толстенный кабель, подвешенный на этот крюк. Кабель, в конечном счёте, был обрезан и вёл вникуда (в шкаф, где остаток был свёрнут змейкой). Намёк был ну уж очень толстый, равно как и очевидна — «психологическая подсказка». Повеситься на таком кабеле было бы невозможно, но если бы вдруг провокация удалась, то жертва этой провокации нашла бы, конечно, что-нибудь поудобнее этого массивного кабеля. Алёна посмеивалась, потирала руки и поражалась полному идиотизму своих преследователей... Но она их недооценила.
Дело в том, что накануне она только что написала в Петербурге, где гостила у родителей несколько дней, письмо в Гос. Думу (по поводу сект, религий, психотехнологий и вообще всего этого кабака) и ни разу его не перечитав, передала для председателя соответствующей комиссии. Вечером в гостинице она, наконец, уселась читать копию, чтобы, возможно, что-то поправить, переделать и отдать куда-то ещё (для чего и нужен был срочно дешёвый одноместный гостиничный номер, а не общага и не вокзал). Какое-то время она читала и текстом была недовольна. Править имело смысл достаточно много. Она ругала себя, что поторопилась, и читала дальше. В это время в гостиничном коридоре начали беситься двое мальчишек-подростков. Они над чем-то почти истерически хохотали. Длилось это долго, но наконец, Алёна открыла дверь и потребовала от них, чтобы затихли, поскольку очень мешали работать. Мальчишки затихли, как выключенные, и моментально тихо удалились. Алёна села читать дальше в тишине. И вот тут началось. (Видимо, мальчишки были элементом какого-то воздействия, какой-то схемы.) Ей вдруг стало казаться, что этот текст — бред сумасшедшего, что его вообще никто и никогда не должен был видеть, а он — уже в Гос. Думе. Она боялась, что больше ей вообще никогда и никуда нельзя будет обратиться и что вообще, жизнь кончена. Она всё бросила в отчаянии, и вот с таким настроением легла спать. Всё, — это было ощущение действительного, полного конца (хотя, фантазия повеситься ей в голову всё равно не пришла). Но потом она стала вдруг успокаиваться, решив, что на свежую голову утром будет виднее, что дальше.
Утром ей оказалось почти всё по барабану. Копию, бывшую на руках, она немедленно уничтожила, так никогда и не узнав, действительно ли тот текст был так ужасен, а если вдруг да, то почему и как это вышло. Неприятный осадок остался, но она решила, что надо просто как можно скорее всё это забыть и делать своё дело (упорно оставаться в Москве, не возвращаясь ни в какой Петербург). Совсем ей подняло настроение то неожиданное соображение, что ведь действительно, её только что хотели довести до самоубийства, а случись оно в Электростали — эта «бригада» просто добилась бы своей цели: сфальсифицировать её суицид или суицидную попытку на любовной почве. Теперь же они оставались с длинным носом, а она спокойно уезжала в Москву.
Вот абсолютно того же рода была и её история в 15 лет, только тогда она по наивности и неопытности на все провокации поддалась, ещё и узрев в этом что-то «романтическое». Юношеская любовь у неё тогда действительно была, и сильная, однако подоплёка тогдашнего её поступка в отношении любви была, по сути, ровно такой же, как теперь в Электростали, с той только разницей, что тогда, в юности, с её стороны был ещё и спровоцированный предварительный «криминал», о котором она боялась рассказать половину жизни, пока, повзрослев, не пришла в себя и не сообразила, что весь тот детский сад с её «преступлением» выеденного яйца не стоил, да и вовсе не её была в том «вина». (Она ведь следователем мечтала быть, а тут вдруг сама — «преступница»…) В действительности, любовь в тогдашней юношеской истории сыграла ровно такую же роль, как в этой, то есть нулевую. Но сейчас Алёне ни вспоминать, ни рассказывать этого пока что не хотелось, не до того было. Итак, начался декабрь 2007 года.
Она приехала к родителям. Они, конечно, были рады её видеть. Но мама отнеслась к её приезду и с грустью: незадолго до этого Алёна работала дизайнером в рекламно-полиграфической фирме, не сказала ей о том, что оттуда опять пришлось уйти, и мать надеялась, что у неё наконец-то всё наладится. Неожиданный её приезд эти надежды развеял. «Но что делать!..»
Назавтра они все голосовали. Алёна — за единороссов («А какой смысл за кого-то ещё? Тут просто или голосовать, или не голосовать… Тем более, страну как-то держат, рождаемость повысили, на письма отвечают, хотя бы формально»), мама — за «Справедливую Россию», а отец, после долгих попыток во всём разобраться и надежд, снова стал выбирать коммунистов (махнул на всё рукой). Напослезавтра, в понедельник, мама собиралась на работу в Физтех, где научным сотрудником быть уже не могла, но упорно работала за компьютером, впервые освоенным ею уже ближе к семидесяти годам, — писала отчёты о публикациях их научной группы. В семьдесят пять была она, конечно, больна (хотя у неё и не было тремора, но паркинсонизм сгорбил, сделал шаркающей походку, — лицо как будто специально что-то изуродовало, если бы не прекрасные, живые, полные любви её глаза)… Но работать она, как многие физики, очень хотела, ещё больше — жить. Очень радовалась, что леводопы можно принимать до шести таблеток, а она держится на двух — есть задел. Как раз вчера вздохнула: «Ну, больше десяти ещё лет вряд ли получится протянуть…» Отец в свои семьдесят семь носился, как лось: не работал, полностью вёл хозяйство, по собственной инициативе встречал-провожал мать с работы, возил её в филармонию, где мирно посапывал (а ей очень хотелось посещать филармонические концерты), каждую неделю — обязательно сопровождал её в парикмахерскую к своему мастеру, потом, презрев её возмущения (вызванные беспокойством о его здоровье), надевал огромный рюкзак и мчался на другой конец города в гигантский дешёвый магазин… В общем, у них была своя налаженная жизнь, и после всех минувших перипетий они очень дорожили друг другом, очень друг друга любили…
В тот понедельник на всех что-то нашло. Это чем-то напоминало историю с поломойкой в гараже бизнес-центра, закончившуюся, правда, хорошо, в отличие от этого страшного дня. Сначала маму почему-то вдруг пошвыряло в коридоре от стенки к стенке. Никто, включая её саму, «не придал этому значения». Включила свой первый в жизни недавно купленный мобильник, хотя дочь, очень подозревавшая мобильную связи в самых нехороших возможностях, уговаривала её донести его до работы без аккумулятора. Потом ей вдруг приспичило пойти сегодня на работу одной. Упёрлась, и всё. Отец, что невероятно, согласился. Алёна тоже предложила матери её проводить, — ни в какую. По дороге она упала. Именно перед этим Алёна, как ни странно, тоже умудрилась трижды упасть в Москве в пустынных местах, и каждый раз, как чёрт из табакерки, рядом с ней откуда-то оказывался какой-нибудь дядька, бросавшийся поднимать. Но Алёне-то никакая помощь была не нужна. И вот, когда мама упала, в их немноголюдном районе около неё тоже как по заказу оказался услужливый дядька…
Скорая увезла в больницу. Перелом шейки бедра. Дальше опять стала происходить ахинея. В тот день в больницу поехал отец, Алёна — назавтра. Мать лежала, но была бодра и оптимистична. Они поговорили. А час назад ей впервые поставили капельницу. И вот, на глазах у Алёны сознание матери «поплыло». Начались галлюцинации. Она бегала ругаться (ведь только что была нормальная, бодрая!) — бесполезно: «Это просто изменение состояния».
Все, с кем они за это время поговорили по телефону, включая родных сестру и племянницу матери (обе — врачи), коллег из Физтеха, — все, кто хоть что-нибудь об этом знал, в один голос уговаривали: «Надо оперировать, и немедленно. Иначе не встанет. Надо ставить протез шейки бедра (т.е. всего тазобедренного сустава). Сейчас эти операции на потоке, — это не то, что раньше. Сделают операцию — она и не заметит. Зато встанет на ноги. Иначе будет лежачей. Это безопасно. Надо оперировать». Ни одна зараза не сказала хотя бы: «Подождите!» — Они все трое были как загипнотизированные: «Надо немедленно оперировать!»
В общем, всё это было каким-то кошмаром. Что началось с матерью — описывать невозможно. Она бредила. Её бред первых дней весь сводился к тому, что из этой больницы надо уходить, бежать как можно скорее. Позднее Алёна поняла: мама хоть и без сознания, но чувствовала, что её убивают. Она в бреду умудрялась подняться с кровати и падала. Но тогда ещё Алёна, как загипнотизированная, верила, что всё будет хорошо: ей же отвечали из Президентской администрации, а значит, про неё всё знают и «всё под контролем»... В общем, голова отказывалась работать у всех хором, — не только у матери, но и у них с отцом. Однако, скандал по поводу того, что произошло именно после капельницы и продолжало происходить, Алёна закатила. Тогда... мама начала бредить не своим бредом. Не только «темы бреда», но и лексические обороты оказывались чужими, совершенно для не характерными. Как будто кто-то, увидев её впервые на больничной койке, «диктовал» ей просто «стандартный» бред старухи, старой деревенской бабули, такой, каким он должен быть с его точки зрения, игнорируя то, что мама — коренная петербурженка, потомственная интеллигентка, кандидат физико-математических наук, и она просто ДУМАЛА всю жизнь по-другому, чем теперь бредила. Она просто НЕ УМЕЛА говорить и чувствовать ТАК. Позже Алёна повторяла: «Ну, предположим, я вдруг начну бредить по-английски или по-немецки. Это тоже будет странно, но допустимо. Но я уж точно никак не могу бредить по-китайски!» Во всём, что происходило, просматривалось как будто чьё-то спокойное ёрничество. И это было ещё не самое страшное.
Нередко случались фокусы хуже и омерзительнее, такие, о которых Алёна никогда никому не рассказывала и не расскажет. И не однажды впоследствии она вдруг испытывала чувство вины за то, что посмела ТАКУЮ смерть матери пережить, не покончив с собой. Позднее, когда всё улеглось, она вспоминала об этом, думая о «немотивированных» самоубийствах довольно многих людей. Например, у одной интеллигентной армянской женщины из «Фиолетовых» вдруг повесился сын. Были ещё дочери, но сын — единственный. Отец был тоже из интеллигенции. Абсолютно никаких причин суицида следствие не выявило. Вообще никаких признаков насилия, никаких существенных конфликтов с подростками, с сёстрами. Никаких собственных отклонений. В семье он был любим и обласкан. Но однажды он пошёл в парк и повесился на дереве. Подобных историй известно много в отношении детей и взрослых, и с годами их — всё больше.
Вспоминая собственные суицидальные мысли, Алёна понимала, что причиной их в немалой степени была её уверенность в том, что об этом кто-то, кроме неё самой, ЗНАЛ. Соседки по палате, врачи вот в этом смысле были не в счёт: неприятно, конечно, но мало ли что происходит с человеком без сознания в больнице!.. Но об этом знал кто-то ещё. Кто-то всё это устраивал и наслаждался своей властью. А это казалось невыносимым. Так, известно, например, что изнасилованные люди (женщины и мужчины) иногда прибегают к суициду или суицидной попытке только из-за субъективного ощущения, что об этом все знают, даже если об этом на самом деле не знает никто. Но Алёне было доподлинно известно ещё одно. Психотехнологическая власть распространяется не только на людей и животных, на сознание и подсознание, но и на материальные предметы. И не важно, каким образом, — даже если это «незаметно» делается через тех же людей, через их действия, в которых они не отдают себе отчёта. Ещё в первом заявлении в ФСБ она писала об этом. Например, она заметила, что как только началось серьёзное психологическое подавление, она не могла себе купить ни одной новой приличной вещи: обязательно с ней сразу что-то случится. Месяцами ничего не портится, а тут — назавтра же... И прочее. Что уж говорить о возможности воздействий на человеческий организм!
Особенно наглядно это проявлялось, когда с ней или с другими людьми периодически что-то случалось исключительно «в тему». Именно под воздействием может происходить множество всяких мерзостей: человек может отрыгивать, пукать, вдруг патологически потеть, может происходить недержание мочи и кала... Возможностей для манипуляций и подавления, тем более для дискредитации, здесь уйма, например, в ситуациях, связанных с сексом, а то и просто даже наедине с собой. У человека можно создать ощущение, что он навсегда опозорен, и главное, что все об этом знают (тем более, когда действительно знают). Наверное, где-то здесь и кроются причины многих «немотивированных» суицидов. Нынешний психотехнологический фашизм никаких мерзостей не чурается. Геноцид можно точечно осуществлять и такими способами...
У мамы они с отцом дежурили сутками по очереди. Позднее подключились отцовские сёстры. Жалости к невестке у них не было. Родным сестре и племяннице (врачам) оказалось просто наплевать. Светопреставление.
Ко времени предполагавшейся операции ей, как специально, стало лучше. Хирург говорил:
— Ну вот, теперь ей, ТАКОЙ, как она сейчас, и такой, как она была в больнице в первый день, операцию делать можно.
И ещё — «чудо». Протезы тазобедренного сустава стоили недёшево. Об импортном и речи не было, но они с отцом готовы были купить отечественный за свой счёт. (Бесплатного можно было прождать и год, и то без гарантии. Хотя, именно это и надо было сделать — подождать. Но они с отцом тогда в этом ещё совсем не разбирались, а все вокруг убеждали хором, что если операции не сделать, тогда она точно уже не встанет.) Вдруг на Алёну, вернее, на маму-блокадницу (ребёнка блокады) через носившуюся по инстанциям Алёну «с неба сваливается»… бесплатный немецкий протез сустава!.. Алёна, слегка обезумевшая от всего происходившего, была уверена, что не зря писала в президентскую администрацию, что там, наверное, действительно всё «принято к сведению»… А по дороге в больницу к умирающей матери появился огромный послевыборный плакат «Единой России»: «Спасибо за поддержку!» — Алёна не знала, были ли ещё где-нибудь такие плакаты. Она больше не видела. Но они с отцом пребывали в каком-то лихорадочном воодушевлении: «Теперь точно всё будет хорошо!»
Когда уже всё случилось, она, конечно, ни одной секунды себе не представила, чтобы президент и его администрация могли действовать по логике шпаны, «гитлер-югенда» (хотя, теперь уже можно было бы ничему не удивиться)… Но ни на какие выборы она уже больше не ходила никогда.
Операцию мама перенесла хорошо, даже почему-то посвежела. Но тогда мало кто из них что-нибудь соображал, а после Алёна удивилась: «Вообще-то, если человеку в отпиленную бедренную и тазобедренную кости вставили металлический протез, железку с шарниром, и всё это обратно зашили, то это ведь должно выглядеть КАК-ТО?..» Послеоперационный шов не выглядел просто никак: аккуратный надрез на коже, аккуратно зашитый. Ни воспалений, ни припухлостей, ни кровоподтёков после операции с большой потерей крови… Никакой операции матери просто не делали. Льготный протез для блокадницы, да ещё и немецкий, известной и лучшей фирмы, просто ушёл налево. А мать, хорошо пережив «операцию», опять «поплыла» под капельницами и быстро умерла. Алёна-то уже собралась забрать её домой несмотря ни на что, (а отец, очумевший, начал носиться, собираясь писать в газеты и инстанции о том, что здесь, в больнице, происходит, хотя мыслей о фальсифицированной операции тогда ещё не было), но видимо, мать и умерла тем быстрее, иначе рано или поздно всплыла бы правда о несделанной операции и пущенном налево дорогущем бесплатном фирменном протезе сустава... Но всё это было осознанно уже задним числом, когда пережитый стресс начинал отступать и сознание прояснялось. Интересно, что врач, видевший её при поступлении, удивившийся тогда её бодрости, куда-то уехал, соседки по палате уже сменились, и для всех новичков она была просто старухой-доходягой, которую «чем быстрее убить — тем гуманнее»… Что и сделали. Этот город и так был для Алёны прОклятым, а теперь стал ещё и замогильным. В день смерти матери отец стал ходить с палкой и начал на глазах угасать. Алёна продержала его «на плаву» два с половиной года, потом, последние его полгода, ухаживала за ним лежачим.
На поминках в день похорон матери, её родной сестры, тётка с отрешёнными стеклянными глазами устроила отцу омерзительный визгливый скандал, припомнив какие-то обиды сорокалетней давности. Позднее — окончательно, хотя и без скандалов, посвихивались отцовские родственники. (Но начали они свихиваться, вообще-то, с 2000 года...) Короче, всего этого сюра не пересказать. Можно, но скучно. Интересно, что то же самое (сдвиг по фазе) произошло и с мужьями всех этих баб, не очень даже старыми.
Кстати, свихнулись отцовские родственники не сразу: что-то произошло в районе 2000 года, какую-то им подсунули «информацию» об отце, в которую они все, не проверяя и ни слова ему не сказав, охотно поверили, обретя, видимо, смысл жизни... Он-то так до конца и остался в растерянности, что же тогда случилось. Потом Алёна припоминала историю, произошедшую ещё года за два до всякого ФСБ, из её музейных времён. Дальше всё происходило только по нарастающей, и случай года 2004-го показателен.
Все родственники неожиданно (для такого состава) собрались на день рождения отцовской сестры. (Как раз январь.) Была и средняя папина дочь от первого брака с преуспевающим мужем (оба старше Алёны лет на восемь). Обычно они на таких посиделках не присутствовали, — им всё было в новинку. Вместе с Алёной все трое не пили. И все трое единственными остались нормальными за столом. Что тогда творилось! (Кажется, туда не поехала ещё и мама, которая, как и Алёна, лишний раз не ездила.) После первого же тоста у всех сорвало башню. Нет, это было не опьянение с одной, первой рюмки вина, даже подозрительного, — это было нечто СОВСЕМ другое. Они все, включая отца, вдруг понесли невообразимую чушь, загоготали исступлённо… Муж папиной дочери, подполковник в отставке, секретный разработчик какого-то космического института, а ныне респектабельный бизнесмен, молча смотрел на это всё исподлобья. Алёне с папиной дочкой тоже было как-то невесело. Алёна тогда едва только начала постигать происходящее (мысли ей ещё не цитировали), и глядя на папиного зятя, думала, что уж он-то, посвящённый, понимает, что происходит, — просто ужасается, что можно вытворять с людьми. Логика всех последующих событий и последующего общения показала, что не тут-то было. Видимо, весь тот концерт был рассчитан как раз на него и он, ничтоже сумняшеся, заглотил наживку: он должен был считать (и, похоже, считал), что как омерзительны все эти люди! — они не стоят заступничества и покровительства… Похоже, он был тогда попросту завербован поучаствовать в травле всей этой семьи, забыв, что его дочки — тоже из этого рода и когда-нибудь «подлежат» тому же… От разговоров он ушёл, — если бы Алёна поняла тогда, О ЧЁМ он думал, она, при всей своей отстранённости от этого родственного круга, встала бы на их защиту: «Да НИКОГДА они такими не были, ни один! Это — какая-то экстраординарная ситуация!» (Которая, кстати, не повторилась ни разу и впоследствии, но тот папин зять в этих семейных застольях в таком полном составе больше не участвовал.)
Была ещё некая длительная психологическая подстава с мужем одной из тёток, совсем уж никакого отношения не имевшим к этой семье, поскольку поженились они совсем поздно, в предпенсионном возрасте, и общих детей, конечно, не было. Должное впечатление подстава, конечно, произвела. У простецкого деревенского тщедушного мужичка вдруг невесть откуда-то появилась невообразимая, немыслимая ни в одном более или менее приличном (даже деревенском) обществе черта характера. Будь он чуть более значим, он был бы этим уничтожен вообще. А так — над ним просто хихикали. И вот, однажды он в гостях именно у алёниного отца проявил эту черту в отношении младшей, любимой, почти взрослой тогда дочери того самого отцовского зятя... Страшного ничего не произошло, — отцовский свояк просто сам представился дурачком, но неприятно всё же было, и отцовскому зятю — в первую очередь. Дочь он немедленно пересадил за столом. Однако это могло оказаться последней каплей или одной из них. Большой семье это могло быть приговором.
Теперь, когда алёнин отец серьёзно болел, этот зять, производя изо всех сил впечатление благодетеля, заказывал какие-то слуховые аппараты, от которых только выматывались нервы, приводил вместо врача какого-то клоуна, которому Алёне приходилось самой объяснять, чем сердечный приступ отличается от болей при левостороннем опоясывающем герпесе и что это вообще такое, и который, прочитав больничную справку со словами «признаки Ca+», собирался назначить стимулирующее лечение… Этого «врача», специально приведённого солидным мужем папиной дочки, она, конечно, послала на все буквы. Но по большому счёту было всё поздно. Отец умер, строго говоря, лишённый медицинской помощи (хотя, в больницах лежал дважды, а в последний момент, и в реанимации). Врачей он и сам уже боялся, как и Алёна, а те, что приходили, в основном укрепляли эти страхи. Без больших денег стариков никто всерьёз не лечил, а заплатить приличные — богатый зять не посчитал нужным. Правда, воспользоваться его деньгами и медицинской протекцией само по себе казалось опасным, но об этом не заходило и речи.
Кстати, пока отец ещё мог на денёк оставаться один, Алёна несколько раз была в Москве. Полковник («с медицинским образованием») читал все отцовские справки, и тоже ей, тогда ещё непосвящённой, не понимающей, что это значит, не указал на слова «признаки Ca+», не объяснил их значения, не дал совета…
Полномасштабная антиотцовская кампания стала совершенно очевидна в связи с его восьмидесятилетием. Первым отца «поздравил» его брат, ещё за неделю. В семье их было три брата и затем — две сестры. Отец был старший, этот — второй.
Началось что-то ещё в двухтысячном году. Кто-то что-то им всем про него наговорил, какие-нибудь «разоблачения». Отец так никогда ничего и не понял, но поговорив по межгороду с младшим братом в Смоленской области, у которого был тогда в гостях и второй (а Алёна как раз приезжала на выходные к родителям), долго сидел в растерянности:
— Что это мне братья обструкцию устроили?..
Он почувствовал, как что-то тогда обрушилось, но так до конца жизни ничего и не понял. Алёна тоже ничего не знала.
Теперь второй брат явился один (без жены) за неделю до дня рождения, не предупредив заранее, а отец тогда уже не выходил из дома, хотя по дому ходить ещё мог. Тот пришёл, принёс курицу-гриль, вафельный тортик, какую-то бутылку, наверное, что-то ещё. Может быть, дал в конверте денег, — Алёна уже не помнила. Никакого памятного подарочка, ничего собственно к восьмидесятилетию, — хотя бы символического, хотя бы мелочи!.. (Зачем, мол, покойнику памятные подарки.) Прямо так сели за стол, выпили. Больше он в связи с юбилеем не пришёл и не позвонил: уже ведь поздравил.
Во время того двадцатиминутного застолья он рассказал, преимущественно Алёне, как недавно смотрел по телевизору документальный фильм о живой природе. Этот рассказ был кульминацией папиного восьмидесятилетия в исполнении брата. Он вещал вкрадчивым голосом, усиленно показывая, что история имеет очень важный скрытый смысл. Сначала он, как теперь водится, напомнил, что в животном мире всё построено на взаимном пожирании. А потом рассказал, как молодые львицы в стае изгоняли старую.
— И она уходила,— красивая такая, сильная! — САМА уходила туда, где ей уже не выжить.
Нужно было быть полным дебилом, чтобы не понять подтекста. Среда обитания, которую необходимо было освободить — это, конечно, квартира матери, в которой отец жил, а Алёна родилась, выросла и, по чужой преступной воле, так за всю жизнь никуда и не уехав отсюда, проживала до сих пор. «Молодые львицы» — это бесчисленные двоюродные племянницы (были, кстати, и племянники), и парочка сводных, которых она, как водится, видела несколько раз в жизни на каких-нибудь днях рождения, а больше её в свою жизнь они не приглашали. Она только не однажды поражалась, что всё, конечно, понятно, но как-то очень уж много их всех на одну-единственную квартиру...
Вот так, в общем, брат за 15-20 минут поздравил брата с наступающим днём рождения и ушёл, извинившись, что на самом восьмидесятилетии быть не сможет.
В день восьмидесятилетия Алёна с утра поздравила папу, подарила ему достаточно функциональный подарок, не заморачиваясь, как долго он сможет ему пригодиться. Правда, она надеялась, что пригодится, всё же, подольше, но папа окончательно слёг уже через несколько дней... Не так рано, но тоже с утра пришли председатель местного совета ветеранов МВД и кто-то из коллег. Они поздравили его от имени всех сослуживцев и поздравили по-хорошему, хотя, в какой-то момент председатель, оценив папино состояние, махнул рукой и тихонько (а папа уже почти не слышал) сказал:
— О, это всё...
Чуть позже позвонила мамина коллега. Алёна, уже чуя недоброе, сама накануне пыталась позвонить бывшему мамину начальнику, но не дозвонилась и позвонила вот этой женщине, чтобы напомнить о юбилее и попросить начальника поздравить отца от имени коллектива. Они знали отца много-много лет. Когда-то, помнится, он даже дописывал их поздравительный акростих Алфёрову, тогда ещё не академику и не нобелевскому лауреату, — сами они почему-то не справились с акростихом. Особенно хорошо они все были знакомы в последние двадцать лет, когда отец весь остаток жизни посвятил маме... Теперь звонила только та былая коллега, хотя, и от имени всех. Она уже, кажется, не работала и сидела дома, так что не исключено, что она просто никому ничего не передала. Впрочем, кто знает.
Вообще-то, и с маминой смертью здесь тоже было нечисто. Все они, хотя и очень тепло говорили о ней на всяческих поминках, но как ни странно, восприняли её смерть положительно. Когда Алёна на 40 дней после массового посещения кладбища заскочила в местную церквуху подать ещё одну поминальную записку, она, как всегда, написала о маме, как о невинно убиенной. Каким-то образом, едва она вышла на улицу, сию секунду из похоронного автобуса прибежал, как ошпаренный, тот самый мамин начальник, и как-то воровато озираясь, мягко и быстренько загнал в автобус и Алёну. Уж не говоря о том, как они все хором бойко и рьяно убеждали растерявшихся Алёну и отца в необходимости немедленной операции, когда надо было как раз подождать... И так далее. А за столом одна коллега вдруг начала говорить о том, с каким мучением ходила мама на работу, и о том, что каждый её шаг был подвигом. Это была неправда. Старой и немощной она была, но внутренних сил и жизнелюбия она демонстрировала, хоть отбавляй. Тогда Алёна произнесла тост, сказав именно о мамином жизнелюбии и о том, как она хотела жить, просто жить... За столом промелькнула чья-то реплика:
— Интересно, почему, зачем?..
В общем, всё это демонстрировало массовое безумие сегодняшних дней.
Вот так же просто жить хотел и отец. Хотел жить, хотел отпраздновать праздник. Но больше в тот вечер не позвонил вообще никто. Телефон был, как будто выключен.
Пришли, наконец, две его сестры и две дочери. Договорённость была о том, что застолье обеспечивают они. Они принесли только пироги (это получились бы просто поминки при жизни). Алёна, опять же чуя неладное, наделала накануне салатов сама. И мало того, что пироги, опять же, оказались единственным подарком на восьмидесятилетие, они ещё и продемонстрировали явное неудовольствие по поводу того, что сама Алёна подарила подарок и что здесь вообще кто-то был с утра с поздравлениями. Зато, средняя дочь, ничего не подарив, именно в этот день принесла мешок со старым ношенным тряпьём, «поскольку вследствие перенесённого опоясывающего герпеса у отца очень чувствительной стала кожа и ему нужно что-нибудь помягче»... Особой теплоты к нему за столом тоже выражено не было
Уже вечером Алёна откопала отцовскую записную книжку и дозвонилась до кого-то из сослуживцев, попросив перезвонить в день юбилея отцу, поздравить ещё раз, чтобы тот сам снял трубку.
Судя по паре случайных реплик, обиду отец перенёс тяжёлую, но больше ничего не сказал и никаких отношений ни с кем выяснять не начинал. У него был очень мужской характер. Но после этого он окончательно слёг.
Зато Алёна спросила потом у одной из сестёр, почему не пришёл хотя бы её муж, и в результате не было вообще ни одного мужчины. Она ответила:
— Да он чувствовал себя неважно. Сказал: «Что я там буду с женщинами сидеть!»
— Ну да, и в результате с женщинами сидел папа.
Она, с пафосом:
— Он сидел со своими детьми!
— Да что он, наседка? А вы все опять спокойно за него решили, что ему надо?
Нечто невообразимое произошло примерно через месяц. Лето было жарким, и Алёна держала балкон постоянно открытым, забыв осторожность. Какие-то странности происходили несколько раз. А потом они с отцом хотели посмотреть зачем-то старые фотографии, которые отец как раз не очень давно старательно перебрал, разложил по пачкам. Алёна сунулась — фотографий нет. То есть, какая-то часть осталась, но мизер. Например, исчезла большая парадная дореволюционная фотография отцовских бабушки с дедушкой, которую папа очень берёг. И очень многое ещё. Этот удар был страшным. Алёна чуть не плакала, а отец — так и умер в тяжёлой непрощённой обиде. Хотя, тоже после первых реплик больше ничего не сказал. Просто он с тех пор уже больше совсем не хотел никого видеть.
Алёна-то, учитывая несколько прочих странностей, грешила на открытый балкон. Но папа, земной человек, ветеран МВД, и слушать ничего не хотел: если пропали ЭТИ фотографии, значит, сделать это могли только родственники. А такой подлости он не ждал от них совсем. Если бы он только знал, какие ещё подлости заготавливались его обезумевшими родными!..
Надо сказать, что пропажа фотографий была уже не первой. 31 декабря 2007 года, на 9 дней маминой смерти (гостей они не звали) Алёна захотела посмотреть альбом деда, отца матери, — что-то показать папе. Это был замечательный альбом, начинавшийся тоже очень старыми, дореволюционными фотографиями. В финскую войну дед-ветеринар был главным ветеринаром кавалерийского полка в чине, равном нынешнему полковничьему, и носил, как все, будёновку. Эти фотографии тоже были в альбоме. (Всю Великую Отечественную он работал в блокадном Ленинграде, откуда жена его и дочери, включая алёнину маму, были эвакуированы в 1942-м по Дороге Жизни.) Алёна стала искать альбом деда и... не нашла. Она хорошо знала, где он лежал, нередко его смотрела.
Тогда, после того, как тётка испоганила поминки родной сестры, они не сомневались, что альбом украден тёткой и её дочерью. Алёна не находила себе места: это надо же, у этой сучки дома стоит сканер, — неужели нельзя было договориться, а не просто красть?!
Мысли отсканировать фотографии бродили у Алёны давно, но отношения уже были плохими не первый год и на то имелись причины. Позднее даже вспоминать об этих особах стало тошно.
Чуть позже она сообразила, что в день похорон и поминок с утра в доме оставалась и готовила еду ещё и папина племянница, так что в принципе, там могло произойти, что угодно. Ещё позднее, наверное, через год, отец «вдруг вспомнил», что ещё прошлой осенью, когда мама была ещё жива, а Алёна — в Москве, тётка с племянницей якобы заходили и попросили у мамы этот альбом, — она дала. Эти отцовские воспоминания были сомнительны, похожи на внушённые, поскольку в той паршивой квартире в ЦРУ-шном микрорайоне «связь» была полностью настроена очень давно и какая-то фашистская мразь рылась в мозгах, как хотела, — что-то такое под конец стал чувствовать и понимать даже отец. (Сколько раз Алёна уговаривала родителей отсюда уехать! — бесполезно...) Так что позднее «воспоминание», скорее всего, было фальшивым. Тем более что Алёна, кажется, смотрела этот альбом, когда мама была ещё в больнице, — то ли смотрела, то ли собиралась посмотреть. Но в любом случае, даже если альбом заранее выпросили, то значит, те, кто выпрашивал, знали о предстоящей маминой смерти и приняли меры. Мамина сестра с племянницей, похоже, вообще заранее знали о том, что должно произойти, и как минимум дали на мамину смерть согласие (наряду с некоторыми прочими), — тому был целый ряд и других свидетельств. Это заметил даже отец.
В общем, как бы то ни было, но украденными оставались альбом алёниного деда, маминого отца, и отцовские фотографии. Смерти её родителей сопровождала одна рука. Вся эта родственная шантрапа оказывалась лишь марионетками в страшном балагане. И значит, они тем более были стопроцентно опасны, как люди, которые больше не соображают сами.
В разговорах с отцовскими дочкой и сестрой Алёна не преминула об этом сказать. Отцовской сестре сообщила, что поскольку она, Алёна, во всём этом абсолютно бессильна и больше от неё не зависит ничего, то тех, кто украл фотографии, она прокляла, и будет отныне проклинать каждый день. Та настороженно спросила:
— Кого это ты там проклинаешь?
— Тех, кто украл фотографии.
— Так кого?
— Тех, кто украл фотографии, кто бы это ни был, знаю я их или не знаю.
(Она всё же не сбрасывала со счетов и открытый летом балкон.)
Алёна действительно ощущала полное бессилие, чувствовала себя в полном рабстве, в ситуации, когда предприми и реши она что угодно — всё заранее обречено по некоей уголовной, смрадной воле. Проклинать — было тем единственным, что от неё ещё зависело, что было в её власти, что она могла. Отойдя от всякой мистики, в силу проклятий она, вообще-то, тоже при этом не верила. Но точно знала, что её слышат (люди). И хотела, чтобы они тогда уже слушали именно это. Проклятия (пространный текст), запомнившиеся уже как стихи, она действительно с тех пор стала всегда начинать с тех, кто как-либо осознанно причастен к исчезновению фотографий. Отца было уже всё равно не спасти (хотя, его отец прожил до 96-ти и до 90 ездил на велосипеде, а мать его прожила до 90), всех этих зомби — всё равно не вразумить (и даже пытаться опасно, как за бесов молиться: только дополнительные беды навлечёшь), а собственный остаток «судьбы» её уже больше не волновал (разве что, хотелось бы до нового Нюрнбергского трибунала дожить или хотя бы хоть как-то его приблизить, что относилось, конечно, к разряду почти несбыточных мечтаний), — она проклинала, не называя имён, но обозначая суть: тех, кто...
«Родственники», вообще-то, понемножку им с отцом помогали, хотя решающей эта помощь не была совершенно, и не разорялся, конечно, никто. Отцу, надо сказать, эта помощь не нравилась, — Алёне, почему-то поначалу наивной, всё это перестало нравиться позднее. Младшая папина сестра, когда алёнино завещание по наивности ещё было составлено именно на них, частенько не забывала убеждать её, что «завещание — это ненадёжно, а вот надо бы на квартиру — дарственную, её уже точно никто не отменит»... Ещё после маминой смерти, когда отец оставался на ногах, старшая из его сестёр и её муж, не спросившись, а как само собой разумеется, приехали к ним и поставили в каждую комнату по телефонному аппарату, которые папин свояк где-то умудрялся доставать. Алёна была тогда от этого в восторге, а папа — удурчён. Чуть позже она поняла, что все они просто считали этот дом уже своим. Потом на поминках папы она была доведена до тихого бешенства их попытками хозяйской наглости в её доме.
Алёна считала, что в конце концов, их помощь больному ПАПЕ — это нечто естественное, коли уж они с ним — близкие родственники, а если уж ей предстоит пережить отца, то впредь ей ещё понадобится буквально тупо выживать, и уж конечно, не в Петербурге, так что какой-то сэкономленный запас понадобится позарез. (Но кстати, впоследствии она поставила памятник родителям практически за свой счёт, так и не получив полагавшейся отцу компенсации, а от участия «родственников» отказавшись.)
В Петербурге в этот раз она не работала: отец, оставшись один, прямо попросил её посидеть дома, видимо, тоже предполагая возможные большие её неприятности и не желая потрясений для них обоих. Она была только рада: в этом городе куда-то высовываться грозило уже опасностью смертельной. Так что жили они то время вдвоём на папину пенсию, благо, приличную.
Саму её во время болезни отца тоже брали в оборот, например, пытаясь приодевать (в ношенные, конечно, вещи). Кстати, вещи любили навязывать просвечивающие, прозрачные, которые она не носила, молча складывала в шкаф. «Приодевали» её тоже в каких-то целях.
Однажды одна из тёток презентовала ей ношенную, но хорошую искусственную дублёнку. Придя домой, Алёна показала её отцу:
— Смотри, что мне сегодня дали.
Отец мрачно спросил:
— Откуда это у неё?
— Понятия не имею.
Дублёнка была действительно не чьей-то из родственников, а взявшейся неизвестно откуда. Вид в ней получался очень приличный, хотя и несколько пенсионный. Сначала даже показалось, что она натуральная, но папа, рассмотрев, сразу определил, что искусственная. Действительно. Но добротно. Алёна всё это игнорировала: всё это было ничто по сравнению с квартирой, которую «родственники» ждали. Как только в третьей Москве она смогла купить себе что-то своё — она немедленно это сделала.
Тем временем, пока папа ещё что-то слышал, им с подачи дочек стала названивать какая-то старая тётка из их молодости. Напрашивалась в гости, но так нахально, что её стали немедленно отшивать. Отец сказал, что помнит её, но абсолютно ничем с ней не связан и видеть её, постороннюю, сейчас не хочет совсем. В конце концов, однажды пришлось дать трубку ему, чтобы он послал её сам. И то ещё звонила, собираясь «сейчас прийти».
Странности такого рода усиливались, включая появившегося псевдородственника, какого-то «братца», троюродного-десятиюродного. Папа раньше знаком с ним не был, но фамилию знал. Первый раз он нарисовался после смерти мамы, когда отец ещё ходил. Второй раз, спустя два года — уже теперь, когда отец лежал. Любопытно, что это были два разных человека, представленных ей одной дальней родственницей в качестве одного и того же. В прошлый раз он был худощав, примерно с Алёну ростом, несколько невротичен, но зато умный и с ним можно было поговорить. Буквально — интеллигент в очках. Теперь ей привели нечто совсем другое. Без очков. Тот был просто белобрысым, этот — краснокожий, почти альбинос. На голову выше предыдущего, здоровенный, спокойный, как слон и тупой, как валенок. В ответ на скандал, устроенный Алёной той родственнице, ей невинно говорилось:
— Да нет, он тот же самый. Тебе показалось.
Замыкался какой-то непонятный круг.
И вот, уже буквально перед смертью отца и сразу после неё Алёне стали навязывать какого-то «сына отца», правда, представить его лично пока не пытались. Делалось это тайком от отца или планировалось исключительно после его смерти. Естественно: не имея никакого сына, можно себе представить, куда бы он всех послал. Комедия была рассчитана именно на Алёну. На поминках все эти уроды разглагольствовали:
— Ну, мог же у твоего отца быть ещё какой-нибудь сын?
Она отвечала:
— Конечно, у мужчины всегда может быть ещё кто угодно. Но это предел психологической тупости и нежелания знать человека — сочинять про отца такие байки. Во-первых, он никогда не бросал детей, никаких. Он скурпулёзно и без звука выплачивал все алименты, приносил ёлки на Новый год и копчёную колбасу к праздникам, отвозил их, куда надо, сидел с ними, если надо. Это — дочери. И от моей мамы он тоже, было дело, уходил, так что уж я-то знаю. У той женщины, к которой он тогда ушёл, детей нет. Потом она уехала в Москву, — вы все прекрасно это знаете, вы все были с ней знакомы. Я всё это знаю не хуже вас, и не надо мне вот сейчас никакой лапши задним числом. Но папа так отчаялся, что у него рождаются только дочери, он так хотел сына, что если бы сын у него был, он бы наплевал на всё, носился бы с ним, всем бы его показывал, перед всеми бы хвастался. Если же вдруг у него был сын, о котором он сам никогда не знал, то при чем здесь я и откуда о нём знаете вы?!.
Теперь Алене, по крайней мере, стало ясно: потому её и пытались ещё при отце окружить неизвестно кем, к кому бы она «уже привыкла», что после его смерти (но не раньше) эти люди стали бы ей что-то там «подтверждать». Зачем это было нужно — она не знала.
Кроме всего остального, под конец отцовской жизни у неё начались серьёзные и дикие проблемы со здоровьем. Ухаживая за умирающим папой, она сама «бросила есть», очень похудела и не могла восстановить аппетит. Заболели ступни — ходьба стала болезненной.
Ещё как-то раз ей позвонила былая школьная подруга, и так уже очень давно надоевшая, постоянно манипулировавшая, невротизировавшая и получавшая от этого удовольствие, — а в последние годы, по крайней мере, в отношениях с Алёной, просто свихнувшаяся. Иногда она откровенно измывалась, рассказывая запредельную ахинею. У «подруги» была своя семья, своя жизнь, но почему-то ей позарез было нужно, чтобы и Алёна жила ЕЁ жизнью. Ещё когда-то в университетско-германские годы Алёны «подруга» стала относиться к ней буквально как к мужчине (хотя, пол не путала), жутко ревновала её к университетским подружкам и хотела позарез быть у Алёны единственной. Приёмчики она пыталась применять именно как в отношении своих мужчин. Это, конечно, страшно раздражало, чем дальше, тем больше. Отшить её (поговорить начистоту, попросить не звонить, обидеть, в конце концов) было невозможно. В самое последнее время Алёна уже просто бросала трубки, едва услышав её голос. И выключала телефон, поскольку иначе трубки приходилось беспрерывно бросать иногда в течение 15-20 минут. Так вот, теперь она, как изредка делала раньше, очень попросила Алёну не вешать трубку и сразу сказала, что умерла её старшая сестра. Алёна купилась, тем более что это могло быть правдой: та долго болела раком. Тогда «подруга» дурным голосом (то ли ёрническим, то ли хрен её ещё знает, каким, что за ней водилось, особенно в последнее время), начала рассказывать о последнем посещении больницы.
— Прихожу, а ручки тё-ё-ёплые... Ухожу — а ручки холо-о-одные...
И так — несколько раз подряд, как будто внушала что-то. Алёна молчала, не говорила ни слова. Трубку тоже не вешала, — ждала, когда сама иссякнет. (У неё, вообще-то, у самой в соседней комнате умирал отец, о чём «подруга» прекрасно знала.) Та закончила свою тираду, не дождалась реакции и... начала сначала, слово в слово, с теми же интонациями. Когда она зарядила в третий раз, Алёна извинилась, сказала, что ей надо срочно уходить и повесила трубку, — та, правда, сказала нормальным голосом:
— А, ну извини.
В эту ночь Алёна проснулась... на своей руке. И тогда, и позднее её не интересовало, почему рука у неё затекла. Но человек, если он в сознании, так устроен, что в этих случаях просыпается и руку (и что там ещё) можно растереть. Алёну интересовало, ПОЧЕМУ ОНА НЕ ПРОСНУЛАСЬ. Сколько времени она лежала на руке, было неизвестно, но растереть её не получалось. Рука распухла, но всё же как-то отошла. Сильнейший отёк держался сутки. Через одну ночь она... снова проснулась на руке, хотя, это было всё же не так критично. Ставить эксперименты она не захотела и с тех пор до третьей Москвы спала с привязанными руками, чтобы психотехнологи опять не уложили её во сне на руку. Вообще-то, учитывая, в какой квартире и в каком городе она находилась после всех историй со снами и скандалов по этому поводу в ФСБ, многими вопросами она не задавалась. Если потом оказывалась в этой квартире хотя бы на одну ночь, руки привязывала, — у неё была целая система, чтобы это получалось надёжно, но браслеты всегда можно было быстро отстегнуть. Всерьёз на «подругу», эту свихнувшуюся дурочку, Алёна не грешила. Не могло её идиотическое «внушение» так серьёзно и безотказно сработать. Разумеется, это «дежурные психотехнологи» всё заранее продумали, осуществили, а «подругу» приплели («прислали») для пущего тумана и для ужаса. «Подруге» она, естественно, после этого тем более не звонила (только появись — и опять присосётся)...
В то время, когда умирал отец, а у неё самой прогрессировали кошмары со здоровьем, она испугалась, что сейчас просто тихо загнётся, и хоть как-то занялась собой: включила музыку (папа всё равно не слышал), начала разрабатывать руки и ноги, прыгая, двигаясь, чтобы ещё и срочно поднять энергетику. Это помогло, и руки-ноги разрабатывались более или менее прилично, хотя, больше всего потом помогла третья Москва, перемена места.
Болячки её, видимо, нужны были кому-то затем, чтобы она никуда не могла уехать, оставалась сама умирать здесь. Родственники собирались хоронить её той же зимой (почти прямо проговорились, и не однажды).
Когда Алёна уехала в третью Москву, те проблемы со здоровьем иссякли, как не было, хотя, «атака на руки» по весне 2011-го проскочила, — но всё же далеко не такая и сразу закончилась. Но это — потом, а в ту последнюю папину осень она всерьёз предполагала, что может и не выжить...
Папа умер от рака в реанимации. Никто из врачей умудрился не сказать Алёне, что у него рак, она узнала это так чётко только в приёмном покое, куда привезла его, когда уже кроме реанимации ничего не оставалось. Врачи у него бывали постоянно, участковая спокойно оформляла ему инвалидность, и всё было свалено на постгерпетический (неврологический) болевой синдром. И ещё — поликистоз (но это — не рак)... После смерти мамы, когда кисты у него были обнаружены, ему предлагали операцию, но он отказался:
— Зарежут ещё, к чёрту!..
Так бы и было...
А другой помощи ему не оказали. И как бы ни было, когда бы у него всё это ни началось, но с палкой он начал ходить только в тот день, когда узнал о смерти мамы, и тут же начал угасать, а кисты обнаружили месяца через четыре... Только в приёмном покое, когда его уже положили в реанимацию, Алёну впервые ткнули носом в давнюю, 2008 года, справку о поликистозе: «признаки Са+», и она впервые узнала, что это значит... Сам он этого тоже не знал вопреки утверждению некоторых «родственников», потому что до последнего хотел в хорошую больницу, где ему помогут, и он встанет.
Как только отец умер, «родственники» взялись за Алёну, засучив рукава. Ей велено было немедленно разобрать два родительских угла, освободить место в комнате (уж не для «папиного сына» ли)? Её заявление о том, что со своими вещами она будет разбираться сама, несколько сбило их с толку. У неё в квартире, пока готовились поминки, они начали брать телефонные трубки как у себя дома и тоже удивились возражениям. Без спросу почистили добела несколько предметов столового серебра.
В общем, началось нечто. Алёна, когда ей что-то вдруг пришло в голову, выскочила из квартиры к соседке, у которой оставляла запасные ключи, и забрала их, ничего никому не сказав. Очень скоро (видимо, когда получили информацию об изъятии ключей) они оказались с вытянутыми лицами и помрачневшие.
Ещё они ей что-то такое сказали, помогая готовить поминальный стол:
— Видишь, сколько мы здесь для тебя делаем?
— Вообще-то, вы это делаете для папы...
— Для тебя.
— Для папы! Мне-то это всё зачем?..
Где-то в эти дни, ещё накануне кремации и поминок, младшая сестра отца задушевно констатировала «в воздух»:
— Да, в нашей семье все стали умирать зимой...
И умудрилась ещё блаженно воскликнуть:
— Всё-таки, есть высшие силы! Есть!
Видимо, она ещё не знала, что завещание Алёна отменила и написала другое, по которому ничего не только не доставалось им, но даже не оставалось какого-либо конкретного человека, которым бы можно было манипулировать.
Короче говоря, папина сестрица умудрилась поблагодарить «высшие силы» за смерть родного брата и замаячившую перед её семьёй чужую квартиру. Алёна не стала спрашивать: «А ничего, что мне сейчас не 80 даже, не говоря о 90, — а 44 года»? (Похоже, их очень вдохновила её тогдашняя резкая худоба после полноты, нажитой за два с половиной года сидения дома...) Алёна в этом восклицании услышала и ещё одно: подтверждение былой догадки, что кто-то им конопатит мозги именно посредством «высших сил» и мистики. Кто-то им «пророчил». Что же, для их уровня сознания — в самый раз...
На поминках, собственно, они и завели шарманку про «папиного сына», да и вообще, какую-то ахинею про папу понесли все, кому не лень. Алёна настроилась держаться, чтобы совсем не испоганить ещё и его поминки. Ей это казалось почему-то важным. Она и в целом всё это время в Петербурге, как только самые острые эмоции улеглись, старалась быть на тормозах: общение с «родственниками» и так никогда не было близким (слишком уж разные люди, интересы, взгляды), а теперь казалось совсем бессмысленным: они были чем-то или кем-то полностью заморочены и хором выполняли какие-то свои программы. По человеческой привычке в те или иные разговоры Алёна иногда втягивалась, хотела что-то объяснять и доказывать, но по сути, если не было новых подстав, всё с их стороны было ясным заранее и виделось весьма для неё мрачным, гибельным. Теперь ей надо было, как можно более спокойно и торжественно отпеть и проводить папу, и очень быстро, беспрепятственно уехать отсюда самой, чтобы больше никогда никого не видеть. Первое время она ещё позванивала с относительной регулярностью раз в месяц, чтобы не вздумали искать и не трогали (очень уж Полковник стращал её тем, что теперь с ней легко расправиться), но потом не захотелось больше и этих телефонных контактов.
«Родственники» были, мягко говоря, не мама с папой. С родителями она не хотела, конечно, прожить всю жизнь старой клушей, но просто любила их и не мыслила когда-то остаться без них совсем, ничуть не возражая против своих звонков дважды в неделю и почти ежемесячных появлений. Теперь их больше не было, а мысль о том, что их место в её жизни и душе попытаются занять вот эти самые «родственники» с какими-то своими соображениями и планами, вызывала отвращение. Это уже не говоря о том, что всеми своими словами и намерениями они излучали опасность. Одни только поминки после кремации в смысле вот этого общения довели её до такого напряжения, что она сразу же, не убрав толком со стола, взяла свою сумочку и пакет, отправилась на Московский вокзал и первым же дешёвым поездом уехала в Москву на один день. Через день, вернувшись и наведя дома порядок, она похоронила отца и стала собираться. В тот московский день Полковник, давно обещавший в этом помочь, действительно помог решить вопрос с котом, так что здесь договорённость уже была и её подтвердили. Ещё он, выслушав её, посоветовал не оставаться в Петербурге на Новый год, что для неё было само собой разумеющимся, поскольку в этом она чувствовала какую-то особую опасность.
В общем, под конец и после смерти отца, когда Алёна оставалась единственным препятствием к получению её квартиры кем угодно, «родственники» повели себя так, что из Петербурга она уехала сразу.
Это и была третья Москва.
На работу она устроилась тут же, в охрану. С Полковником тоже увиделась сразу. Про «папиного сына» он сказал ещё в тот день после поминок:
— А-а... Это они готовят ещё претендента...
Но что-то здесь было не так. Папиной квартира никогда не была, а после маминой смерти он сам же у нотариуса сразу подписал отказ от доли наследства в пользу Алёны. В первый момент она об это даже пожалела, поскольку были сложности с её немецким свидетельством о браке, — но папа не хотел плодить наследников, которые помешали бы ей вступать в наследство после него. Однако свидетельство с апостилем было получено через МИД и всё оказалось в порядке. Так что наследовать квартиру давно уже можно было только у самой Алёны. При наличии двух сводных сестёр новый сводный брат был бессмысленен. Чего-то они об этом не знали, лопухнулись? Всё могло быть. Но скорее всего, его появление придумали не в связи с наследством. Скорее всего, им нужна была психотехнологическая власть над ней самой, и они надеялись, что «обретя брата», она растает, станет податливей. Дальше — догадок море, но Алёне не хотелось «вести следствие», тем более на догадках. Её от этого всего уже тошнило. В конце концов, они все просто сами могли не ведать, что творят: им всем давно уже могли просто свернуть крышу, что тоже было похоже на правду. Этот массовый психоз начинал выматывать до предела. (А может, это и было целью?..)
Полковник тем временем вызывал в ней всё большую растерянность. Он подзадоривал её: «Приходи чаще!» — она приходила, всегда и только в приёмную: это был вопрос сиюминутной безопасности. Но и повёл он себя странно, не однажды отсутствовал в назначенное время и никогда не звонил, не предупреждал. Кстати, ещё во время болезни отца он предлагал ей перейти на «ты», — она как-то не смогла. Он к ней обращался то так, то этак. Против этого она не возражала совсем, а сама осталась на «вы». Но он... всё больше клонил отношения в какую-то личную сторону, а ей этого было даром не надо: он был ей нужен абсолютно не как мужчина, а как должностное лицо, в самом лучшем случае как товарищ. Он же — мало того, что клонил в личную сторону, но делал это совершенно в русле психотехнологического стандарта, пытаясь вселять какие-то ненужные ей надежды, и их же обламывая. Обещал помочь и с обменом квартиры, но она чувствовала, что этого не будет. Документы показала, даже оставила копии, — вот так, через риэлтора, он бы её не кинул. Скорее всего, на кого-то он, всё же, работал и ничего решать по поводу её квартиры в его компетенцию не входило. Страшнее всего для неё было то, что он тоже на самом деле возвращает её в Петербург. А теперь она уже точно знала (решила), что туда не вернётся любой ценой. Во всяком случае, живая. Если возвращаться в этот город и к этим посторонним, да ещё и претендующим на тебя людям, — то зачем вообще жить, зачем было рождаться на свет?..
Кстати, в какой-то момент Полковник сказал ей очень важную вещь:
— К родственникам по поводу квартиры не обращайтесь. Родственникам Вы не нужны.
Опять же, она и без него это знала исчерпывающе, — они себя показали более чем достаточно. Но и опять же: было приятно, что кто-то это знает, кроме неё и независимо от неё.
После этих слов Алёна стала вспоминать ещё один эпизод из тех нескольких, когда Полковник говорил ей что-либо прямо. Это касалось «снятия её аутоиммунного диагноза». Ещё в начале второй Москвы, поздней весной 2006-го, уже тогда, когда она познакомилась с ФСБ и ходила в приёмную, но ещё до того, как она узнала о краже в Музее Музеев и до смерти главной виновницы, Алёна как-то звонила родителям в очередной раз. Они сообщили, что им звонила врач-профессор, ставившая ей тот диагноз в больнице и за год до этого руководившая фармакологическими испытаниями на добровольцах страшно дорогого английского препарата. В число добровольцев многие стремились войти, поскольку для них это была единственная возможность какое-то время получать баснословно дорогой препарат. Алёна в том эксперименте участвовала.
А ещё за полгода до этого, осенью 2004 года, когда она после истории с нервным потрясением 2003-го вспомнила об аутоиммунном диагнозе и решила этим заняться, она обнаружила, что снимки МРТ, на основании которых ставили аутоиммунный диагноз, подменены у неё дома. Алёна была не врач и ничего в тех снимках не понимала, но хорошо помнила их визуально. Они были все в очагах, как карта звёздного неба. Подменённые снимки были принципиально другие, без очагов, с какой-то цельной засвеченной областью, уже не соответствующие словесным описаниям прежних. В огромном конверте был, возможно, не замечен и остался маленький фрагмент снимка, как и был, весь в очагах. Всё это она убрала подальше, благо, их больше никто не спрашивал, довольствуясь словесными описаниями, но в заявлении в ФСБ 2006-го эта история 2004-го с подменой снимков была рассказана. А вот её участие в эксперименте 2005 года она не затрагивала (всего не перечислишь), тем более что письмо Барбисовину она тогда уже отдала и привыкла считать, что «всё под контролем». И тем более что кончилось тогда опять всё благополучно. Уже после смерти мамы, когда она на денёк ездила в Москву, ей анонимно намекнули на те снимки, да так назойливо, что вернувшись в Петербург, она немедленно уничтожила их полностью (а то ещё вздумают поставить запланированный ранее новый диагноз уже теперь, когда она привязана к этой квартире и к отцу)...
Однажды в 2005-м во время проведения фармакологического эксперимента, после того, как у всей группы в очередной раз брали кровь из вены, у неё в коридоре закружилась голова, она чуть не упала. Тогда она сказала:
— Нетушки, в обморок я буду падать не в коридоре, а в кабинете врача! — и из последних сил рванула в кабинет.
Влетела в кабинет, сказала:
— Мне плохо... — и рухнула на стул.
Но головокружение начало отпускать. Она встала, и начала что-то объяснять. Врач, один из двух в кабинете, сказал:
— Так. Сядьте. Сядьте сейчас же!
Она немножко посидела и полностью пришла в себя. Тем всё и было исчерпано. Но когда группа собралась в следующий из назначенных дней, им объявили о прекращении эксперимента, не только в том институте, а везде, где он проводился. Вряд ли это могло произойти из-за одного алёниного головокружения. Эксперимент был обширный, анализы крови и результаты еженедельных МРТ, как говорили врачи, отправлялись сразу в Англию тамошним фармакологам, так что здесь их даже не видели. Видимо, что-то оказалось не так с препаратом.
Было это весной 2005-го, так что к описываемому моменту поздней весны 2006-го прошёл примерно год. Так вот, та профессорша позвонила родителям, и не застав Алёну в Петербурге, попросила её перезвонить ей из Москвы, оставила телефон. Алёна перезвонила. Профессорша разговаривала с ней, почему-то волнуясь и заикаясь, как первокурсница на экзамене. Она предложила Алёне приехать в Петербург, провести дополнительное обследование теперь, через год после того эксперимента. Алёна понеслась в приёмную к Полковнику. Она обратилась к нему:
— Прошу вас, скажите прямо, мне ехать или нет? Если ВАМ всем это нужно — я поеду. Только скажите. Но сама я боюсь.
Это и был один из немногих случаев, когда Полковник что-то говорил прямо. Он ответил дословно:
— Конечно, нет. Никуда не ездите. Вы знаете, что с вами всё в порядке. Сейчас — никаких врачей, никаких обследований. А то ВАМ ЕЩЁ ЧТО-НИБУДЬ ПОСТАВЯТ, проверить не сможете, будете нервничать.
И пробурчал что-то вроде:
— А нам с вами потом возись...
Она не поехала.
Алёна вспоминала всё это теперь, в третьей Москве, после 2010-го, услышав откровение о «родственниках». И укреплялась в своих предположениях, которые бродили уже давно. Вероятно, она тогда недоосознала те полковничьи слова, а он как обычно всё знал. Скорее всего, он знал, что ей СОБИРАЛИСЬ «ещё что-нибудь поставить», и новый диагноз потребовал бы лечения, которое её бы убило наверняка «естественным образом». А потому профессорша, когда приглашала её приехать, и заикалась, как первокурсница. Тогда, в 2006-м, ей как раз исполнялось 40 лет, и этот юбилей она должна была не пережить. Она не поехала в Петербург, и в день сорокалетия в Москве её везде, где она оказывалась, доводили так, что до самоубийства, по сути, действительно довели. Только форму она выбрала тогда самую обратимую — голодовку, искренне намереваясь больше вообще не есть, если не прекратится вся эта дрянь (а она не прекратится). В ФСБ о голодовке она заявила письменно. Назавтра её психотехнологически «обработали», накормив в другом месте. Так Алёна, как они и договаривались, назавтра позвонила родителям, живая-здоровая. Потом были монастыри с попыткой в первом из них свернуть ей мозги в изменённом состоянии сознания.
Теперь, в связи с тогдашними и нынешними полковничьими словами и со всеми этими своими воспоминаниями, она укреплялась в неновых уже подозрениях о смерти родителей. В своё время она вскользь обратила внимание на два слишком разных снимка перелома шейки бедра матери. На первом из них были страшные обломки костей, на втором — просто ровная трещина. Но в то время Алёна ещё свято верила в то, что её письма в президентскую администрацию рассмотрены и приняты к сведению, а значит, всё будет хорошо и тонкости — не её дело. Кроме того, её ведь ещё и никто не слушал, считая двинутой, в то время как сами все «трезво смотрели на вещи», принимая за чистую монету, за реальную действительность весь тот концлагерный смертный балаган. Алёна была абсолютно бессильна: и сама заморочена призрачными надеждами на благополучный исход катастрофы, и доводов её не слышал больше никто.
Теперь, когда она в своих проклятиях поминала осознанно виновных в смерти матери, она произносила: «Если это правда, что маме не делали никакой операции, а только сфальсифицировали её, тем более, если правда, что у неё не было вообще никакого перелома, то»... В том, что мама была просто заведомо псевдоестественно убита, она не сомневалась вообще. Вот так же самой Алёне когда-то наставили страшных липовых диагнозов при наличии абсолютно всех «симптомов» и качественно, «неопровержимо» сфальсифицированных анализов любого толка... Если бы не её сопротивление вплоть до обращения в приёмную ФСБ РФ, она бы «сама» умерла раньше родителей, первой. А помочь им она не могла, потому что её никто не слышал и не воспринимал всерьёз. Хотя, папа догадываться о чём-то начал. Ещё раньше, громко ругаясь дома на политические темы, мог уже ввернуть:
— Если меня действительно кто-то здесь слышит, то пусть знают... — и это не было влиянием дочери: тогда она ещё сама побаивалась заговаривать с ним так откровенно, опасаясь его непонимания и недоумения.
А когда Алёна, похоронив маму, пыталась уже делиться своими озарениями в отношении поведения тётки, маминой сестры, её дочери и зятя, отец сказал:
— Ты знаешь, мне всё это тоже очень не нравится. Но давай, мы с тобой не будем об этом ГОВОРИТЬ.
И он уходил от любых обсуждений, страшно боясь за дочь, считая, что ей надо просто сидеть как можно тише и что это может от чего-то спасти, — не понимая, что они все приговорены к смерти В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ и как раз сопротивление только и может что-то отодвинуть и чего-то помочь избежать, если что-то вообще возможно...
Вообще-то, она бы не удивилась, если бы когда-нибудь узнала, что и у отца не было ни рака, ни даже поликистоза. Психотехнологи могут спровоцировать и сымитировать что угодно. И убить, не забыв замести следы...
Но сколько ещё людей, молодых и старых, было убито вот так, что никто никакого преступления даже не заподозрил?! И никто против этого не восстал... Соображали ли что-нибудь врачи, равно как и эти «родственники»?! Похоже, что нет, что больше уже вообще никто ничего не соображал дальше собственной денежной выгоды, потеряв такую способность — соображать. Все только бессознательно выполняли какие-то команды, ничего не думая и занимались, как велено, только «своим счастьем» — растительным, одномерным, плоским. Рабы согласились стать рабами и были если не довольны своей и общей судьбой, то уж, по крайней мере, считали её само собой разумеющейся и единственно («естественно») возможной. Как легко и быстро смогли новые хозяева мира победить «самый непокорный на земле народ»!..
Теперь и сам Полковник начал вести себя всё более странно. Что это было, тактика или окончательная «перевербовка»?.. Если тактика, то на алёниной стороне или на стороне противника?.. Его поведение всё больше убеждало в последнем. Но может, он тоже просто уже перестал думать?..
Где-то в конце весны он спровоцировал Алёну обидеться на его отсутствие («помогли» и другие эфэсбэшники в приёмной, сказав, что объяснять им ничего не надо, и без того хорошо знают, к кому она пришла, и ТАК предложили подождать его до конца дня, что она развернулась и ушла). В конце концов, всё это стало здорово утомлять. И больше она пока не приходила. Но было очевидно, что она и по-прежнему не выходила из-под какого-то контроля.
Вот, это были события прошлые. А теперь она, переезжая в очередную общагу, увидела две машины, около одной из которых стоял, опершись о раскрытую дверцу, собственной персоной Полковник. Она подавила в себе непонятную внезапную радость, вызванную почему-то его сопровождением, и поставила баул на асфальт:
— Здрась-сь-сьте.
Часть 2. (Ранее: 2 - I).
Полковник поднял голову:
— Привет, Алёна, — взгляд его остался сосредоточенным и невесёлым.
Он сделал знак рукой сидевшим в другой машине. Те немедленно покинули её и подошли к ним. Все трое — тоже немолодые, тоже задумчивые, с отпечатком пережитого на лицах, но они сочли нужным изобразить некоторую приветливость. Полковник также решил соблюсти формальности «дружеской встречи»:
— Ну, как у тебя дела?
— Вы же знаете, как. Вот так и есть…
— Ладно. Я хочу представить тебе своих коллег. Мы просим тебя сесть к ним в машину и проехать с ними. Скорее всего, это ненадолго. Чаем тебя напоят, потом отвезут обратно, прямо сюда. Ничего сложного тебе не предстоит.
— Ну, хорошо… Знаете, предъявите-ка мне все ваши удостоверения. Пожалуйста. Хочу всё-таки приблизительно знать, с кем еду.
— Пожалуйста, — сказал один из них и все трое вытащили корочки.
Алёна посмотрела внимательно: ФСБ РФ, старший офицерский состав. Одно удостоверение было тоже ФСБ-шным, внушительным, но пенсионным. Посмотрела на полковника:
— А Вы? Вашего удостоверения я так ни разу и не видела.
Он сделал хорошо знакомый отрешённый вид:
— Да ты же меня и так хорошо знаешь. Мы же с тобой в приёмной ФСБ столько лет общались. Я как-то не подумал взять его с собой… В другой раз.
«Всё с тобой ясно, — подумала Алёна, — Нет у тебя никакого удостоверения. Или есть, но петербургское. Или зовут тебя не так. Или всё вместе». И как-то ей сразу показалось, что дороги их больше не пересекутся. Но ни думать об этом, ни испытывать по этому поводу эмоций она сейчас не захотела. Обратилась к тем троим:
— Ну что, поехали?
— Алёна Валерьевна, Вы не требуете от нас предварительных разъяснений?
— Нет. Поехали, куда там нужно.
Один из мужчин раскрыл багажник, сам поставил туда её баул. Полковник махнул ей рукой:
— Пока.
«Что-то сегодня совсем скупо…» — он сел в другую машину и они уехали. Перед Алёной раскрыли дверцу заднего сидения. Она быстро села. Машина тронулась.
Они ехали куда-то, явно не на Лубянку. Алёна не интересовалась ничем, просто сидела и получала удовольствие от поездки в хорошей машине. Ею овладело безразличие, ей стало вообще всё равно. Один из попутчиков в какой-то момент нарушил молчание и спросил вполне ровно, но всё же с нотками некоторого едва уловимого веселия в голосе:
— Алёна Валерьевна, вы бы хотели спасти мир?
— Насрать мне на этот ваш мир.
— Понятно. Вы сегодня не в духе?
— В духе, в духе. Просто мне действительно по барабану и этот мир, и вообще всё.
— Суровая вы женщина.
— Да ну вас. Лучше уж объясните тогда, что от меня нужно. Большого значения это не имеет, но всё же, — если уж хотите поговорить.
— На самом деле от вас не нужно ничего особенного. Просто желательно сделать одно медицинское измерение, обследование, если хотите. Нечто вроде энцефалограммы, но не совсем. Это формальность, мы просим об этом очень многих, особенно сколько-нибудь нестандартных людей, которые попадают в наше поле зрения. Заканчивается это всегда одним и тем же: полученный результат нас не устраивает. Вероятность того, что мы можем найти человека, которого ищем, стремится к нулю. Но мы продолжим искать столько, сколько это будет иметь смысл. Вы — человек достаточно необычный, и пройти мимо вас мы не можем никак.
— Да обычный я человек! До ручки довели, вот и вся необычность. Курить у вас можно?
— Курите.
Алёна прикурила:
— Ну вот, хоть какое-то разнообразие. И то хорошо.
— Конечно. И чаем напоим, и даже с пирожным.
— Не хочу я пирожного. Я бы какой-нибудь гамбургер съела. Или — я горький шоколад люблю. А можно просто чаю.
— Толя, сверни потом правее, тормозни там, у пиццерии, — знаешь. С собой возьмём. И шоколадку ей где-нибудь купим. С орехами любите?
— Надо же, какие вы покладистые! Такое важное обследование?
— Да нет, мы просто добрые и отзывчивые.
— А-а…
Они куда-то заехали, что-то купили, поехали дальше. Теперь молчание нарушила Алёна:
— Ну и проводили бы себе измерения через поликлиники, больницы, профосмотры там всякие… Куда больше было бы возможностей обследовать большое число людей и кого-то найти. Зачем к себе-то таскать? Хотя, прокатиться я как раз не против.
— Не хотим возбуждать общественный интерес на пустом месте. Это ведь всех врачей посвящать придётся, слухи дурацкие пойдут… Толя, Толя, вон там можно шоколад приличный посмотреть! Димка, будь другом, выскочи!..
«Н-да-а…» — подумала она.
— Так вот, Алёна Валерьевна. Теоретически открыта некоторая человеческая способность. Практически таких людей, скорее всего, нет. Если найдётся, то всё это будет, конечно, оглашено. Но сейчас не хочется никого зря интриговать и будоражить умы. И мы проверяем не всех подряд. Люди нас интересуют возможно более неординарные, но с некоторой спецификой…
— Шизиков, значит, собираете?
— Ну, зачем вы так!.. Вы же знаете, что больными людьми занимаемся не мы. Но кстати, больных мы уже всё-таки посмотрели, — они не подходят нам совсем. Нас интересуют именно здоровые, но своеобразные. В отношении людей с задатками гениальности измерения тоже проводились. Интересно, но не то. Честно говоря, мы сами не очень знаем, где искать. Хотя, зачем вам вся эта ерунда! Посидим, чаю попьём, по душам поболтаем, да отвезём вас, откуда взяли.
— А по душам, значит, всё-таки, поболтаем?..
— Ох, и тяжело с вами!..
— Но вы же и ищете, чтобы потяжелее.
— Ваша правда. Вы много курите.
— Я в курсе.
— Ну ладно, сразу после измерений мы всё равно вам всё объясним, — и собеседник сменил тему.
Приехали, впрочем, довольно скоро, — куда-то в спальном районе, как ни странно. Рядом действительно было что-то вроде поликлиники, какой-то даже детской.
— Прошу Вас. За сумку не беспокойтесь.
«Черт их знает, — опять, наверное, надули», — Алёне стало не по себе.
Но внутри ничего особенного не обнаружилось. Поликлиника как поликлиника, с детсадовскими картинками на стенах. Алёну провели в кабинет-лабораторию. Врач (или не врач) был в белом халате, но вида какого-то и впрямь эфэсбэшного. Или военного. К пятидесяти. Алёна сразу прозвала его Доктором.
— Ну что, приступим. В восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят седьмой раз. Шучу. Почти.
Он, не торопясь, надел на неё действительно что-то вроде энцефалографических контактов. Сам сел боком к ней перед каким-то экраном.
— Не беспокойтесь. Ощущений никаких не будет. Звуков и световых эффектов — тоже. Начали.
Алёне показалось, что измерение длилось совсем недолго. А Доктор всё сидел и сидел неподвижно, глядя в монитор. Она заметила, что по скуле его с виска стекала струйка пота. Но он очнулся и резко схватил трубку аппарата, стоявшего рядом. Крикнул в неё каким-то сорвавшимся фальцетом:
— Мужики!..
Прокашлялся и повторил уже голосом, похожим на нормальный:
— Мужики, надо повторить измерение. У меня — диапазон.
Мужики, четыре человека, выросли как из-под земли, встали толпой вокруг монитора, впились в него глазами. Тот, которого в машине называли Толя, вдруг тихонько стукнул по столу пару раз ногтём. Остальные как опомнились, хором сделали скучающий вид. Толя безразлично сказал:
— Смотри, у тебя там ошибка измерения. Вон, один параметр не установлен. Ну ладно, давай ещё раз.
Доктор что-то переключил.
— Ну вот, конечно, ошибка. Извините за беспокойство, Алёна Валерьевна. Давайте, я вас провожу в пищеблок, там удобно, есть микроволновка, пиццу вашу разогреем, чаю попьёте... Жаль.
Остальные подхватили:
— Да, жаль, очень жаль...
«Что-то случилось. Так обалдели, что наврать толком не могут. Глазищи горят — хоть свет выключай!..» — подумала Алёна и сказала:
— Ну ладно. Курить-то там можно?
— Что с вами сделаешь! Курите. Пойдёмте, я провожу.
Толя провожал и помогал расположиться так, как будто всё время твердил себе: «Спокойно. Спокойно. Спокойно». Она уселась, а он, выходя, почти заметно сделал над собой усилие, чтобы обратно к прибору не побежать бегом.
Она сидела, с удовольствием уплетала свой кусок пиццы, запивала крепким чаем, поглядывала на огромную шоколадку, а в голове крутилось: «Опять какая-то чушь собачья… Если у меня — какой-то там диапазон, то вполне можно себе представить, что об этом нельзя говорить. Особенно при мне: меня слышат. Но тогда зачем они устроили всё это в машине, зачем говорили про измерения?.. Похоже, я им теперь зачем-то нужна, больше, чем раньше, но боюсь, всё равно чушь продолжится, и всё будет по-старому, таскаться теперь только буду к другим…»
А Толя, вернувшись в комнату, посмотрел на замолчавших товарищей, затем — на стены и потолок, и сказал:
— Ну, она пусть курит на кухне, а мы с вами — пойдём-ка на воздух.
Все сразу молча вышли на крыльцо, помявшись, отошли ещё дальше. Трое прикурили. Тот, кого в машине назвали Димкой, не куривший и, похоже, старший, после пары минут задумчивости негромко заговорил:
— Значит так. Сейчас, Анатолий, навешаешь ей лапши и надо отпустить, вернуть. На днях заберём её по запасному плану.
— Думаешь, она согласится? — спросил Доктор, которого звали Виктор.
— Да ты что, её никто не спросит. Она будет спать.
Ещё один, Алексей, с которым в машине разговаривала Алёна, нервно затянулся, резко отвернулся, повернулся опять:
— Это называется похищение человека.
Откликнулся Толя:
— А на тебя что, этот детский садик так подействовал? Или ты не с нами?
— Заткнись. Вы вообще понимаете, во что мы все можем влететь?
— А ты понимаешь, во что мы все вместе, правые и виноватые, влетим через полгода?
— Может, ещё ничего не будет.
— Вот если не будет, — задумчиво констатировал Дмитрий, — тогда через полгода и начнём решать, что дальше. Всё равно она побудет у нас. Паспорт потом сделаем новый, — ей всё равно, какой. Но если через полгода наступит звездец, а мы ничего не предпримем, хотя теперь уже, оказывается, можем, то именно это и станет верхом идиотизма. Все расчёты, которые пока что никем не опровергнуты, показывают, что звездец будет полный.
— Но по большому счёту, этого почти никто не проверял…
— А, ты предлагаешь ввести в курс дела международное сообщество?
— Нет, до такой степени я ещё не свихнулся. Но оказаться государственным преступником до сих пор мне не доводилось.
— Всё когда-нибудь бывает в первый раз.
— Тоже мне, хохмач. Ладно, займёмся делом.
Какое-то время они ещё поговорили, очень тихо. Потом Виктор спросил:
— А зачем вы ей в машине всю эту ерунду наговорили? Лучше бы вообще ничего не слышала. Теперь выкручивайся!
— А ты мог себе представить, — возразил Толя, — что мы найдём диапазон? И никто не мог. Её невозможно было под шумок вытащить на обследование так, как это делается в большинстве случаев. Она никуда не ходит, на работе профосмотров не проводится, благовидного предлога было не найти. Да и вообще, она под таким контролем, что если сама бы ничего не заподозрила — другие бы заподозрили. Лучше всего показалось — взять и свозить в открытую. Пройти мимо неё было нельзя, но реальной надежды ни у кого не оставалось, — кто же мог всерьёз такое предположить! Скольких уже проверяли, лбы о стенки порасшибали — всё зря. Ей сказали, и то без тонкостей, ровно то, что наврано руководству. Такие обследования не спрячешь, а чтобы лучше всего что-то спрятать — надо положить на самое видное место, — древняя истина. Вот и делали всё практически открыто под видом исследования способностей выживания в экстремальных условиях. Мы изо всех сил производили впечатление идиотов, заклинившихся на полубредовой идее, и на нас махнули рукой, лишь бы основной работе не в ущерб. В конце концов, теоретическое обоснование мы подсунули, и с виду вполне разумное, хотя, с заведомо маловероятным результатом, так что нас и не трогали. И то, что мы её сюда свозили, выглядит вполне обыкновенно. Вот ей и приврали то же, что всегда. Лучше бы было, конечно, совсем ничего не говорить, но тогда бы мы и проверить ничего не смогли.
— Так, теперь слушайте, — вмешался Дмитрий, — Сейчас ты, Толя, всё это ей скажешь. Можете потрепаться подольше. Вверни, что поскольку была ТАКАЯ ошибка, да и что поскольку настоящий её график, хотя нам и не подходит, но может представлять некоторый интерес, то мы теперь можем найти её ещё раз. Это вряд ли, но пусть месяцок будет готова к тому, что мы её найдём и попросим задержаться у нас на несколько дней. Надеюсь, догадается потаскать с собой самое для неё важное, чтобы потом без истерик.
— И что, мы так за ней и приедем?!
— Окстись. Заберут её совсем другие люди, — никто не успеет опомниться. Она исчезнет, а мы руками разведём. И теперь — всё, конспирация и секретность максимальная. Завтра соберёмся в большом составе, всё проработаем, всё обсудим там, где до нас не доберутся, где нас точно не услышат. Фу, я уже взмок.
— Слушай, — спросил Алексей, — Ну стащим мы её, спрячем, а она упрётся, работать вместе с нами не захочет, голодовку какую-нибудь объявит (она любит), — и всё, будет полный провал.
— Это проблема. Но если мы скажем ей правду… Н-да… Она вообще ничему не верит, врать ей больше нельзя, а правда у нас такая, что… Но если она нам поверит — я не сомневаюсь, что уговаривать её не придётся. Ладно. Тут у нас пока ещё время есть подумать. Толик, дуй, заговаривай пока зубы (и будешь разговаривать — помни, что она тебе не верит, она вообще никому не верит — поизворачивайся). Завтра соберёмся и всё обговорим детально. Дня через два-три мы её заберём, — тянуть нельзя.
— Я её сейчас попытаюсь на себе самой заклинить, чтобы о лишнем поменьше думала.
— Только об устройстве собственной жизни она думать не будет…
— Не учи учёного.
— Гражданин Копчёный.
— Хм… Да, кстати, будешь с ней говорить — относись к ней стопроцентно по-товарищески. Глазки не строй, личные симпатии не разыгрывай. А то она взбесится, мы с ней потом намаемся. И вот ещё, — это всем. Надо быстро найти пару наших сотрудниц, пенсионерок, одиноких, тёртых и постарше. Пусть, когда она окажется у нас, поживут с ней в комнате. И ни с какими разговорами пусть не лезут, вообще не трогают. Просто в качестве гарантий для неё, чтобы в голову ничего не брала. Главное, чтобы она дело сделать согласилась. Кормить будем всех нормально, врачей и досуг пенсионеркам обеспечим. Думайте. И тебе, Витя: нужно будет быстро организовать ещё штук пять приборов — разных, чтобы в измерении быть уверенными наверняка. Толя, иди, работай.
Алёна сидела, смотрела в окно. Оно выходило на другую сторону, так что курившей компании она не видела. В дверь предупредительно постучали, и сразу же зашёл Толя.
— Ну, как дела? Не скучаете? Вас что-то развеселило?
Алёна, как это нередко случалось у неё в любых ситуациях и состояниях, только что выдумывала забавную историю, полностью отключившись от актуальных событий, — она вжилась в свою выдумку и не успела согнать с лица улыбку. Теперь она посерьёзнела и ответила:
— Нет. Я просто анекдот вспомнила. И я съела два куска пиццы, — кому-нибудь не достанется.
— Съешьте третий. Я предлагаю называть друг друга по имени, вы не против? Меня зовут Анатолий, можно Толя.
— Очень приятно.
— Взаимно, Алёна. Ну что ж, мы все хотим ещё раз поблагодарить вас за то, что вы согласились провести измерение. Очень жаль, что ваш результат опять нам не подошёл, — мы уже было понадеялись… Мы занимаемся возможностями выживания человека в экстремальных условиях и ищем один крайне редкий психофизический показатель, который теоретически позволяет выдерживать экстремально высокий стресс. Если бы мы нашли человека с таким показателем, за ним бы можно было с его согласия понаблюдать, провести измерения в разных искусственно вызванных психологических состояниях и это бы помогло выработать методику для существенного повышения психологической устойчивости при работе в чрезвычайных ситуациях целого ряда профессионалов.
«А глаза такие врущие-врущие… — мысленно усмехнулась Алёна, — И тонус повышен. Что-то здесь происходит, кажется, само по себе вполне экстремальное…» Но вслух сказала:
— Мне тоже жаль, что я не оказалась вам полезной. Мне самой было бы любопытно.
Она снова было улыбнулась, но сразу же подавила улыбку: она вспомнила, как отдала письмо для известного телеведущего, а через несколько часов мелькнул Полковник, дав ей понять, что прочитал. В том рукописном трёхсотстраничном письме она среди прочего достаточно свободно описывала несколько встреч с различными правоохранителями, включая Полковника. После этого он общался с ней только в очках, не тёмных, но затемнённых, поставив тем самым некоторый барьер…
— Но распрощаться мы с вами, тем не менее, не хотим.
«Кто бы сомневался!»
— Ваши показатели интересны, да тем более — та запоминающаяся ошибка при первом измерении… По всей вероятности, мы постараемся увидеться с вами снова.
«Ну, понеслась!..»
— Наверное, если вы не возражаете, мы попробуем повторить измерения в несколько разном вашем состоянии: где-то насмешим, где-то, простите, немножко испугаем… Обед и комфорт обещаем полноценный. Как вы на это смотрите?
— Я не возражаю. Всё какое-то развлечение…
— Вот и прекрасно. Я не могу вам точно сказать, когда будет эта встреча и будет ли она вообще. Где вы живёте, мы теперь знаем, где работаете — вы нам сейчас сообщите…
«Ну да, поиграем в то, что вы сами этого не знаете…»
— Так что в течение месяца мы можем точно так же подъехать и привезти вас сюда же. Минимум это займёт пару часов плюс обед, вполне неторопливый, а максимум — даже несколько дней, если вдруг вас захотят обследовать довольно серьёзно. В таком случае, прожить эти несколько дней лучше будет здесь, — комнату вам выделят. В общем, ничего конкретнее я сейчас не скажу. Если вас это не затруднит, вам было бы неплохо (не в таком, конечно, объёме, как ваша нынешняя сумка в багажнике) брать пока с собой самое необходимое и то, что вы не хотели бы на несколько дней оставить без присмотра. Может быть, это всё и не понадобится, но посмотрим, как будут продвигаться наши дела и как сложится рабочий график. О вас мы договоримся, заранее кого-то ставить в известность о возможной отлучке не обязательно, — как хотите. Думаю, ни к чему: одно дело — договоримся мы, другое — вы сами заранее станете где-то отпрашиваться, не зная ни времени, ни сроков. Но это не принципиально.
— Хорошо, договорились. Нет проблем, — сказала она, прикурила и подумала:
«Вот это да!.. Вот это — лёд тронулся!.. ТАКОГО не было ещё никогда. Кажется, у меня теперь что-то изменится по полной программе!.. Хотя, возможно, мне этого просто очень хочется… Когда я первый раз в 2006-м мчалась с заявлением в ФСБ, я тоже думала: всё это не случайно и что-то, наверное, изменится и в мире, и в моей жизни… А жизнь — как была заклиненной намертво и безысходной, так и осталась. Только родителей потеряла. Они, конечно, были старенькими и уж точно не вечными, но я никогда не думала, что им позволят умереть ТАК… И я сама окажусь со всех сторон обведённой вокруг пальца, и ничего не смогу изменить!.. Всё, надо убрать этот свой авантюризм, быть очень осторожной и не сочинять себе сказки. Действительно, сделали какое-то измерение, я не подошла, хотят сделать ещё, но не факт, что это будет, а если сделают — накормят и скажут «спасибо», и опять мне — одной в эту бесконечную жуть, точно такую же, точно…»
— Простите, я задумалась и прослушала. Что вы сейчас сказали?
— Я предлагаю вам ещё перекусить (по-моему, вы по большому счёту не очень сыты) и немножко поговорить о вас.
— Можно, но уже становится довольно поздно, темнеет. Времени ещё сколько-то есть, но меня в общагу не пустят…
— Вас пустят в общагу.
— Ну, тогда ладно. Вы пиццу будете? Мне всё равно столько не съесть.
— Давайте.
Пока она ставила в микроволновку два куска пиццы, она не заметила, как Анатолий рукой проверил под крышкой стола какой-то тумблер: тот был включён.
— Алёна, у вас есть какие-то планы на дальнейшую жизнь?
— Какие у меня могут быть планы? — всё равно мне жить не дадут и скорее всего, скоро грохнут. Не ножом, конечно (хотя, всё может быть), но просто заболею чем-нибудь и помру. Сама. Или шею сверну — совершенно случайно.
— Я вам обещаю, что всё будет не так скоро и вообще не так. Я вам это точно обещаю.
— Мне уже чего только ни наобещали!
— Но я — первый раз.
— Ну а если не грохнут — всё равно это будет не жизнь. И так уже всю украли какими-то любовями грёбанными, бессмысленными, — только время жизни на эту дрянь ушло, — так ничего и не сделала, что мне на самом деле было нужно. И я уж вроде всех давно послала, а всё подсовывают, причём, теперь уже только таких, с которыми точно поговорить не о чем. Чтобы и остаток жизни на них ушёл. А меня уже совсем от этого всего тошнит. Да ну, я сейчас есть не захочу, не полезет. Но для того всё и делается. Знаете, в последние музейные времена меня стали задалбывать красным цветом... Ой, меня, кажется, понесло... Знаете, я так редко с кем-нибудь говорю так, чтобы это имело хоть какой-нибудь смысл... Нет, не редко: никогда. И теперь, как только замаячила возможность, вот: что-то начала — и уже чувствую, не остановиться...
— Алёна, говорите спокойно. Всё, что хотите. Я буду вас слушать и всё сумею воспринять. Вы начали что-то про красный цвет...
— Ну да, в последние музейные времена меня стали задалбывать красным цветом. С какого-то весеннего момента вокруг меня стало появляться ненормальное количество людей в красном. Да так назойливо, откровенно, нагло! Меня это бесило страшно. Считалось, что я — как бык на красную тряпку реагирую. Всё объяснялось какими-то сексуальными причинами. А психология — Клондайк для лжи, это известно. «Психологическими» причинами можно объяснить и оправдать вообще всё, как угодно вывернув наизнанку. Я читала, что в ЦРУ на основе «психологического портрета» выносят негласные смертные приговоры. А «психологическим портретом» можно вертеть, как вздумается. Ври что хочешь, только «умно». Я была на тренингах, я всё это видела и знаю. В общем, меня доводили до белого каления красным цветом, а «психологически» подвинутым дурикам из «гитлер-югенда» говорили: «Вот, видите, что с ней творится? — ей секса не хватает». Они наблюдали: «Да-а-а… Действи-и-ительно…» И длилось это до конца первого лета второй Москвы.
— Какой?
— Ну, это когда я во второй раз в Москве жила. Я это привыкла так называть. И там, похоже, кто-то решил проверить, на что я реагирую, на красный цвет или на то, что мне какие-то уроды проходу не дают. Однажды (как это обычно делается) моё внимание резко привлекли зелёным цветом: выпустили на роликах девицу с очень длинными, развивающимися фосфорицирующе-зелёными волосами, а за ней — ещё несколько человек в ярко-зелёном. И с того момента меня стали точно так же плотно окружать люди в ярко-зелёном. Дня за три я озверела. (Просто потому, что это было очередное психологическое насилие. А оно всегда ещё и подчёркивается, чтобы человек за случайность не принял, всё делается с особой наглостью.) Кто-то кому-то что-то, похоже, доказал, и меня с этими цветами оставили в покое. Ненормальный избыток красного, равно как и чего-либо другого, вокруг меня прекратился. Но чем-нибудь задалбывают всегда, много-много лет, с тех пор, как началось открытое уничтожение. В последнее время вот, опять эти шали. Или там платки на плечах, на предплечьях. В первое лето второй Москвы такой период тоже был, — я их даже догонять могла, что-нибудь вытворять, без членовредительства. Потом они успокоились. Теперь — опять. Я всё понять не могла, что означают эти дурацкие шали, — раньше их ещё и с голой задницей надевали (в смысле — в обтягивающих джинсах), теперь вот больше в юбках. В современном мегаполисе, в транспорте, в магазине — эти бесконечные дуры в шалях. Вокруг меня, во всяком случае. Кстати, во второй Москве это тоже началось стандартно-подчёркнуто. Ещё в начале, на той подмосковной квартире, с которой мне Полковник велел срочно съехать.
— Какой полковник?
— Как какой? — Алексей Михайлович, с которым вы меня сегодня у общаги ждали.
— А-а-а... Ну да, конечно… Ну-ну, и что?
«Кхм-кхм…» — мелькнуло у неё.
— Так вот, ещё тогда, на той квартире, где мы с одной знакомой снимали комнату, как-то раз все соседи (довольно молодые) пили пиво. Я в Москве алкоголь не пью, во всяком случае, тогда не пила совсем, поэтому себе заказала безалкогольного. Был конец весны, ещё прохладно, но окно на кухне держали раскрытым, тем более что все курили. Но это всё не важно. В общем, сидели мы, болтали (а компания-то как раз была не очень хорошая, подозрительная). Вдруг, ни с того, ни с сего, мне стало очень холодно. Такие вещи я к тому времени «естественными причинами» себе уже не объясняла, — и навидалась всего этого, и наелась в славном Петербурге, в Музее Музеев.
— Понял.
— В общем, я сразу подумала, что ощущение холода — не моё, внушённое. Тем более что посматривали на меня с интересом и как-то выжидательно. Но уходить не хотелось: я покуриваю, безалкогольное своё попиваю, вокруг люди сидят, тихонько тарахтят себе о чем-то вместо музыки… В общем, я вспомнила, что у одной пары в комнате был пушистый плед, и я у них его попросила, чтобы просто накинуть. Девчонка пошла в комнату, но вместо пледа принесла какое-то облезлое тонкое покрывало. Сказала, что ничего другого нет. Я не поверила, но не буду же я требовать!.. Ладно, хрен с ней, — накинула это. Но что-то во всём этом было странное. Смотреть продолжали, я бы сказала, испытующе. Да, забыла, что перед этим… Я очень сумбурно рассказываю, да?
— Алёна, вы всё нормально рассказываете, я внимательно вас слушаю, продолжайте.
— Ну вот. Там ещё один сосед был, младше меня, но далеко не юный. Это был психотехнолог просто откровенный, редкостный, я бы даже сказала, гениальный. Правда, со мной всё равно не справился. Я даже думала, не специально ли, потому что меня при желании одним мизинцем можно и раздавить, и на изнанку вывернуть, особенно такому монстру — то ли монстру психотехнологий, то ли актёрской игры. (Но на мои мысли он реагировал.) Может быть, конечно, всё это был всего лишь отвратительный «спектакль» из разряда тех, что просто забивают человеческое время вот такой дрянью, а в действительности просто крадут жизнь, пускают её вникуда. Но вообще, я не однажды думала, что он вёл двойную игру (опять!!!), а на самом деле — специально загробил тот сценарий, и был на самом деле эфэсбэшник. …Ну что вы так улыбаетесь?!
— Да просто приятно вас слушать. Продолжайте, пожалуйста. Я — сама серьёзность.
— Ну вот, этот тип, тоже, кстати, Алексей, как и Полковник, (на имени Алексей в то время вообще делался сильный акцент), — он появлялся в самых неожиданных образах... Ой, про пиццу забыли, — если остыла, я ещё раз включу… Тот Алексей был и по манере, и по интонациям, по всему — то рокер какой-нибудь, то спившийся работяга, то богатый бизнесмен, — в общем, кто угодно. Тогда, в тот вечер, он начал рассказывать какую-то совсем дурацкую, бессмысленную историю, но в образе… какого-то бандита-забулдыги, который в школе ни разу не был, — тупого-тупого… Но именно бандита, — сплошная феня. А сразу после этого мне и стало вдруг холодно. Тогда я и попросила плед, а девчонка мне принесла старую тряпку, в которую я и укуталась. Вот после этого тётки и стали вдруг ходить в шалях и в платках на плечах. Я всё искала подоплёку. Был ли это намёк на того юного «фиолетового» бандита?.. («Фиолетовые» — это тренинги.)
— Я знаю.
— Так я понять не могла, был ли это намёк на того подсунутого мне бандита, «начинавшего нормальную жизнь»? Если это был намёк, то тупой какой-то, потому что тот бандит на самом деле был такой же гений, — ещё один. Разговаривал он почти только матом (а я тогда не употребляла этих слов ещё совсем, — до Музея Музеев), но оказывался, особенно один на один, до такой степени артистичен и остроумен, что слушать его можно было часами… После второго, московского, я даже засомневалась, они ли сами были такими самородками, или это тоже какие-нибудь психотехнологические штучки? Но главное, что вся комедия, которую разыграл Алексей, никак не тянула на намёк на того бандита: такой фонтан остроумия и такая тупость!.. Так, всё, едим пиццу. Ну вот. Во-первых, между двумя историями — ничего общего. Во всяком случае, от первой истории, закончившейся первой Москвой, хотя, «неприятности» там и были, но никаких нехороших осадков у меня не осталось. Может, я вовремя разорвала с ним отношения, сама устроившись на хорошую работу, с которой начался мой дизайн. В общем, я долго не могла уловить связи и ничего понять с этими шалями, только чувствовала (по тому, КАК всё происходило), что за этим должно стоять что-то мерзкое.
— А с Алексеем этим что-нибудь было?
— Да нет же! У меня вообще с конца 2001-го, фактически с 2002-го года ни с кем ничего не было, когда я весной 2002-го сознательно отказалась от личной жизни, чтобы не допускать сплошной начавшейся мерзости, когда все мужчины (любые) стали вдруг вести себя одинаково и приводить всё практически к одинаковому облому, как будто приучать, КАК всё будет кончаться впредь... Тем более что это вообще не главное, когда было уже столько всего...
— С 2002-го? Да вы что!..
— А что?
— Нет, ничего. Это — личное дело, личный выбор каждого... Так что Алексей?
— Ну и Алексей — ничего. Я потому и думала, что уж не эфэсбэшник ли он, что я, вроде как, должна была в него влюбиться и начать соперничать с той женщиной, с которой мы сняли комнату (очень полной женщиной, — она-то на него запала ещё как), — всё это было бы, видимо, очень весело, тем более что приехала я во вторую Москву тоже совсем располневшей, и вдруг очень быстро похудела, чего никто не ожидал. Но ни на ком западать я не собиралась даже в дурном сне. Он же, как специально, даже не попытался этого добиться, ни влюблённости, ни соперничества, во всяком случае, абсолютно предоставил возможность этого избежать. А потом, когда я заподозрила, что вся эта компания смахивает на сутенёрскую бригаду, и начали сгущаться какие-то тучи, Полковник в приёмной ФСБ вдруг САМ предупредил, что с квартиры мне надо срочно съехать… В общем, не знаю.
— Это был 2006-й год?
— Да, май-июнь 2006-го. Кстати, Алексей тот (на квартире) где-то под занавес сказал мне: «А ты, значит, сама себе хозяйка?..» — с тех пор я его видела максимум один раз. Но с этими шалями мне на нервы действовали очень долго, причём, в обоих городах, и в Москве, и в Петербурге. Только теперь, в третьей Москве, когда опять начали, до меня вдруг дошла подоплёка (или, по крайней мере, одна из подоплёк): ведь эти шали символизируют «ограничение» (связанные руки) и в пределе — саван… Родителей перед смертью тоже, кстати, тема смерти окружала очень плотно: телевизор просто вообще нельзя было включить, а потом — всякие похоронные автобусы чуть ли ни кругами ездили, и вообще, все совпадения сводились к этому.
— Мистика?
— Да бросьте вы! Технологии. Любой примитивный учебник по НЛП почитайте, и больше ничего не надо.
— Спорить не буду. Мне-то интереснее всего именно то, что вы сами думаете. А как вы расцениваете вот эти толпы в шалях, самих людей, которые этим занимались? Кто это? Зачем?
— Да с этим тоже, по-моему, всё довольно просто. Я ещё за год до заявления в ФСБ Барбисовину писала…
— Кому, простите?
— Долго объяснять. Музей Музеев.
— А, всё.
— Так я ещё тогда это поняла, а теперь начиталась. У Джина Шарпа — знаете?
— Конечно.
— У него есть список из 198-ми «ненасильственных действий» смены власти. Дело не только во власти, а в психологических воздействиях, и в подавлении людей как таковых. У Шарпа — особенно в плане ненасильственности всё «красиво»: самосожжение, утопление, психологическое изнурение оппонента, «преследование по пятам» официальных лиц (а как я хорошо знаю, и на собственной шкуре, и на примере других, живых и мёртвых, речь идёт о лицах, совсем не только официальных)… Пример того, что я рассказываю сейчас, — нагляднее не придумаешь. Там же, в списке: насмешки над официальными лицами, отдельным параграфом — остракизм отдельных людей (черным по белому), выборочный социальный бойкот, отказ от исполнения супружеских обязанностей, отказ от общения… Там же, в других параграфах: ненасильственная оккупация (представляете себе, да?), ненасильственное психологическое изнурение оппонента, ненасильственный захват земли, политически мотивированное изготовление фальшивых денег, захват ценностей (даже не конкретизировано, что ненасильственный), демпинг… Всё это, конечно, разбавлено более удобоваримыми вещами, но это — «библия» современных революций, финансируемых из США, где ставка делается на молодёжь с её природным стремлением к протесту при недостатке жизненного опыта, — молодёжи первой стремятся заменить ценности и тип мышления для ведения скрытой войны и скрытого геноцида — по сути «руками своих». А им усиленно внушается твёрдое убеждение в том, что их действия — во благо, ради построения прекрасного мира для своих детей, — только им забывают напомнить, что это — лозунг и идеология любого классического фашистского режима — строить прекрасный мир только для своих, жертвуя чужими… Их (многих, во всяком случае, но не всех) призывают к отказу от физического насилия, и в результате они совершенно спокойно другим способом участвуют в уничтожении людей, искренне считая, что просто совершенствуют мир. А центральные каналы того же телевидения не ведут даже просто никакой разъяснительной работы, и я уже не верю, что это — просто ошибка, аналогичная лопоухому проигрышу СССР в холодной войне. Нас просто сдали (как, видимо, в действительности, и тогда), а потому молодёжи никто ничего и не объясняет, никто ничему не препятствует. Теперь уже и внутри страны кому-то это слишком выгодно… Вот точно так же и мне никто ничего не объясняет в ФСБ, и никто ни от чего не собирается защищать ни меня, ни то, что называется народ.
— Ну, объяснили-то вы мне сейчас сами всё исчерпывающе. На эту тему вы, похоже, всё знаете.
— Так это же меня надо было до этого ДОВЕСТИ! Думаете, именно этого знания мне хотелось от жизни?
— Алёна Валерьевна, давайте мы все эти темы обязательно обсудим потом.
— Уже по имени-отчеству? А будет какое-то «потом»?
— Простите, Алёна. Вы меня из колеи выбиваете. Тихо, тихо, тихо, — я имею представление о вашем саркастическом остроумии, — не усугубляйте сейчас ничего. По имени-отчеству я вас стал называть просто автоматически, настолько официальную тему вы затронули. А кто кого сдал, обсудим как-нибудь потом. Всё не так страшно, как вы себе рисуете. Я уж не знаю, когда, но когда-нибудь это «потом» наступит обязательно.
Сидя лицом к окну, Алёна не видела, как дверь бесшумно приоткрылась, в неё очень осторожно заглянул Дмитрий и совершенно откровенно показал Толе довольно здоровый кулак, сразу закрыв дверь. Анатолий сохранил на лице полную бесстрастность.
— Но я ещё не всё об этом сказала. Ведь о самом-то главном почти никто не пишет, тем более не говорит. Джины Шарпы — это понятно, но делается-то всё по большому счёту иначе. Речь идёт не об убеждении, даже не о лжи, а о прямом вторжении в сознание — и отдельных людей любого уровня, и их масс... Это не я вам должна говорить, я ничего об этом не знаю, кроме самого факта, многих его последствий и кроме совсем уж примитива, вроде НЛП, — это ВЫ мне должны рассказать, а вы все молчите, как рыбы...
— Алёна, с вашего позволения я промолчу и сегодня. Я не буду ни в чём вас разубеждать, не буду говорить ерунды, а просто опять попрошу отсрочки. Пожалуйста, давайте подождём, когда будет больше времени обсудить именно это... Будет, будет! — не обижайтесь и не лезьте в бутылку. Когда-нибудь обязательно всё обсудим, но пожалуйста, не сейчас.
— Ну да, как только речь заходит о самом интересном и важном, так сразу получается, что разговор, конечно, будет, но когда-нибудь потом...
— А кто-нибудь вам уже обещал, что хотя бы потом, но такой разговор состоится?
— Да... А вообще-то, вы знаете, нет... Полковник всё время сразу рот затыкал. В последнее время вообще начал вдруг говорить, что мне всё показалось...
— Ну вот, а я — обещаю. Разница есть?
— Ага, вам весело. А для меня — феерический прогресс: раньше на три буквы посылали, теперь обещают. Стану дряхлой старухой (вот так, во всей этой бредятине и во всём этом вылетании жизни псу под хвост) — тогда, глядишь, всё опять продвинется вперёд на полшажка...
— Ну, вы-то как раз дряхлой старухой не станете... Не должны...
— Странно как-то вы это сказали... Меня всё-таки скоро грохнут?
— Нет, теперь уже точно нет...
В этот момент, едва не слетев с петель, распахнулась дверь, и появился Дмитрий, сияя обаятельнейшей улыбкой и прямо-таки излучая добродушие.
— Ребятки, вы не устали? Толя, по-моему, сегодня уже очень устал... О чем вы тут говорили, если не секрет?
— О том, буду ли я дряхлой старухой. Видимо, о том, не грохнут ли меня раньше.
— Вас — не знаю, а вот Тольку я грохну прямо сейчас... Чтобы девушек не уводил у всего коллектива.
— Ну вот, вы пришли, и снова шуточки. Тоже будете мне рот затыкать.
— Господи, да нет же! Не вам! Впрочем, Анатолий, наверное, уже отдохнул. Какой бы ни был, но какой-нибудь профессионализм должен бы уже немножко сказаться... Так о чем вы тут говорили?
— Алёна читала мне политинформацию. Очень, кстати, качественно.
— О! Это ровно то, что нужно. Вправьте ему мозги, Алёна, вправьте. А я пойду пока. Пицца... Кстати, кусок пиццы с собой возьму. За ней, собственно, и приходил.
Дмитрий вышел. Толя встряхнул головой и сказал:
— Ладно. Политинформация у вас, и правда, была классная. Расскажите мне ещё что-нибудь этакое. Я знаю, вы можете. Вас интересно послушать, — я, честно говоря, даже не думал. А на Димку не обращайте внимания.
— Вам тут хорошо хохмить: вы все делом заняты. А я болтаюсь, как «гэ» в проруби, и так всегда и будет. И что-то мне не до смеха.
— Алёна, я не буду на это отвечать. А то сейчас Дима за пиццей опять прибежит. За последним куском.
— А, так он нас всё-таки слышит?.. Да ладно, бросьте! Я ни одной секунды не рассчитывала на конфиденциальность. Привычка. К тому же, я думаю, что тут у вас — самая обычная прослушка: здесь стоят микрофоны, и слушаете себе всё за какой-нибудь стенкой. Да ещё не где-нибудь, а на своей собственной территории. По нынешним временам это не так страшно. (Ох, и выражение лица вы состроили!..) Я не уверена, что вы бы все потом без этого обошлись, но уж сейчас-то — война идёт, как-никак. Правда, не очень понятно, почему вдруг я-то тут пригодилась... А пиццу он пусть берёт: в меня всё равно больше не лезет, тем более что покупали её не мне, а на всех...
— Вот про войну, пожалуйста, поподробнее, Алёна. Очень интересно, что вы сейчас скажете...
— Ой, Толя, раз так — принесите мой баул из машины. У меня в нём, кажется, есть конспекты, если я сумки не перепутала.
— Ух ты, как всё, оказывается, серьёзно!.. Сейчас, подождите минуту.
Анатолий вышел.
Едва он прикрыл за собой дверь, на него налетел Дмитрий:
— ПАйдём-ка, дАрАгой, баул нести тебе помогу. Ой, пАмАгу, мамой клянусь! — и, не сбавляя ходу, вышел с ним на улицу.
Они подошли к машине. Дмитрий достал баул и поставил его у дверцы, а сам куда-то направился, но не ко входу, а метров на 50 в сторону. Понимающий Анатолий подошёл к нему и тихо сказал:
— Хватит, здесь уже не слышно, если ещё кто-нибудь слушает.
— За шмотки свои ты уверен?
— Да, надёжно.
— Так, друг любезный. Тебя бы уже заменить надо, а то действительно, от всего, что напроисходило, шарики за ролики заскочили. Я понимаю, что все и без того вымотались, как собаки, и никто ни к чему другому не готовился, кроме как прокатиться ещё разок вхолостую и чайку попить, а тут — на тебе... Ну, так тем более, теперь не до расслабления. Ты трепись о политике, как хочешь и сколько хочешь, но ты уже два раза чуть операцию не завалил. Того, что она у нас ещё точно появится, ты ей, а заодно и всему белу свету, уже клятвенно наобещал, — ещё и в разговорчик о возрасте впутался. А менять тебя нельзя: пока что всё это — просто трёп, но как только начнём очевидно контролировать темы разговора и выводить из игры собеседника, станет ясно, что работает некий план какой-нибудь операции. Так что ты сейчас покури, успокойся, возьми себя в руки и возвращайся политинформацию слушать. Кстати, это тоже интересно, и эта запись нам тоже понадобится, когда начнём готовить её саму и материал шифровать: отрекомендовать-то её тоже как-то потребуется... В общем, кури и приводи себя в порядок.
Алёна дожидалась вся в нетерпении, когда наконец-то пришёл Анатолий. Она расстегнула баул:
— Как хорошо! Всё действительно здесь, все восемь тетрадей. Вот, смотрите (если вам интересно)...
— Ещё как!
— Вот смотрите. Ещё в 1910 году (ещё до Первой мировой войны, — а не здесь ли ключ ко ВСЕЙ истории ХХ века?..) — ещё в 1910 году американский президент Уильям Хоуард Тафт сделал заявление о том, что «доллары будут сражаться вместо солдат, доллары будут разить гораздо эффективнее, чем снаряды», а узкая группа людей будет фактически управлять миром, ибо власть денег гораздо сильнее власти оружия. (Это по книге Вячеслава Широнина, «Под колпаком контрразведки. Тайная подоплёка перестройки».) «План Тафта изначально предусматривал примат экономического давления над военным, постепенно уменьшая военную составляющую экспансии до минимума, отдавая приоритет глобальному экономическому наступлению». Вот ещё: «преемник Тафта Вудро Вильсон, временно отказавшись от знаменитой «долларовой дипломатии», использовал Первую мировую войну для того, чтобы превратить Америку в наиболее мощную в военном и экономическом отношении мировую державу. Вудро Вильсон — первый американский президент, отправившийся в Европу, чтобы в рамках Версальского договора 1919 года навязать свою волю обессилевшим европейцам». (То же, кстати, и со Второй мировой войной.) «Вот так начиналась эра «нового мирового порядка». В изначальных планах мирового господства отдельным разделом стояла Россия. План предусматривал её изоляцию, а в дальнейшем — искусственное подогревание её агрессивности в целях сплочения всего остального мира перед лицом «русской опасности». Наряду с экономической блокадой и общим ослаблением России задумывалась её культурная изоляция». Вот ещё: «Тот давний план был рассчитан примерно на сто лет, предусматривая экономическое объединение США с Европой. Коррективы в этот план в течение ста лет вносились. В частности, итоги Октябрьской революции стали сюрпризом для авторов плана, надолго отодвинув его реализацию».
— Вот уж, всем политинформациям политинформация. Вам, как лектору, надо бы деньги платить...
— Да ладно, это же не я всё раскопала, — я только книжек начиталась.
— И всё же.
— Вот, ещё слушайте. «15 августа 1989 года газета «Крисчен Сайенс Монитор» писала: «Великое долларовое наступление на Советский Союз успешно развивается. 30 тысяч ядерных боеголовок и оснащённая по последнему слову техники самая большая армия в мире оказалась не в состоянии прикрыть территорию своей страны от всепроникающего доллара, который уже наполовину уничтожил русскую промышленность, добил коммунистическую идеологию и разъел советское общество. СССР уже не в состоянии сопротивляться и его разрушение специалисты предсказывают в течение ближайших двух-трёх лет... Нам же следует отдать должное тому великому плану, который вчерне разработал ещё президент Тафт, отшлифовал президент Рузвельт и последовательно выполняли все последующие американские президенты». Гибель СССР была спланирована за рубежом и определённые иностранные круги очень сильно способствовали усугублению наших экономических проблем». Вот, ещё интересно: «В 1943 году в разведцентрах США обсуждались планы не только текущих диверсионных действий против Германии и Японии, но и грядущих стихийных операций против своего союзника — СССР. Уже тогда в уставном документе американской армии (наставление М 33-5) впервые появилось понятие "психологическая война"». Вот, Широнин начинает историю всей этой войны с 1910 года, а я бы отнесла это всё к концу XIX века — к американке-британке Блаватской & Со., а на самом деле — ещё раньше, к европейской истории до Америки, если говорить об орденах и ложах. О чем-то подобном, применительно к Великобритании, говорит, например, Михаил Леонтьев. Но всё это — не сейчас, да и вообще, говорить на эти темы у меня просто образования не хватит...
— А жаль.
— Да нет, ну, правда, не сейчас. Я сейчас «до кучи» другое прочитаю.
— А «до кучи» у вас, на полгодика-то, небось, наберётся?
— Нет, что вы. На полгодика вряд ли. Но за неделю — не успеем...
— Ладно, давайте, что собирались.
— Вот ещё выдержка интересная. Из «Информационной войны» Расторгуева. Кроме тех потрясающих вещей, которые он пишет о методике ведения такой войны и о способах противодействия, есть у него и выдержка из директивы 68 СНБ США 1950 года: «Но помимо утверждения наших ценностей, наша политика и действия должны быть таковы, чтобы вызвать коренные изменения в характере советской системы; срыв замыслов Кремля — первый и важнейший шаг к этим изменениям. Совершенно очевидно, это обойдётся дешевле, но более эффективно, если все эти изменения явятся в максимальной степени результатом действия внутренних сил советского общества». Вот, кстати, это же есть в книге Яковлева «ЦРУ против СССР», даже подробнее: «Нам нужно вести открытую психологическую войну с целью вызвать массовое предательство в отношении Советов и разрушить иные замыслы Кремля. Усилить позитивные и своевременные меры и операции тайными средствами в области экономической, политической и психологической войны с целью вызвать и поддержать волнения и восстания в стратегически важных странах-сателлитах». Далее здесь приведена вся директива, включая то, что я уже прочитала, потом — анализ. Но вот — апофеоз. (Кстати, тоже не только в этой книге.) «Линия безусловного ФИЗИЧЕСКОГО ПОГОЛОВНОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ РУССКИХ проходит красной нитью через штабное планирование ядерной агрессии — со времён Г. Трумэна и по сей день». Да, читаешь «Дропшот» и «Тройан» — вообще не понимаешь, что это: государственные документы или сценарий фильма ужасов. ТАКОГО Россия не продуцировала никогда, постеснялась бы.
— А вы в каком виде «Дропшот» читали?
— По-английски, конечно, — по-русски этого в открытом доступе нет. Не целиком, разумеется, читала: такой кирпич надо было бы всю жизнь читать, а мне кроме этого, есть, чем ещё заняться.
— Ну, да, ну, да...
— И сразу же ложь, на первых страницах: «Stalin retaliated by making it clear that he believed that coexistence between the capitalist and Communist systems was not possible. The result of these speeches was that America moved further to the right while the rest of the world moved further to the left». Не утверждал этого Сталин!
— Не утверждал.
— А самое главное даже не это. Были у них всякие планы: были скрытые, как план Даллеса, и были, хоть секретно, но опубликованные, как директива 20/1 СНБ США. Это касалось в основном Советского Союза и последующего УСТРОЙСТВА России. Но наверняка есть и планы нынешние (продолжение и завершение давних). Они их не публиковали, не называли, но они о них проговаривались, что за ними водится. Совпадение образов в высказываниях таких ключевых фигур, как Бжезинский и Сорос, никак не может быть просто совпадением. Это — ПЛАН и то, что они ХОТЯТ видеть, чего они ждут. Наверное, я обратила на это внимание не одна. Но когда это «совпадение» увидела я — мороз по коже. Вот Збигнев Бжезинский, «Великая шахматная доска». Глава о России называется: «Чёрная дыра». «Распад в конце 1991 года самого крупного по территории государства в мире способствовал образованию «чёрной дыры» в самом центре Евразии. Это было похоже на то, как если бы центральную и важную в геополитическом плане часть суши стёрли с карты Земли». Кстати, здесь есть предисловие генерал-майора СВР Ю. Г. Кобаладзе, и там он говорит интересную вещь: «...Между прочим, анализируя «козыревскую» внешнюю политику, питавшую иллюзии «зрелого партнёрства» России и США (т.е. совместного «управления миром»), Бжезинский без обиняков с солдатской прямолинейностью заявляет, что Америка никогда не собиралась делиться властью с Россией»... Но это я говорю заодно, главное — чёрная дыра. А вот вам Джордж Сорос, «Советская система — к открытому обществу» (накануне юридического распада СССР): «Я готов сделать всё, что могу, чтобы программа получилась. Нет никакой уверенности в успехе, но тем более надо напрячь все силы. Мы переживаем критический момент революции, когда сравнительно немногочисленные решения относительно маленькой группы людей могут определить ход событий. Поистине, если решения окажутся правильными, настоящий момент будет считаться моментом зарождения нового общества, а если нет — страну засосёт огромная чёрная дыра, которая уже плотоядно разинула свой зев. Этот зев всем виден, что даёт возможность надеяться на лучшее». Чуть раньше — он же, здесь же: «Люди сыты по горло старым порядком, но они ни во что больше не верят. Перестройка принесла много боли и разочарования; в экономике нет совершенно никаких положительных сдвигов». И через пару страниц Сорос хвастается, раскрывая суть своей благотворительной деятельности: «Я начал с робких попыток проковырять небольшие трещины в монолитной структуре коммунистической системы, исходя из убеждения, что для костной структуры даже маленькая трещина может иметь значительные последствия. По мере того, как трещины углублялись и расползались по монолиту, я увеличивал усилия, пока эта работа не стала занимать большую часть моего времени и сил». Ну и для полноты картины — представленная у Лисичкина и Шелепина подборка высказываний руководящих деятелей Запада по итогам психологической войны против СССР (газета «Знание — власть»). Начну опять с секретаря Трёхсторонней комиссии Збигнева Бжезинского: «Россия — побеждённая держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить «это была не Россия, а Советский Союз» — значит, бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет раздробленной и под опекой». Далее — государственный секретарь США Дж. Бейкер: «Мы истратили триллионы долларов за сорок лет, чтобы оформить победу в холодной войне против России». Директор Центра политики и безопасности Ф. Гафней: «Победа США в холодной войне была результатом целенаправленной, планомерной и многосторонней стратегии США, направленной на сокрушение Советского Союза. Ход исторических событий был предопределён стратегическими директивами Рейгана. В конечном счёте, скрытая война против СССР и создала условия для победы над Советским Союзом». Член трёхсторонней комиссии, руководитель «Бнай Брит» Г. Киссинджер: «Распад Советского Союза — это, безусловно, важнейшее событие современности, и администрация Буша продемонстрировала в своём подходе к этой проблеме поразительное искусство... Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения её в единое, крепкое, централизованное государство». Премьер-министр Великобритании Джон Мэйджор: «...задача России после проигрыша холодной войны — обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят — шестьдесят миллионов человек». А теперь вспомните план Тафта 1910 года, когда никакого Советского Союза ещё не было и в помине, а от будущей гражданской войны в России если и могли чего-то ожидать, то только полного развала страны, но никак не нового сильного государства... Уже тогда планировалась изоляция России, а в дальнейшем — искусственное подогревание её агрессивности в целях сплочения всего остального мира перед лицом «русской опасности», плюс культурная изоляция. Вот теперь становится всё понятно: и почему у нас «сами перемёрли» все молодые деятели культуры, и почему Россия так была дискредитирована в глазах мировой общественности 8 августа 2008 года, когда в действительности проамериканская ГРУЗИЯ напала на Южную Осетию, а вовсе не Россия — на кого бы то ни было, и почему на Западе убивают наших детей, производя у всех впечатление, что патологичны наши дети, а не то, что происходит в мире, и ещё очень многое другое. Россия дискредитируется в глазах Запада по максимуму, и делается это не просто так, а в определённых целях. ВСЁ идёт к реализации плана Тафта. Подобные американские планы бессрочны, и те, кто их реализует, не останавливаются на пути к цели никогда. Даже на американских тренингах учили в житейских мелочах никогда не останавливаться и не отступать. А мы всё покупаемся на тактические манёвры: на «дружелюбие» и стремление «ко всеобщему благу»... С кем мы имеем дело — мы насмотрелись: и когда бомбили Югославию, и в Ираке, и в Осетии-Грузии 08.08.08, когда поток вранья был неисчерпаем. И они не остановятся. Перефразируя былую экстремистскую рекламку, «им не нужна война, им нужен мир, им очень нужен мир, причём, весь». Так, с кем мы имеем дело, мы насмотрелись (и война-то им тоже очень нужна, по крайней мере, удовольствие доставляет), а мы всё ещё не понимаем, куда всё идёт, всё хотим жить, «как они». В советское время тоже не понимали и хотели, — а жили они хорошо. Только нам забыли объяснить, что нас-то это не касается, что весь мир так жить не будет, что нам так жить никто не даст, во всяком случае, подавляющему большинству. (Тем же, кого сейчас прикармливают в тактических целях, тоже не объясняют, что, в конечном счёте, «хозяевам» не будет нужен вообще никто из восточно-славянской цивилизации, совсем.) Нас по их плану перебьют, как индейцев в Америке, остаток разместят в резервациях, и будут они пользоваться землёй и всеми её ресурсами. Ещё и останутся хорошими, останутся благотворителями. Вы не устали?
— Алёна, у меня из ушей уже ростки проросли. Пожалуйста, продолжайте.
— Так вот, вы знаете, что показалось, и мне, и другим, 8 августа 2008 года? — что у нас в верхах о готовящемся нападении Грузии на Осетию — ЗНАЛИ заранее. Разведка-то у них работает, «или где»? И они спокойно дали развиться всему сценарию... Может, конечно, иначе было невозможно, — сами были в безвыходной ситуации. Но кто их разберёт! — уж точно, не я...
— Алёна, простите, я ничего не расслышал. Вы очень интересно говорите, и я думаю, что вы хотели рассказать что-то ещё.
— Ладно. Я хотела сказать об откровенно фашистских настроениях у нас в народе. И почти никто с фашистами себя не ассоциирует, даже в голову не приходит. Просто мир живой природы состоит из взаимного пожирания. (А мир из этого состоит, но когда общество людей начинает делать на этом акцент — сами знаете, что бывает.) О сотрудничестве никто уже не вспоминает, — одна конкуренция. И — ничего особенного, но просто когда уничтожали больных новорождённых детей — человечество было более здоровым. (Это я слышу от женщины, которая САМА (никто не требовал) всю жизнь посвятила больной матери...) А если бы цивилизация была однородна, одна, то не было бы сейчас ни у кого социально недоразвитого состояния сознания и никому ничего не пришлось бы постигать заново на больших жертвах. (О том, что эта цивилизация давно бы вымерла, как умирает когда-нибудь всякий старик — никто не думает.) В общем, чего только ни услышишь. А сводится-то всё — к тому же, тафтовскому: искусственное подогревание агрессивности России в целях сплочения всего остального мира перед лицом «русской опасности». В том направлении послушно и движемся, как скот на бойню. Как из Славы Галкина сделали «агрессора», так сделают и из всего народа, — погибнет, и будет «сам виноват». И никакой контрпропаганды, — телевидение молчит, молодёжь никто ничему не учит, никто ничего не объясняет. Как в блаженные советские времена, считают ниже своего достоинства объяснять само собой разумеющиеся вещи: почему фашизм (классический и геополитический) — это плохо, какой смысл в гуманности и сотрудничестве, и прочее, посложнее. А ТЕ — ниже своего достоинства не считают и объясняют, в том ключе, в котором ИМ нужно. Открытыми способами и скрытыми, но они это делают. В результате, общественное сознание сдвигается и сдвигается капля за каплей туда, «куда надо». И конкретных сроков у них нет, а осуществлению тафтовских планов не мешает никто и ничто. Через сто лет или через триста — так никто и не помешает. Поневоле задумаешься, что это: лопоухость или предательство?..
— Алёна, вас кто-нибудь учил политинформации читать?
— Нет, не учил. Мой университетский диплом был на тему: "Драматургия Марины Цветаевой. Пьесы цикла «Романтика»."
— Лихо.
— Вы это всерьёз? Или издеваетесь? Или шутите?
— Какие уж тут шутки... А как, по-вашему, агрессора из народа СДЕЛАЮТ?
— Ну вот, вы сами спросили ещё раз. Хоть здесь рот не затыкайте!..
— Я обещаю.
— Ну, так и сделают! — всеми известными методами средств массовой информации, «чистыми» и «грязными». А главное — всем арсеналом информационно-психологической войны. Я давно говорю о прямом вторжении в сознание! Уж кому, как не мне это знать! Начиная от простенького, например, когда по телевизору говорят о хороших и достойных вещах, но психологический расчёт при этом — провокационный, на реакцию от противного: чтобы человека, особенно молодого, от всего этого затошнило, и он пошёл бы, сделал всё наоборот, на зло. Ну а как конкретно происходит вторжение в сознание, я не очень хорошо знаю. Всё жду таких разъяснений от вас. Только я хорошо вижу результаты. Я уже рассказывала про красный цвет, про шали. Это просто не может быть заговором, таким массовым. В разных местах, городах, совершенно разные люди делают вдруг одно и то же. Это возможно только по неосознаваемой ими КОМАНДЕ. Вот, некоторые удивляются (хотя, я не очень-то верю в их искренность): как это так, я вдруг могу интимной жизни не хотеть! Когда-то считалось, что я — вообще озабоченная. Но ведь я и говорю всё время о липовой жизни липовой личности! В том-то и дело, что эта сексуальность была искусственной, привнесённой. Одного осознания, что интимом манипулируют и крадут этим жизнь, пуская её в тупики, оказалось достаточным, чтобы как рукой сняло. По-настоящему, полностью! А уж что началось, какая «психологическая обработка» пошла позднее, в отношении физиологии вообще и детей в частности!.. — я поражаюсь, как я не умерла от рвотных позывов. Например, передо мной за пару лет мужчин триста, наверное, демонстративно отлили. Как я могу после этого что-нибудь хотеть? И ведь они тоже вряд ли были в заговоре во всех городах, — просто получали некие команды и выполняли их, плохо соображая, что происходит. Кстати, молча я это не терпела. Как-то раз по-первости просто била морду — он промолчал. Потом, помнится, у стенки пристроились четверо — за одним я погналась. Он прыгнул в машину, отъехал и выстрелил. («Мужское» поведение, как ни посмотри. Но сейчас, кажется, в этом больше никто ничего не понимает. А их предлагают любить...) Из какой-то ерунды он выстрелил: что-то шмякнуло о полиэтиленовый пакет и даже его не пробило. Я на всю улицу заорала номер его машины — тогда он поддал газа и уехал быстро. И вот, ещё запомнилось. Тоже сидела я на скамейке, наверное, в период какой-нибудь очередной безработицы. Наверное, громко обругала кого-нибудь очередного у стенки, — не помню. Тут вдруг подходит ко мне нечто такое... Мужик уж с такой протокольной рожей, — хлеще не придумаешь. И помню глаза — абсолютно красные, буквально налитые кровью. Что уж он собирался делать — не знаю. Вдруг там, именно там, останавливается милицейская «Газель» и в ней — человек шесть в форме, даже одна женщина. Они ничего и не делали, — просто сидели, говорили о чём-то. Но тот тип, конечно, очень зло посмотрел на меня и быстро ушёл оттуда. Вот пусть мне ещё кто-нибудь скажет, что всё это было случайностью, и что обо всём этом никто не знал!.. Об этом хорошо знали, но оно продолжало быть. А эти блевотные парочки!.. Даже если бы просто так, и то, этого было бы чересчур много, несопоставимо с естественной жизнью (а я ведь, простите, уже жизнь прожила и видала её во всех видах, — я могу сравнивать)... Но во времена петербургского Музея Музеев и второй Москвы сплошь и рядом бывало, что стоит такая парочка наизготове, пристально на меня смотрит (демонстративно!), видит, что я их заметила, обратила внимание, и только тогда, бросив на меня многозначительные взгляды, начинают смачно сосаться-лизаться. Как тут можно не начать испытывать омерзение ко всей физиологии, даже если сама когда-то давала жару! (Но никогда — в целях манипуляции кем-то посторонним, тем более незнакомым.) Впрочем, не знаю, что там думала себе при этом всякая шантрапа, но инициаторы-то с самого начала прекрасно всё понимали: они ПРОСТО убивали, сживали со свету. А вы спрашиваете, как народ можно СДЕЛАТЬ агрессивным! — да так же, как и омерзительным! — легко! Потом приходишь, очумевшая от всех этих Музеев, церквей, уличной швали — в официальное учреждение к старшему офицеру Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации (как он себя рекомендует) — поговорить, что вообще происходит и когда это кончится, — так и он вдруг начинает вести себя, как гондон подзаборный. Какая Российская Федерация, где она? С детьми с этими — ещё хуже.
— Кстати, если не секрет, что у вас детьми, вообще и в частности?
— Это надо немножко рассказать.
— Я послушаю.
— Слушайте. Когда я сама была маленькой, я, как многие девочки, очень любила, малышей. Всё просила у родителей братика или сестричку. Когда у меня спрашивали, сколько я хочу детей (я хорошо это помню), отвечала: трёх мальчиков и трёх девочек. Потом вдруг что-то случилось. К малышам я стала испытывать отвращение. Невозможно вспомнить, что произошло, — никакого события в памяти не осталось. Длилось это недолго, скоро прошло, но неприязнь тогда была сильной. Вот уже сейчас я подумала, что ведь по времени (мне было лет пять) это примерно совпадает с рождением двоюродной сестры — маминой племянницы, дочери той самой её сестры, которая испортила поминки в день похорон.
— Вы мне этого не рассказывали. Впрочем, подробно углубляться, наверное, не нужно.
— Ну, пара слов. Родительских отношений с маминой сестрой я не помню. Меня это как-то не затрагивало, родители никогда акцента на этом не делали. Но позднее я узнала от них, что конфликт длился всегда. Папа был человеком из другого круга, своеобразным, темпераментным, а тётка к тому же ещё болезненно ревновала сестру, считала, что замуж (вообще) прежде всего, должна была выйти она сама. В те времена актуальность этой темы была в принципе несравнима с сегодняшней. Когда мама строила кооператив, прописаны они были (две сестры со своим отцом, моим дедом), в ленинградской коммуналке, где выросли и прожили жизнь. Тётка даже внесла долю в мамин кооператив, хотела построить квартиру пополам с мамой. Но появился мой отец, женился, — они и въехали туда втроём, папа и две сестры. Насколько я теперь могу себе представить, начался содом. Тётка ведь сама всегда была невозможным человеком... В конце концов, она поменялась с дедом, своим отцом: она поехала в центр, в освободившуюся коммуналку, прописалась там, всё повыкидывала и обустроилась на свой лад, зажила своей жизнью, а дед переехал к моим родителям. Я так всё и запомнила из детства: мама, папа и дедушка. Участия тётки в нашей жизни в памяти не осталось. До детского сада у меня была ещё приходящая нянька: отпуск по уходу за ребёнком тогда так долго, как теперь, не давали, а мама и дедушка работали. (Нянька — отдельная история: наедине со мной её не видел никто, а при маме и дедушке она была сама любезность... Ну, ладно.) Потом, в мои пять лет, тётка родила дочь (одна, без мужа) и как-то сразу получила, будучи врачом, двухкомнатную квартиру, — дед прописался обратно в коммуналку, но жить, помогать растить дочь, в основном перебрался к тётке. Прописан в нашей квартире, кроме родителей и меня, больше никто уже не был. Но общаться с тёткой и её дочерью с тех пор пришлось много. Вот примерно с тем временем и совпадает неожиданная моя перемена в отношении к малышам. Утверждать я ничего не могу, не помню. Двоюродная сестра тоже росла с очень тяжёлым характером (это помнят все, кто её знал), мой конфликт с ней был перманентным, всю жизнь, пока я, по сути, не разорвала эти отношения во времена первой Москвы, и окончательно — второй. Когда я, эпизод за эпизодом, стала осознавать, что вторжения в мою жизнь, моё сознание, происходили с рождения, я даже подумала, что не специально ли тётку вынудили тогда родить. А то я стала жить уж слишком «вольготно». Ведь тётка рассказывала потом, что влюблена она была в те времена совсем в другого, а отец её дочери прицепился, как банный лист, она уступила, хотя он был ей не нужен, родила, тот через пару недель пришёл посмотреть на ребёнка, и исчез навсегда. Невозможную приставучесть дочь унаследовала, плюс ещё больное самолюбие матери и потакание ребёнку вообще во всём. В общем, для меня это стало тяжелейшим и муторнейшим испытанием всей жизни. Между нами, девочками, я и сейчас считаю, что всё было проделано с расчётом. Детей, во всяком случае, я могла резко разлюбить именно в этой связи...
— Нет, Алёна, не смотрите на меня так выжидательно. Я ничего не буду комментировать. Но, пожалуйста, рассказывайте дальше.
— В общем, то резкое отвращение годам к шести-семи прошло, больше не возвращалось, но братика-сестричку я расхотела и всю жизнь оставалась к детям достаточно равнодушной, хотя, они меня любили (возможно, потому, что я не сюсюкала с ними, как сюсюкаю с животными (не могу удержаться), и относилась к ним, как к людям), и я уж точно никак не могла себе представить, что останусь вообще без детей. К моим годам одиннадцати произошла ещё интересная вещь. Я ведь всегда очень любила животных, всё детство мечтала о собаке или кошке. И вот, тётка заводит вдруг собаку, подбирает брошенного щенка. Я сразу же побежала к ним, осталась ночевать, играла с тем щенком, но у меня начался бешеный насморк. Начали лечить меня от простуды, но когда я приехала домой, никакой простуды не оказалось. Довольно скоро стало ясно, что это — сильнейшая аллергия на шерсть животных. Она держалась почти всю жизнь, но в конце первой Москвы я подобрала котёнка, потом забрала его с собой. Никакой аллергии. Больше её не было.
— Да, любопытно.
— Смеюсь, конечно, но, по-моему, так выразилась моя аллергия на тётку и её дочь. С первой Москвы, опять же, отношения с ними были, по сути, почти разорваны... Вообще, надо сказать, что с тёткой в моём детстве отношения были как раз ровнее, — я даже любила с ней поговорить. Как врач она тоже всегда была очень отзывчива. В детстве всё упиралось в основном в её дочь. Только, хотя я и не знала ещё таких слов, какая-то психологическая опасность ощущалась часто. С дочерью тоже бывало всякое. Случались и времена дружбы. А заканчивалось всё неизменно какими-нибудь её истериками и провокациями. Уставала я от этого страшно. С первой Москвы «вопросов» стало куда меньше, а ко второй Москве они иссякли совсем. Но речь не о них, не о тётке с её дочерью.
— Я вас слушаю.
— Ну, в общем, последовательно я закончила на начале аллергии в 11 лет. Времена были нехорошие, в семье творилось неизвестно что (родители, оказывается, тогда развелись, но мне умудрились этого не сказать, — я даже не знала, что вообще происходит), у меня началось бурное подростковое развитие, в классе я была затравлена и всё больше уходила в себя. Теперь тоже вижу во всём этом отнюдь не стечение обстоятельств. Тогдашние времена были самыми мрачными, и вспоминать я их не люблю. Годам к 13, особенно к 14-ти, ситуация стала выправляться, я похорошела, да и вообще, начала взрослеть, что-то выбирать и решать сама. Фантазия стала бурной, начались «взрослые» стихи... Вообще, по тем или иным причинам, жизнь у меня складывалась какая-то совершенно своя, и чего-то своего, не общепринятого, от неё и хотелось. Сколько раз я, после каких-то поисков, находила, всё же, именно то, что нужно мне! — если бы меня не пасли и не подрубали все начинания, я бы сто раз устроила свою жизнь так, как сама хотела, будь это в общепринятых рамках, или в других!.. (К плохому-то, собственно, я никогда и не стремилась, жить никому и не мешала...) Куда-то я ушла от темы...
— Вы говорили о вашем отношении к детям.
— Да. Так вот, в пятнадцать лет меня спровоцировали на суицидную попытку. Считалось, и я долго сама утверждала, что это было на почве несчастной любви. Подоплёка же была совсем другой, но мне не хочется сейчас об этом пока говорить. Полковнику я в своё время всё описала. Важно то, что произошло нечто вроде фальсификации «психологического портрета», что в ЦРУ, например, может иметь серьёзнейшие последствия вплоть до негласного смертного приговора. Где-то я видела более определённую цитату, — сейчас не могу найти. Вот то, что пока нашла, из Яковлева, «ЦРУ против СССР», но 1979 года издания: «...расследование, предусмотренное законом, <похоже>, заменяется совершенно произвольной процедурой составления анонимными специалистами «психологического портрета», являющегося основанием для внесудебной расправы. Конечно, это дело не такого рода, о котором кричит ЦРУ на каждом перекрёстке». Я, скорее всего, была таким же образом объявлена человеком, «склонным к суициду на полубредовой сексуальной почве». И это, вероятно, связано со странной медицинской историей в мои неполные 19, а значит, ещё в 18 лет. Однажды дома заболел живот. Вызвали врача. Увезли в больницу. Как обычно, договорились, чтобы в больницу — к тётке, на хирургию. Диагноз не могли поставить долго. Уже ночью в палату зашёл хирург. Я ему: «Доктор, а мне можно на животе спать?», — он: «Можно, только немножко попозже. Сейчас мы вас оперировать будем», — я: «А у меня, всё-таки, аппендицит?» — он: «Не знаю, но живот такой, что резать надо». Вот с этим «диагнозом» и увезли в операционную. Впоследствии даже перитонита не поставили, а просто аппендицит. Но шов был огромный, три недели не давали ходить, заставляли лежать с какими-то трубками, торчавшими из шва, в которые кололи какие-то препараты. Всё это, тогда же и впоследствии, сопровождалось несколькими разговорчиками, которые позднее я смогла расценить, как намёки на то, что же действительно произошло. Через полгода дома живот прихватило вдруг точно так же (аппендикс был уже вырезан). Положили в ту же больницу, но теперь на гинекологию. Три дня обследовали — «ничего не нашли». На четвёртый выпустили. Это было очень похоже на контрольный осмотр: всё ли сделано качественно, нет ли следов... Моя интимная жизнь как раз примерно после этого и началась. Строить мою биографию пытались так, что с точки зрения некоторых людей в городе-Ленинграде, я, вероятно, должна была пойти вразнос, замуж не выйти и никакие дети мне понадобиться не должны были. Я, разумеется, считала иначе. Наверное, выйти замуж в Ленинграде за соотечественника я бы действительно не смогла: всё время бы «что-нибудь» мешало... А я вдруг вышла за немца. Но по тем или иным причинам, в жизни не было ни одной беременности, ни от мужа, ни от кого бы то ни было ещё. Причины остались неизвестными. Когда я уже вышла замуж, то после свадьбы в Германии (тогда ещё ГДР) муж ещё год до диплома и до моего отъезда с ним на ПМЖ продолжал пока учиться в Ленинграде, где мы и жили тот год, снимали квартиру. Мысли о моих женских проблемах ни у меня, ни у кого-либо другого, тогда ещё не возникало. Как-то раз около дома я «случайно» встретила школьного совыпускника, Кашкалова (когда-то он был Калешко). Личность была одиозная. По образованию и по специальности — дерматовенеролог. То ли к тому времени, то ли чуть позднее, он был каким-то депутатом, за что-то отсидел. До меня уже долетали слухи о его человеческой беспринципности и жестокости. Но в тот момент это был всего лишь совыпускник, которого я случайно встретила и никаких общих дел с ним не имела. Почему бы не поболтать?.. Позднее в голову пришла мысль, что он узнал тогда о моём замужестве, да ещё и вполне престижном в те времена, но мог при этом уже и знать, что детей у меня не будет. Поинтересовался настроением, планами. О своей профессии и месте работы сообщил, но не очень настойчиво, — возможно, предполагалось, что я, глядишь, захочу явиться к нему на приём, о чём, конечно, не было и речи: только совыпускника мне и не хватало... (Кстати, позже болтали, что одна из его жён, совыпускница, сошлась с ним, придя к нему на приём)... Больше с тех пор у меня не было причин о нём вспоминать, до двадцатилетия выпуска, до вечера встречи. Тот вечер — отдельная история...
— Расскажете?
— Да нет, не сейчас: это — долго, и совершенно на другую тему. Потом (раз уж вы так пообещали это «потом»)...
— Хорошо.
— Но вот — интересный эпизод в продолжение рассказа. Когда за тот час на вечере встречи, в кафе, в центре города, я кого-то узнавала, я спрашивала (что было вполне нормально, поскольку многие сильно изменились): «Узнал ли ты меня? Помнишь ли»? Спросила это между делом и у Кашкалова, который сильно возмужал, посолиднел, болтался там в компании одноклассника весьма криминального вида. Когда я задала ему вопрос, он заржал и обратился к кому-из мужчин: «Ты слышал? Она у меня спросила, помню ли я её, узнал ли! — Ха-ха-ха!!!» — на эту странность, одну в ряду многих на том вечере, я тогда внимания не обратила, но запомнила. Через час я уже уходила. Они зафрахтовали какой-то корабль и собирались ехать на специальном автобусе в порт, чтобы кататься до утра. Я тогда решила, что если что не так, то с корабля не уйдёшь, — поэтому не поехала. Сослалась на занятость и уже развернулась, чтобы уходить, отошла довольно далеко от общей компании. Вдруг ко мне вальяжно подошли эти двое, Кашкалов с приятелем, и начали было какой-то дурацкий разговор про длинные-короткие волосы. Чего-то они не успели, — хотели, видимо, устроить какую-нибудь гадость. Тут вдруг издалека на всех парах подбежала девчонка из их класса и начала бурно со мной прощаться, что-то желать, не давая вставить ни слова, не столько мне, сколько им. И им пришлось уйти. Я тоже развернулась и пошла. Через неделю я была доведена до сильного нервного срыва. Не совыпускниками, а теми, кто был с ними знаком, знал о вечере встречи заранее и отнюдь не от меня. Я имею в виду фирму «СРусИнформ», и ещё — психологиню, с которой я умудрилась тогда общаться. Но здесь ещё надо много рассказать, — потом как-нибудь.
— Хорошо. А что ваш муж считал по поводу детей? Вы так от него и уехали? Из-за этого, или почему-то другому?
— Нет, не поэтому. Я уехала к началу 1995 года. Это — тоже долгая история, там был целый «комплекс мероприятий» по возвращению меня из Германии. Но вообще-то, в Германии я жить не хотела, всё стремилась к собственной российской жизни, к журналистике. Другое дело, что я умудрилась вернуться одна, без мужа, — а ведь он готов был ехать со мной... Не знаю, чем бы кончилось совместное возвращение. Пасли-то меня плотно.
— Да, это так.
— А вы что-то об этом знаете?
— Знаю, но теперь уже я опять попрошу вас отложить это до другого раза. А ваш муж — он переживал, что не было детей?
— Переживал, но от меня бы из-за этого не ушёл. В общем, ладно. Вся эта история, что называется, писана кровью. Я имею в виду мужа.
— Увы, и это — тоже правда.
— А для меня самой отсутствие детей трагедией совсем не было. Я уже говорила, что никогда не представляла себе остаться вообще без них. Но были вещи, более важные для меня на тот момент. Мне очень хотелось реализоваться профессионально или хотя бы начать это делать. Не в смысле «работать на работе», а в смысле — писать и публиковаться. Но такое впечатление, что кто-то более сильный не хотел позволить мне именно это, ни за что...
— Алёна, я вам даже больше скажу. Только не требуйте продолжения разговора прямо сейчас.
— Я даже понимаю: ваша прослушка в этом здании — мелочь...
— Да, да, да. Так вот, я даже больше скажу: если бы вы не расстались с мужем, если бы вы всё-таки начали успешно писать и если бы вы попытались родить — для вас всё могло бы кончиться гораздо раньше и значительно хуже. Тот, кого вы называете Полковником, не случайно общался с вами в приёмной ФСБ шесть и более лет.
— Но что значит «хуже»? Что-нибудь может быть хуже ТАКОЙ жизни, такой пустоты и бессмысленности?..
— Да, если бы вы были мертвы к этому моменту, было бы хуже. Тихо-тихо-тихо, не перебивайте. Давайте, частично сменим тему, вернее, перенесём акцент. Ходят слухи, что вы ненавидите детей. Вы что-нибудь об этом скажете?
— Скажу. Ой...
Толя резко встал, подошёл к двери, выглянул:
— Ребята, киньте кто-нибудь зажигалку, — у нас тут, кажется, кончилась, или кремень вылетел... Спасибо.
Он дал ей прикурить.
— Продолжайте.
— Так вот. Один раз в жизни я собралась рожать всерьёз. Мне было 35 лет. Это была первая Москва. Уже закончились мои «полгода счастья»... Это были действительно полгода СЧАСТЬЯ, ни с чем не сопоставимые, ни до, ни после. Я приехала в Москву, умудрилась устроиться в фирму недвижимости — начальником отдела рекламы (отдел состоял из меня одной), и всерьёз начался компьютерный дизайн. Я окончила разные курсы в Бауманке, позже работала собственно полиграфическим дизайнером. А тогда же, в первой фирме, я вдруг не на шутку влюбилась — в того самого, из-за которого меня во второй Москве провоцировали вешаться в гостинице и учили тому же на Старой площади. Я не рассказывала?.. Знаете?!! Ну, ладно, тем лучше. Но к тому времени та любовь уже давно прошла. В данный момент я рассказываю о первой Москве, а не о второй. В общем, «полгода счастья» тогда прошли, любовь — ещё нет. Летом я поехала на недельку к родителям в Петербург и увиделась со старой подругой, Сонькой Фай. Оказалось, что она родила дочь. Я была у неё в гостях, ходила с ними гулять и так воодушевилась её примером, что тоже всерьёз собралась рожать. Будущему ребёнку выбрала папу, вовсе не того, в кого ещё была влюблена (чтобы в таком серьёзном деле, как ребёнок, не заклиниваться на женатом мужчине, а заняться именно ребёнком), и предложила это Ростику, из той же фирмы. Ростик был тоже женат, но без детей, очень хотел кого-нибудь родить, и я ему предложила полную свободу (мол, пусть будет просто ребёнок, и можешь с ним видеться или не видеться, сколько хочешь), собираясь с другим, со своей не проходившей любовью к другому, разобраться как-нибудь потом. Я тогда рассчитала, что если будет компьютер, я смогу подрабатывать, и даже на дому, и, как Сонька, растить ребёнка. Всё, как казалось, упиралось в компьютер, которого тогда ещё не было. (В Ростика — не упиралось: отцом, в крайнем случае, мог стать и кто-нибудь другой, кроме того, которого я любила, потому что от жены и маленькой дочери, которая уже была, он бы не ушёл, а устраивать банальный треугольник я и сама бы не стала: любишь себе — и люби тихо...)
— Насыщенная у вас жизнь...
— А толку-то! — ничего же не состоялось!.. В общем, нужен был компьютер, и можно было рожать от любого постороннего. Ростик казался хорош именно тем, что ребёнка, вроде, хотел, но без больших проблем, и он не мешался бы: я его не любила, — он искренне был просто «кореш», и никаких переживаний у меня возникать не должно было. Единственное, чего я не собиралась делать ни в каком случае — возвращаться в Петербург. (А кому-то именно этого от меня, похоже, и было надо...) В общем, ничего тогда не получилось. Жизнь довольно резко изменилась, любовь тогдашняя вскоре прошла (полностью), в Петербург я не вернулась, и следующим летом была уже очередная новая работа, был Игорь, которого, похоже, уже нет в живых. Игорь был без подоплёк: просто младший коллега и друг. У меня уже никого не было, а с весны 2002-го года уже было принято решение о том, что интимной жизни больше не будет. С идеей родить ребёнка «просто для себя», я тоже уже перегорела. Ну, а потом — липовый диагноз и первое возвращение из Москвы. В Петербурге у меня уж совсем ничего больше не могло быть: меня от этого города уже тошнило.
— И это — всё? Откуда же слухи?
— От уродов-психотехнологов. Меньше фальсифицировать надо. То есть, полное неприятие детей они у меня действительно вызвали, но мучить меня для этого им пришлось долго.
— А неприятие — есть?
— На данный момент — абсолютное. Это не ненависть, конечно, — это именно неприятие, невосприятие. Довели.
— Простите, Алёна, а можно, всё же, подробнее?
— Можно. И в отношении мужчин, именно как сексуальных партнёров, и в отношении детей, дело здесь, главным образом, именно в факте психологического насилия: когда-нибудь это становится омерзительным. Я ещё удивляюсь, как я не возненавидела красный цвет. Какое-то время после полуторагодичной атаки я действительно не могла его видеть, потом стала равнодушна, а сейчас даже красную куртку надеваю, и ничего. Но цвет — не человек, не физиология. Тут отвращение формируется куда устойчивее. К мужчинам я, кстати, плохо не отношусь, но только чтобы без физиологии. У меня всегда был любимый мужской орган — мозг. Когда он есть, конечно, и работает. Вот, с вами я сейчас разговариваю, всё это рассказываю, а бабе — было бы другое дело. Рассказывала бы, наверное, но с другим чувством, не так свободно. Вообще, раз уж у нас сейчас — просто разговор как таковой, то с бабой я бы его иметь не хотела. Дело просто в типе сознания. То, КАК всё ложится на женское восприятие — часто бывает неприятно. Не поднимайте брови удивлённо, — это правда. Знаете, я давно, с довольно раннего возраста любила дружить с мужчинами, именно дружить. Был у меня такой друг, Гошка, на пару лет старше меня, из другой школы, — познакомились мы и подружились в мои лет 18, в компаниях. Для меня в отношении этого Гошки Бардашкова даже речи не было никогда ни о каких любовях, даже в голову не приходило, я его просто не воспринимала с этой стороны. Но парень был, как вы себе представляете, весьма умный, и так поговорить, как с ним, я не могла ни с кем. На личной жизни это не отражалось вообще никак, ни на его, ни на моей. Эта дружба прошла через мою недоброй памяти первую любовь (тоже, кстати, его одноклассник, хотя, с ним он, в отличие от некоторых других из его класса, и даже тоже рокеров, как «мой», толком даже не общались), прошла она и через гошкин тяжёлый первый брак (о, сколько тогда было друг другу сказано и сколько обсуждалось! — ТАК ни с одной подругой не было)... С подругами я, бывало, говорила много, но КАЧЕСТВО разговора — несопоставимо. Другие мозги, восприятие, да и, простите, умственные способности... (Если хотите, я себя саму компенсировала мужскими мозгами, ТЕМИ мозгами, из того времени, — сейчас они уже другие.) Разговаривали мы «обо всём на свете»: о любви, дружбе и невозможности или нежелательности того и другого, о загулах, о походах и походных песнях, о политике, об истории, об учёбе, о знакомых и незнакомых, — в общем, не перечислишь. Мелькнул тогда момент — Бардашков мне в период обоюдного одиночества что-то предложил, но не очень навязчиво. Мне же любовные с ним дела и в дурном сне не снилось, — я предпочла сохранить его как друга, без примесей. У обоих проскочили загулы на стороне (они тоже свободно обсуждались), потом он женился в следующий раз, и я даже была свидетельницей на свадьбе. Вот свидетель там был (его институтский однокурсник) — это да, это если не любовь, то глубочайшая симпатия с первого взгляда. Это тот, которого я позднее страшно любила в период (год) моего возвращения из Германии, но оказалось, что у него ещё до меня и даже до его развода уже была давняя дальняя любовь, и он ждал её. Как только у нас более или менее стало что-то складываться, ту его любовь кто-то там откуда-то отпустил, она смогла к нему приехать со своими детьми и они начали жить вместе, у него. Забывала я его (успокаивала душевную боль) ещё много лет... Но это — уже во времена возвращения из Германии. А тогда, в юности-молодости, свидетель на свадьбе был ещё просто женат, и симпатию я к нему испытала, но вёл он себя так, что больше я себе ничего не позволила, даже в душе. В отношении Гошки никогда ничего подобного не возникало. Но дружба была тем крепче. Потом и я вышла замуж. Через годы (годы!) была пронесена эта дружба. С моим мужем их семья тоже была хорошо знакома. Это была студенческая и туристическая компания, в основном все были барды или просто гитаристы, компания наполовину еврейская, так что с умом и интеллектом всё оказывалось очень хорошо. Было весело, было душевно, было ярко. Не хватало только моей собственной возможности самореализации, как потом в первой Москве, в «полгода счастья». Они, одновременно с моим возвращением из Германии, уехали с семьёй в Америку, и Гошка, ещё накануне отъезда, начал резко портиться. Очень нехорошую роль он сыграл во многом. В частности, как-то поспособствовал (и очень сильно) разрыву моих последних дружеских отношений с мужем (он приезжал к нему в Германию из Америки). Но это всё было потом. А такого друга, каким он был мне когда-то давно, мне страшно не хватает и теперь. Возможно, мне больше всего этого и не хватает... Были у меня и другие парни друзья, просто друзья. Для меня это всегда было нормальным и никогда не перемешивалось даже с намёком на интим. Даже впоследствии Ростик из первой Москвы, с которым мы иногда, простите, потрахивались, и который был единственным исключением из этого правила, оставался для меня, прежде всего «корешем», и я совершенно не могла его любить (вот потому-то и захотела от него «ребёнка для себя», что это было бы действительно для себя и никогда ни к чему бы не обязывало, если уж не судьба была родить от какого-нибудь любимого, вроде мужа или гошкиного однокурсника)... В общем, как бы это объяснить сегодняшнему человеку, опрощённому донельзя и перестающему воспринимать мир выше пояса?.. Нет-нет, вас я не имею в виду, я говорю в целом. Так вот, есть такой общеизвестный пример: у ранней Александры Марининой — героиня Каменская абсолютно свободно и без накладок дружит с коллегами Коротковым и Лесниковым. Вот, нечто такое для меня — нормально. А без этого — очень тяжело и нудно. Когда-то (и все это вдруг как-то забыли) всё это было вполне обыкновенным. Люди имели своё внутреннее содержание, а значит, оказывались РАЗНЫМИ. Не было единого стандарта, и допускались РАЗНЫЕ способности, склонности, интересы, способы духовной реализации. А значит, межполовые отношения не сводились только к сексуальным, — они были ещё и человеческими. Сегодня же жизнь — какая-то неполноценная. Впрочем, такая она у меня теперь и есть. И мужчин-то таких, с которыми можно было бы свободно общаться и интересно разговаривать, сейчас уже больше нет... Любопытно, что давно уже испоганили даже литературную Каменскую.
— Будьте добры, пожалуйста, что там с отвращением? Или неприятием...
— Ну вот, а когда началось психологическое насилие, когда мне начали навязывать какую-то другую жизнь и какую-то мужскую сексуальность (которой я и без них когда-то знала выше крыши), тем более — когда начался апофеоз с публичным расстёгиванием штанов и отливанием, — это окончательно стало мерзко. Мозги мужские я по-прежнему люблю (только что-то больше их не встречается, мне, во всяком случае, — только в книгах, хотя, жизнь-то вокруг меня может быть насквозь липовой), а вот от этого акцента, простите, на хрене — воротит. Но вообще-то, «какую-то другую жизнь» мне, на самом деле, никто и не навязывает, — только смерть...
— Увы.
— Даже говорить на это ничего не буду.
— Нет уж, пожалуйста...
— Ну, в общем, да, меня просто убивают. Абсолютно любая моя смерть будет на самом деле убийством, ведь, сколько нервов вымотано, сколько сил угроблено целенаправленно и с расчётом, — когда-нибудь этого будет уже не выдержать. Где тонко — там и порвётся. Но это убийство будет иметь виновных, и они все вместе не будут прощены никогда, — прокляты.
— Ваше право. Но теперь точно всё будет не так, — по-другому. Теперь... Хотя, ладно, не буду пока ничего говорить. Продолжайте.
— Вот что я ещё хотела сказать. Когда-то я уехала из Германии, предпочтя ей российскую жизнь и российское сознание, ментальность. Теперь Запад догнал. Эта западная омерзительность, опрощённость, физиологичность и вульгарная материальность — уже здесь. Вот, хочу кое-что прочитать у Ваджры (у меня и эта книга с собой), с. 146 - 150: «Таким образом, благодаря тотальному «промыванию мозгов» мощная энергетика западного человека оказывается самым надёжным образом канализированной, загнанной в жёсткие рамки заданных стереотипов. Возникает парадоксальная ситуация: владея всеми мыслимыми свободами для проявления собственной индивидуальности, западный человек оказывается лишённым этой индивидуальности, «...индивид перестаёт быть собой, — писал по этому поводу Э. Фромм, — он полностью усваивает тип личности, предлагаемый ему общепринятым шаблоном, и становится точно таким же, как все остальные, и таким, каким они хотят его видеть. ...У нас могут быть мысли, чувства, желания и даже ощущения, которые мы субъективно воспринимаем как наши собственные, хотя на самом деле это не так. Мы действительно испытываем эти чув-ства, ощущения и т.д., но они навязаны нам со стороны»... Здесь мы снова видим макиавеллистский тип «человека без свойств», способного изменяться в соответствии с требованиями окружающей среды. Чтобы быть целиком адекватным внешним условиям, индивид становится «никаким». Отказавшись от каких-либо качеств и свойств самодостаточной личности, он оказывается в состоянии экзистенциональной пустоты, позволяющей ему эффективно приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям внешней среды. <...> Однако, теряя индивидуальность (особость), западный человек усиливает свой индивидуализм, который обнаруживается в мощной отчуждённости от других людей и в противопоставлении себя им. <...> Эта отчуждённость, в свою очередь, порождает мощную агрессию по отношению к окружающим людям и миру вообще. Западный человек стремится к господству, подавляя все, что он считает препятствием на пути к нему. <...> Отсутствие индивидуальности у западного человека, индивидуализм и его агрессивная самоизолированность становятся почти решающими факторами в управлении социальной организацией Запада, т. е. в управлении обществом посттрадиционного типа, в рамках которого уже не действуют такие мощные факторы социального управления, как национальная идентичность, культура, духовность и т. п. Таким образом, западное общество целенаправленно воссоздаёт стандартных по своим индивидуальным качествам и отчуждённых друг от друга индивидов, представляющих собою человеческую массу, лишённую какого-либо разнообразия. Нивелирование духовно-психо-логических особенностей индивидов ведёт к их примитивизации, когда человек должен целиком отвечать предлагаемому набору потребностей и соответствующему набору форм их удовлетворения, не выходя за их рамки. <...> Жизнь западного человека протекает между стремлением заработать (любым способом) как можно больше денег и стремлением потребить как можно больше материальных благ. Эти два фактора и формируют в основном его личность. <...>...Американская социология «научно» подтвердила западное представление о человеке как существе, которому самой природой уготовано жить в ритме на-живы и потребления. Естественно, что все выходящее за рамки данной бинарности автоматически приобретёт в сознании человека вторичное и подчинённое значение. В связи с этой психологической особенностью В. Зомбарт заметил: «Живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и требованиями вытеснен из центра круга интересов, и место его заняли две абстракции: нажива и дело. Человек, следовательно, перестал быть тем, чем он оставался до конца раннекапиталистической эпохи, — мерой всех вещей». <...> Перестав быть «мерой всех вещей», западный человек сам становится вещью, которая имеет определённую цену и которую можно купить или продать. Он в полной мере осознает себя как вещь. «Авторитарный, одержимый, накопительский характер, развитие которого началось в XVI веке и который продолжал преобладать в структуре характера, по крайней мере, средних классов общества, до конца XIX века, медленно уступил место рыночному характеру <...>, — писал Э. Фромм. — Я назвал это явление рыночным характером. Потому что в этом случае человек ощущает себя как товар, свою стоимость, не как «потребительскую стоимость», а как «меновую стоимость». Живое существо становится товаром на «рынке личностей». <...> А так как конъюнктура рынка постоянно изменяется, то, чтобы ей соответствовать, приходится постоянно изменяться и самому западному человеку. Она перестаёт быть чем-то определённым, приобретая превосходные свойства мимикрии. «Личности с рыночным характером... не имеют даже своего собственного «Я», на которое они могли бы опереться, ибо их «Я» постоянно меняется в соответствии с принципом — «Я такой, какой я вам нужен», — подчёркивал Э. Фромм»... — Вот это теперь происходит и в России. Смертельно скучный, безвылазный мир. «Поразвлекать» берутся только горем. Однако мне отведено своё «развлечение»: мне будут обламывать абсолютно все начинания, пока не умру или не покончу с собой, а это попытаются свалить на какую-нибудь сфальсифицированную личную жизнь... Если я кому-нибудь надумаю рассказать всё вот это, что вам, — сию секунду попытаются обломать и на дружеских отношениях с мужчинами.
— Подождите ещё.
— Ещё жду.
— Ну, и хорошо. Давайте о детях.
— Да то же самое. То есть, сначала, во времена Музея Музеев, я поняла, что психотехнологи манипулируют (в реальности, в жизни, — СЛИШКОМ много было примеров во вполне благополучном окружении — и детских смертей, и инвалидностей), — они манипулируют детьми для того, чтобы воздействовать на взрослых: могут ребёнка сделать счастливым или несчастным, могут здоровым или больным, а могут и убить, — смотря какой психологический и жизненный результат требуется от взрослого. Границ тут нет. Сострадание — пустой звук. Если хотите, сами почитайте у Ваджры главу «Штаты от океана до океана», об истреблении с наслаждением индейцев, позже вьетнамцев и кого ни попадя, — всё очень узнаваемо. И не ново. А цитировать это противно. Вот, разве что, с. 174: «В своё время многие из военного и политического руководства нацистской Германии были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала как раз за те методы ведения войны, которые так любит использовать армия США по всему миру в борьбе с врагами свободы и демократии. Несмотря на это, правящие круги Соединённых Штатов до сих пор продолжают учить человечество, как надо правильно жить. Но на фоне вышеизложенных фактов уже само понятие «права человека», придуманное американскими идеологами и активно используемое Вашингтоном для обоснования своей внешней политики, выглядит крайне цинично, так же как и желание Белого дома самоотверженно защищать эти «права человека» в других странах. Надо отметить, что к началу XXI века непревзойдённый западный гуманизм, которым так гордятся американцы и европейцы, приобрёл весьма странные формы». Но я говорила, что я-то им не уподоблюсь. Оглядываясь на собственную сломанную, украденную жизнь, что проистекало от каких-то их разборок с родителями, разумеется, тоже фальсифицированных, я утверждала, что дети здесь всегда ни при чём. Потом «атаки» стали зашкаливать, я с ними уже не справлялась (возможно, работало ещё и внушение), и я начала на словах всё больше «цеплять» ИХ детей. Повторяла: «Я всего лишь ГОВОРЮ то, что они ДЕЛАЮТ десятилетиями». (За примерами далеко ходить не требовалось.) Потом, чтобы их остановить (каждый раз останавливать), я начала на СЛОВАХ (в образах) вытворять с ними и ИХ детьми что угодно, чтобы зацепить их самих как можно сильнее. Все мои «приёмчики» первое время срабатывали. Но потом «атаки» усиливались, — я усиливала и «меры». Касалось это в основном их воздействий физиологическими ощущениями. Моей собственной любви к детям это, мягко говоря, не прибавляло. Но началась и непосредственная «атака детьми» (сродни красному цвету). Детьми меня стали окружать по максимуму в ненормальных количествах, как и беременными. Всё — нагло, буквально тыча во всё это носом. Разумеется, дети мне становились всё более неприятны. Во второй Москве это достигло апогея. Я поначалу работала в Подмосковье на вещевом рынке, и создавалось впечатление, что туда, на этот рыночек, детей и беременных сгоняют со всей Москвы. Творилось что-то запредельное. Если я в час ночи останавливалась покурить у детской площадки, то она и в это время, как по приказу, откуда-то вдруг набивалась какими-то детьми. Этого уже было достаточно для возраставшего отвращения. Но всё неизменно происходило ещё и с каким-то физиологическим уклоном, с намёками, — как будто мне постоянно внушали аксиому: «Если хрен в звезду, то оттуда будет выгребок». Я усвоила это до блевотины. Я уставала писать записки Полковнику в надежде, что это когда-нибудь кончится. (Это было за пару месяцев, примерно, ДО того, как Путин в мае-июне 2006-го официально занялся повышением рождаемости, назначил материнский капитал. Глядя вокруг, хотелось спросить: куда ещё эту рождаемость повышать? — судя по представлению, которое мне устраивали, тут пора было принудительные аборты вводить... Кстати, в путинской речи стояло уточнение, что всё это касается МОЛОДЫХ женщин, а я тогда была как раз накануне сорокалетия...) Плюс ещё какой-то гадкий постоянный акцент на женской заднице и тому подобном. Потом уже, не зная как ещё с этим бороться, на некоторые внушения и физиологические воздействия стала реагировать убийством детей. Словесным, конечно. Это тоже никого не останавливало, но на это они хотя бы «оборачивались», прекращали хоть на время. Детей я стала воспринимать, как воспринимают они — как психологические инструменты, просто инструменты. Разумеется, что-то подобное происходило не постоянно, не беспрерывно, так что от этого мира можно было иногда отвлекаться. Но — ОТ него. А потом прибавилось и нечто близкое к тому, что я только что цитировала из Ваджры. Я, весной 2007-го работая на улице с прессой, в толпе народа, всё больше стала замечать, что люди становятся всё более одинаковыми. Различия — почти только по полу и возрасту. Живых людей больше не оставалось: одинаковые интонации голоса, одинаковые глаза, уж не говоря об их интересах. Знакомиться с кем-то новым уже не было смысла. Мир превратился в мерзость. То же дети. И так-то — зомбированные, манипулируемые, физиологичные, ещё и неживые. Раньше в них проявлялась какая-никакая, но сразу личность. Я относилась к ним как к людям. Теперь это — куски мяса с глазками. Правильные, такие, «какими должны быть дети». Алгоритмы детей. Я стала держаться от них просто как можно дальше. Но только мне не нравится весь этот мой рассказ, не нравится то, что я умалчиваю о самом главном. Со стороны такой перечень событий действительно несколько смахивает на жизнь, — не видно сценария, расчёта, искусственности. Не просматривается заведомой фальсификации жизни, как моей, так и страны. Кукловодам того и хотелось. Об этом надо говорить особо. Я помню, что разговариваю именно с вами, а не с «простыми людьми», — вы знаете об этом гораздо больше. И всё равно, ощущение неудовлетворённости таким рассказом — сильное. А я вас, кажется, понимаю, почему сейчас ничего говорить нельзя. Остаётся надеяться на ваше «потом».
— Оно будет. Но всё равно, как же вы жить-то будете?
— Видимо, никак. Вероятно, этот мир, когда я его не вижу, не совсем такой, каким его устраивают лично для меня, хотя, отличается не сильно.... Но меня саму — просто уничтожают. Делать в ЭТОМ мире нечего. Людей, детей, жизни — просто больше нет. Вообще сплошные алгоритмы. Виртуальная реальность, которая (по определению, по сути) — смертельно скучная. Поговорить больше не с кем (все разговоры — о практических интересах), дружить не с кем, любить некого, заняться нечем. Занимаюсь, правда, — нахожу себе что-то вне этого мира, но — вне. Здесь нечего хотеть. Жить-то я как раз стремлюсь, но жизни хочется ЖИВОЙ. А её больше нет. Устану окончательно — всё это прекращу.
— Но какой-то смысл, какой-то двигатель должен же быть?
— Непрощение и проклятие. Цель — до моего конца не простить и не снять проклятий.
— Ой, а можно (если можно) послушать ваши проклятия?
— Нет, говорить я этого не хочу. Это будет уже что-то другое. ...Давайте, напишу на бумаге! Я это знаю наизусть, воспроизведу в любой момент. Нужна ручка и листы. И какое-то время, конечно. Это — не так мало. Но это — всё, что я вообще реально могу. Остальное не имеет смысла.
Анатолий выбежал, принёс ручку и пачку бумаги. Потом вышел, аккуратно закрыл дверь. Алёна осталась писать, а компания вышла курить на улицу.
— Ну, парень, я тебя даже обругать не в силах, — сказал Дмитрий, — Я сейчас, кажется, в бога поверю. Откуда она взялась, почему именно она? Это случайность, или только такая, как она, и могла сейчас иметь диапазон, и всё закономерно?
Анатолий ответил:
— Я сам у неё чуть не спросил: «Вы что, к Золотой Рыбке в гости сходили»?
Вмешался Алексей:
— Очень уж она проблемная... Лучше бы что-нибудь поуравновешеннее.
— Да ты что, рехнулся? У тебя что, выбор есть? Ты не понимаешь, что, скорее всего, могло никого не найтись?! А потом — это то, что надо. Лучше не придумаешь. Она всё будет делать изо всех сил! Интересно только, случайность это, или нет?..
— Ладно, Толя, о случайностях-закономерностях и о боге мы поговорим, когда она станет шифровки зубрить, а нам нужно будет чем-то заняться, чтобы не свихнуться со страху.
— А вдруг потом вообще ничего не будет?
— Вот, потом тогда и решим. Сейчас тянуть уже тем более не будем. Завтра она пусть выспится, а то уже утро. Или на работу сходит... А нам спать не придётся, у нас — экстренное совещание. Пусть она там проклинает, кого хочет и как хочет, — тоже, кстати, почитаем, пригодится. А послезавтра — день на слухи. Надо будет очень аккуратно распустить слух (и не проколоться — а то эти твари гораздо лучше нас это умеют и всё видят, — нам до них далеко, — но надо постараться, чтобы все поверили), — в общем, пусть считают, что ей скоро хана. Чтобы нас никто не опередил. Пусть думают, что трогать её не надо, потому что без них всё будет сделано так, чтобы никто никого не смог подставить. Пусть ждут хотя бы неделю. А мы её уже заберём, её уже никто не достанет.
И компания начала потихоньку обсуждать детали.
Алёна закончила писать и приоткрыла дверь. Никого не было видно. Она прошла туда, где стоял прибор. В комнате сидел Виктор. Задумавшись, он тихонько барабанил пальцами по столу. На Алёну оглянулся сразу:
— А, вы остались одна? Наши архаровцы загуляли? Сейчас я их позову. Вы только посидите пока в пищеблоке, где и были. Давайте, я вас провожу. Или вы что-то искали? — голос Виктора стал заметно теплее, он уже разговаривал с Алёной как с доброй знакомой. Она обратила на это внимание и как-то сразу почувствовала себя спокойнее: «Что-то меняется к лучшему. Всё стало не так, как раньше. Буквально всё».
Виктор проводил её, закрыл дверь и помчался на улицу за приятелями.
Анатолий вошёл в пищеблок, выслушал её объяснения, — она рассказала ему, почему всё начинается с фотографий, объяснила, что если вдруг она в чём-нибудь ошиблась, то текст составлен так, что по данному эпизоду автоматически никто получается и не проклят, что ошибиться в именах она не может, потому что имён не называет, а только их деяния, подчеркнула, что это — не литературное произведение, никак не рассчитанное на чьё-либо восприятие, кроме виновных, поэтому стиль волновал её в последнюю очередь, пояснила всё остальное, что считала нужным и отдала листы. Читать он начал внимательно и неторопливо, но лицо его оставалось непроницаемым.
ПРОКЛЯТИЕ АЛЁНЫ
Прокляты все, кто осознанно и добровольно как-либо причастен к пропаже из моего родительского дома фотографий: альбома деда, отца матери, и фотографий моего собственного отца; прокляты все, кто непосредственно их украл, кто получил с этого любую материальную или иную выгоду, включая моральное удовлетворение; прокляты все, кто был посвящён и дал на это молчаливое либо открытое согласие, то есть те, кто знал об этом до, в момент или после пропажи и ничего не предпринял для предотвращения этого, кто не заявил об этом во время или впоследствии; прокляты все, ради кого были украдены («изъяты») альбом и фотографии в любой последовательности, в любом поколении, в любом социальном и личном статусе, если ими ничего не будет предпринято для исправления ситуации, если это возможно; навеки прокляты неснимаемо и неснимаемо те, кто всё это придумал, инициировал и организовал, — прокляты они и всё их потомство в любом поколении, родившееся и ещё не рождённое, — те из потомства, кто зная что-нибудь об этих делах или ничего не зная, как минимум интуитивно не отшатнётся от них, не проклянёт их и, главное, не восстанет ПО-НАСТОЯЩЕМУ против них и их дел, — прокляты.
Проклятие, которое я произнесу или напишу теперь (а времена глаголов здесь значения не имеют, всё это в любом случае относится к совершённому, совершаемому или тому, что будет совершено), — проклятие, которое я произнесу или напишу теперь, кроме тех, с кого оно неснимаемо и несмываемо, снять с себя могут только те, кто осознАет, В ЧЁМ они участвуют или НА ЧТО они дали согласие, ужаснутся этого и остановятся, но не просто остановятся и заживут дальше, как будто ничего не было, а восстанут против этого — деятельно, активно и всерьёз рискуя ради сопротивления и противодействия, — рискуя собой и теми, кто им дорог; все остальные посвящённые и участвующие — прокляты.
Прокляты все, кто осознанно и добровольно участвует в перечисленном далее; прокляты все, кто осознанно согласился на любую материальную и иную выгоду, полученную от перечисленного далее, во время совершаемых деяний или впоследствии; прокляты все, кто был посвящён и дал на перечисленное далее молчаливое либо открытое согласие; прокляты они (все перечисленные) и их дети, внуки и правнуки, родившиеся и ещё не рождённые, и всё их потомство в любом поколении, — те из потомства, кто, зная что-нибудь об этих делах или ничего не зная, как минимум интуитивно не отшатнётся от них, не проклянёт их и, главное, не восстанет ПО-НАСТОЯЩЕМУ против них и их дел, — прокляты; неснимаемо и несмываемо навеки прокляты те, кто всё это придумал, инициировал и организовал, кто бы и откуда бы они ни были: из России, Америки, Европы, Азии и откуда угодно ещё, прокляты, живы они или мертвы, прокляты, знаю я их или не знаю, прокляты от самых социальных низов и до самых социальных верхов, особенно международных, вплоть до высших чинов ЦРУ и деятелей так называемого мирового правительства, — прокляты они и их дети, внуки и правнуки, родившиеся и ещё не рождённые, и всё потомство в любом поколении безо всяких оговорок, — прокляты.
Проклятие несёт с собой неудачи, горе, страдания, смерть и вообще всё, что влечёт за собой проклятие. Итак:
Прокляты все, кто осознанно и добровольно применяет психотехнологии, психопрограммирование и другие способы скрытого, непосредственного и опосредованного воздействия на людей без ведома и свободного, осознанного разрешения тех, к кому они применяются. Прокляты все, кто вмешивается в чужую жизнь без ведома и свободного, осознанного разрешения тех людей, в чью жизнь они вмешиваются, — все, кто обескровливает её, дискредитирует её, фальсифицирует её, негласно распоряжается чужой жизнью, чужой смертью. Прокляты все, кто занимается чужой индивидуальной психологией (особенно при каком-либо вмешательстве) без ведома и свободного, осознанного разрешения тех людей, чьей психологией занимаются.
Прокляты все, кто простым и особенно псевдоестественным способом, но реально, сознательно мучает, калечит и убивает людей. Прокляты все, кто сознательно использует жизнь и здоровье людей для шантажа их родных и близких, и других людей (о существовании которых известно жертвам), часто исполняя угрозы.
Прокляты все, кто в любых других целях и не временно (в силу жесточайшей необходимости, связанной с возможностью спасения кого-либо от применения психотехнологий и тому подобного), — прокляты все, кто в любых других целях, кроме цели признания этой психологической, психотехнологической деятельности — тяжким и особо тяжким преступлением и преступлением против человечества, и кроме цели полной нейтрализации (в случае особой необходимости — вплоть до уничтожения, как террористов, с которыми не ведутся переговоры) всех этих психотехнологических преступных и (традиционных либо геополитических) фашистских по сути группировок и организаций, — прокляты все, кто в любых других целях негласно применяет психотехнологии и психопрограммирование без ведома и свободного, осознанного разрешения тех людей и их групп, к которым они применяются; прокляты все, кто негласно, без ведома и свободного, осознанного их согласия, держит людей под каким-либо психологическим, особенно тотальным контролем, вплоть до контроля сознания, вплоть до чтения и внушения мыслей, настроений, побуждений, физических, физиологических и психических состояний, — прокляты.
Прокляты все, кто осознанно или неосознанно, но добровольно участвует в массовой травле кого бы то ни было. Прокляты все, кто берётся самостоятельно решать за других людей, равносущных им существ, как им жить, что думать, когда и как умирать. Прокляты.
Неснимаемо и несмываемо навеки прокляты все, кто добровольно находится в курсе мыслей или/и реакций, настроений, намерений, побуждений, физических состояний — моего и других людей, не получив на это свободного и осознанного согласия (а я, как и большинство других, никому его не давала), — все, кто находился в курсе всего этого в отношении моих родителей и многих других, кого уже нет в живых.
Неснимаемо и несмываемо навеки прокляты все, кто проделывает с людьми что-либо, подобное перечисленному, в экспериментальных целях. Да будут навеки прокляты эти эксперименты, да принесут их плоды людям, особенно самим экспериментаторам и их потомству, родившемуся и ещё не рождённому — горе, страдания, смерть.
Прокляты все, кто сознательно применял что-либо из перечисленного к моей матери, изуродовав её жизнь и здоровье. Если правда, что её убили капельницами и психотехнологиями, если правда, что ей не сделали никакой операции, а только сымитировали, сфальсифицировали её, тем более, если правда, что у неё не было никакого перелома, то неснимаемо и несмываемо прокляты те, кто осознанно и добровольно участвовал в её псевдоестественном убийстве: врачи и медсёстры, допустившие любые фальсификации, вместе с ними — соседки по палате и визитёры, осознанно участвовавшие в психологическом подавлении, особенно — те, кто получил или намеревался получить от этого материальную или иную выгоду, и особенно — тот человек (любого пола), кому достался предназначавшийся маме протез тазобедренного сустава (если тот человек знал, откуда он и какой ценой), — прокляты со всем их потомством в любом поколении, родившимся и ещё не рождённым, — с теми из потомства, кто зная что-нибудь обо всех этих делах или ничего не зная, как минимум интуитивно не отшатнётся от них, не проклянёт их и, главное, не восстанет ПО-НАСТОЯЩЕМУ против них и их дел, — прокляты.
Есть основательные подозрения, что отец с очень раннего времени находился под таким же воздействием и контролем в целях создания будущего определённого сценария для индивидуально и массового воздействия (как и многие в стране), а это обуславливало многие дополнительные трудности его характера, очень осложнившие жизнь, его и других (так же, как под воздействием, похоже, находилась и их семья в целом). Если так, то прокляты все, кто участвовал в этом осознанно и добровольно, кто участвовал любым уже перечисленным образом. Прокляты все, кто так же виновен в его смерти, любым образом из ранее перечисленных.
Прокляты все, кто осознанно и добровольно украл, сфальсифицировал, исковеркал мою жизнь, а тем самым — и жизнь родителей. Прокляты все, кто осознанно и добровольно участвовал в том, что моя жизнь была пущена на всю эту бытовую и любовную бессмысленную рутину, ушла вникуда, а я все свои годы промучилась нереализованностью, не сделала того, что должна была и хотела. Прокляты все, кто осуществлял и осуществляет любой тотальный контроль надо мной, моими родителями и другими людьми, в частности, путём компьютерных взломов и другого использования личных компьютеров (особенно ни к чему, ни к интернету, ни к каким-либо сетям сознательно не подключённых) без ведома и осознанного разрешения людей, которым эти компьютеры принадлежат. Те, кто, прибегая к тотальному контролю надо мной и другими людьми, посредством компьютера или иным, использовал это для плагиата (тем самым лишая человека последнего смысла жизни), прокляты навеки, неснимаемо и
несмываемо, — прокляты они, их дети, внуки и правнуки, родившиеся и ещё не рождённые, и всё потомство в любом поколении безо всяких оговорок — прокляты.
Неснимаемо и несмываемо навеки прокляты те, кто попытается оболгать меня, отца, и подобно нам — других людей, задним числом сфальсифицировать жизнь и личности (и без того не состоявшиеся). Прокляты те, кто попытается нас оболгать, и их дети, внуки и правнуки, родившиеся и ещё не рождённые, и всё их потомство в любом поколении, — те из потомства, кто, зная что-нибудь об этих делах или ничего не зная, как минимум интуитивно не отшатнётся от них, не проклянёт их и, главное, не восстанет ПО-НАСТОЯЩЕМУ против них и их дел, — прокляты.
Если я не смогу или не успею свободно и добровольно переехать из Петербурга (чтобы больше его не видеть, кроме могил родителей), — если я не смогу или не успею оттуда переехать, получив в своё распоряжение соответствующее этой своей квартире жильё там, где хочется мне самой, если я не смогу или не успею по любым причинам свободно и добровольно распорядиться этой своей квартирой, то да будет проклята эта квартира и любой доход, полученный от неё или от её продажи (в любом поколении и любой очерёдности), любая материальная и иная выгода, полученная от владения и распоряжения ею (в любом поколении и любой очерёдности), — прокляты. Да принесут они в этом случае горе, беды, страдания и всё, что влечёт за собой проклятие, — через самих виновных, их родных и близких, и тех, кто им дорог.
Неснимаемо и несмываемо навеки прокляты все, кто осознанно и добровольно участвует в создании нового типа рабства (по «Мёртвому сезону»), «осчастливливает» человечество, отучая его думать и знать, примитивизирует и «специализирует» мозги, ведя к неизбежной деградации и «конкурентному» взаимному истреблению, насаждает «новый мировой порядок» — прокляты они и их дети, внуки и правнуки, родившиеся и ещё не рождённые, и всё потомство в любом поколении безо всяких оговорок, — прокляты.
Чем жить так, под таким контролем — лучше не жить совсем. Но ещё лучше — не жить тем, кто этот контроль осуществляет, — прокляты.
Итак, прокляты все, кто осознанно и добровольно участвует во всём перечисленном; прокляты все, кто осознанно согласился на любую материальную и иную выгоду, полученную от всего перечисленного, во время совершаемых деяний или впоследствии; прокляты все, кто был посвящён и дал на всё перечисленное — молчаливое либо открытое согласие; прокляты они (все перечисленные ранее) и их дети, внуки и правнуки, родившиеся и ещё не рождённые, и всё их потомство в любом поколении, — те из потомства, кто, зная что-нибудь об этих делах или ничего не зная, как минимум интуитивно не отшатнётся от них, не проклянёт их и, главное, не восстанет ПО-НАСТОЯЩЕМУ против них и их дел, — прокляты. Неснимаемо и несмываемо навеки прокляты те, кто всё это придумал, инициировал и организовал, кто бы и откуда бы они ни были: из России, Америки, Европы, Азии и откуда угодно ещё, прокляты, живы они или мертвы, прокляты, знаю я их или не знаю, прокляты, от самых социальных низов и до самых социальных верхов, особенно международных, вплоть до высших чинов ЦРУ и деятелей так называемого мирового правительства, — прокляты они и их дети, внуки и правнуки, родившиеся и ещё не рождённые, и всё потомство в любом поколении безо всяких оговорок, — прокляты.
Меня не будет — проклятие останется навеки. Прокляты.
__________________
Анатолий прочитал, потом ещё какое-то время сидел в задумчивости, иногда просматривая листы. Алёна не торопила. Наконец, он оторвался.
— В первый раз читаю такое проклятие... юридически продуманное.
— А вообще, часто доводилось читать?
— Да нет, в основном слышать, и гораздо короче. Но я сейчас не буду давать ничему никаких оценок. И вообще не буду ничего говорить. Собирайтесь, Алёна. Отвезём вас в общежитие. Уже утро, — выспитесь.
— Какое там! Вещи закину и на работу пойду, — вечером высплюсь. Ничего страшного.
— Ну, как знаете. Очень приятно было познакомиться. Как-нибудь ещё поговорим, — и он улыбнулся, открыто и хорошо.
Ничего таинственного, никаких подтекстов Алёна в этой улыбке не увидела.
Отвозил её Алексей. Анатолий остался. Они с Дмитрием проводили её до машины. Тот коротко спросил сослуживца:
— Ну, как?
— Нормально, — столь же коротко и опять без видимых подтекстов ответил Толя.
Правда, затем отмахнулся рукой: «Не мешай, мол, — потом». Попрощались они с ней довольно тепло, но тоже коротко.
Алексей в дороге ещё раз объяснил, что через пару-тройку недель, а то и через месяцок, они ещё, наверное, встретятся, — пусть Алёна будет к этому готова. Найдут они её сами. Больше он толком ничего не сказал.
В тот день Алёна плохо помнила, как отработала. Пришла в общагу и сразу рухнула спать, не разбирая вещи. Следующим вечером ей было легче. Придя с работы, она поужинала и вспомнила, что «всё своё надо носить с собой», собрала относительно маленькую сумку через плечо, положила туда все конспекты, Ваджру, Довлатова, блок сигарет, ещё кое-что по мелочи. «Ну вот, мало мне сумок... Теперь буду эту таскать и ждать у моря погоды. Мне не привыкать, конечно. Но хоть бы что-нибудь, наконец, к чему бы попривыкать»!..
Наутро она вышла на улицу с этой сумкой и ещё с одной — женской. Пошла к остановке... и вдруг ей почему-то захотелось посидеть не скамейке. Плюнула на всё, свернула в аллею. «Подумаешь, — десять минут ничего не решат. Покурю спокойно». Скамейка оказалась ломаной. Алёна стала искать глазами другую, досадливо прикурила на ходу. Тут ей вдруг захотелось прислониться к дереву. Голова закружилась, она схватилась рукой за ствол и... больше ничего не помнила.
Часть 3. (Ранее: 2 - II).
...Белый потолок, светло-зелёные обои... Мягкая, широкая кровать, чистое постельное бельё в цветочек... Над собой она увидела старушечье лицо. Вполне интеллигентное (даже отвыкла уже от таких), и вообще, неплохое.
— Кто вы?.. Где я?..
— Ты, в общем-то, в ФСБ, хотя, здесь, в этом помещении, ты не была никогда. Всё хорошо. Отдыхай. Ничего плохого уже не случится. Я позвоню Диме, он подъедет и сам всё объяснит. Если ты чего-то хочешь — скажи мне, не стесняйся. Меня зовут Вера. Мы с Тасей будем всё время рядом.
Алёна снова провалилась в сон.
В следующий раз она проснулась, отдохнувшей и бодрой. Комнату узнала сразу. Яркое солнце, казалось, светило в окно. Алёна подошла, приоткрыла толстую штору и обнаружила... стилизованную под окно лампу дневного света. Окна здесь не было. Она подошла к двери. Дверь оказалась открытой, но явно нежилой: металлической снаружи и слишком прочной, способной выдержать любой удар, если не взрыв. Комната была уютной, а коридор — тоже нежилым, с несколькими такими же дверями по сторонам и металлическими, массивными, оборудованными чем-то воротами в торце. Одна из боковых дверей оказалась приоткрытой, она подошла и услышала голоса — Дмитрия, Веры и ещё какой-то женщины. Все голоса были отнюдь не старческими (как, кстати, и у её родителей до самого их конца). Алёна открыла дверь и вошла. Заходя, она в первый раз обратила внимание, во что одета сама: на ней было что-то вроде тёплого и вполне хорошего тёмно-малинового тренировочного костюма. «Ну, ладно», — решила она.
— Здрасьте.
— Привет. Ну, как ты себя чувствуешь? — спросил её Дмитрий, как будто бы ничего не произошло.
— Как идиотка, — ответила Алёна.
— Это не самое страшное. Всё остальное у тебя сейчас в порядке. Садись. Ты не возражаешь, если все мы будем теперь на «ты»?
— Не возражаю. Только вот теперь хотелось бы предварительных разъяснений.
— Предварительных? Нет проблем.
— Их нет теперь у меня или вообще?
— У тебя. Кстати, знакомься. С Верой ты уже разговаривала, а это — Таисия, Тася.
— Очень приятно. Надеюсь.
— Мне тоже приятно.
Тася была явно попроще Веры, но тоже вполне нормальная, в отличие от бесконечных немолодых психотехнологинь из общаг, уверенных в себе, матёрых и навзрыд одинаковых. Дмитрий продолжил:
— Там, снаружи, тебе уже нечего делать, да и стало теперь опасно. Мы предлагаем тебе побыть здесь.
— Да, судя по дверям, случайных посетителей здесь не ожидается. И как долго продлится это удовольствие?
— Примерно полгода.
— Ну что же, хоть в чём-то, наконец, определённость. Это уже радует. А что будет через полгода?
— Конец света.
— Чудненько. Туда ему, свету, и дорога. «Ей, гряди, Господи».
— Вот видишь, как у нас всё полюбовно складывается!.. Я рад. Но если всерьёз (хотя, никто не сказал, что это было в шутку), то ты сейчас ещё отдохни, женщины тебе всё покажут, — чувствуй себя, как дома, а я побегу к ребятам, — там Толька сейчас отдувается, да и остальные, — а завтра мы приедем, и разговор будет серьёзным. Торопиться теперь пока некуда. Тебе, во всяком случае. Там, снаружи, ты отныне пропала, пока без вести. Остальное — завтра. Да, прости, твоё проклятие мы скопировали, а оригинал, кому надо, подбросим. Вместо прощальной записки. Чтобы искали поменьше. Сдаётся нам, что ты не возразишь.
— Правильно сдаётся. Ха, а знаете, я ведь как-то раз, в 2006-м году, просила Полковника меня арестовать и посадить в одиночку, чтобы хоть отдохнуть... Ещё вспоминала «Мастера и Маргариту»: "Нужно ли говорить, что свои показания Варенуха закончил просьбой посадить его в бронированную камеру. «Далась им эта бронированная камера», — проворчал следователь"...
— Не посадил?
— Вы же знаете... ты же знаешь, что нет. Похвалил моё чувство юмора. Сказал, что оно хорошо в любых жизненных ситуациях.
— Это точно. Ну ладно, милые дамы, отдыхайте, до завтра! Кстати, Алёна, можешь теперь немножко расслабиться: здесь тебя больше никто не слышит, а нам тебя слушать не нужно. Ну, всё, до встречи!
Дмитрий ушёл через ворота в торце, за которыми оказался тоже коридор, совершенно тёмный, такой, что он включил фонарик, прежде чем с каким-то сложным лязгом закрыть их с той стороны, а бабушки показали Алёне комнаты. Когда они показывали комнаты и всё, что в них находилось, они отличались даже почти красноречием, но «лишнего» слова из них было клещами не вытянуть, — хуже парней. Тася лишь согласилась подтвердить две алёнины догадки, сказав, что обе они с Верой раньше работали в КГБ, и что сейчас помещение, в котором все они обитают, находится глубоко под землёй. («Кондиционирование должно быть приличным».) Ещё Алёна задала вполне естественный вопрос:
— Как же вы собираетесь прожить тут со мной полгода? А семьи, дети, внуки?
Вера, как ни странно, ответила (видимо, это разрешалось, и теперь это имело какой-то смысл):
— Коллектив, в котором ты оказалась, все, кого ты здесь знаешь, и мы, и мальчики — все бездетны и одиноки. Только не надейся, пожалуйста, что кто-нибудь захочет на тебе жениться, и дело тут вовсе не в твоих качествах, — нас собрали здесь совсем по другому поводу.
— Так что, вся команда подобрана под меня?..
— Не-е-ет, дорогуша. Команду, как ты выразилась, подбирали из своих собственных соображений. Никто не мог и предположить того, что тебе придётся в неё войти. Равно как и того, что ты нам вдруг так подойдёшь. Но вот если бы не ты, то нас обеих сюда, действительно, могли бы и не позвать...
— Значит, это хорошо, что позвали?
— Поживём — увидим. (Но и это не воспринимай, пожалуйста, на свой счёт.)
Больше ничего Алёна выудить у них не смогла.
Зато в подземном помещении имелось, кажется, всё, что нужно. По этому поводу Алёна испытывала разные чувства, от полного восторга до абсолютного ужаса. Ей ведь так никто ничего до сих пор и не объяснил: ни цели её похищения (факт которого был уже очевиден), ни назначения этих подземных комнат (если они действительно были подземными, — ведь дороги сама она не видела, а место их расположения ей всего лишь подтвердила Тася), ни ситуации в целом. Внутренне Алёна так и металась в противоречивых чувствах. Но уйти сейчас отсюда всё-таки не хотелось. В комнате, где она проснулась, ей сразу же показали её сумки — в целости и сохранности. Ещё в этой комнате стояли две такие же кровати, Веры и Таси, что сразу порадовало. У каждой из кроватей задёргивалась занавеска, а рядом было расставлено всё самое необходимое: по тумбочке с табуреткой, стулу и маленькому, но нормальной высоты столу, по шкафу, комоду, по достаточно пустому книжному шкафу (хотя, какая-то подборка книг и журналов везде имелась). Привыкнув к общежитиям с двухъярусными койками, Алёна почувствовала себя во дворце. И сразу же сама этого испугалась.
— И что, такое помещение здесь всегда имеется про запас на какой-либо случай? На трёх человек?
— Помещение — да. Но оно обычно остаётся почти пустым, хотя, порядок поддерживается. Именно сейчас на трёх человек оно было спешно оборудовано вчера-позавчера, пока ты спала больше суток. Если здесь чего-нибудь не хватит, мальчики привезут. Если что — здесь и пустых, опечатанных комнат достаточно, но вряд ли они понадобятся, — всё необходимое уже готово, — поясняла Тася, а Вера согласно кивала.
Ей показали санузлы, — нормальные, как положено. То же — кухня на трёх хозяек (у каждой — всё своё) и продуктовая кладовка. («Когда ты будешь занята — мы тебе приготовим, что скажешь», — её вопрос, чем же она будет занята, остался, по сути, вежливо проигнорированным). Зал, где Алёна впервые их всех застала, был ей уже знаком. («Книги, журналы и видеозаписи ты можешь брать любые и везде, — здесь нет ничего травмирующего».) Курить можно было на своих местах в зале, на кухне и за своим столом в спальне, где включались, оказывается, достаточные вытяжки. Ей только не понравилось тасино странное: «ПОКА можно»... Ещё из коридора одна дверь вела в медицинский кабинет. Там был доступен шкафчик со всякой мелочью — йодом, аспирином и пр., а большие шкафы, какие-то приборы, часть из которых оставалась ещё в коробках, и явное рабочее место врача находились за складной решёткой, выкрашенной в белый цвет и сейчас запертой на ключ.
— Это — витино ведомство. Нам сюда без спросу нельзя. Но не удивляйся: иногда здесь работает не только Витя. А если вдруг что случится — всегда можно позвонить, — сообщила Вера.
Был здесь, оказывается, и спортзал. Небольшой, но достаточный и разнообразный. Тася гордо констатировала:
— Вот это здесь находится стационарно. Сейчас только для нас с Верой кое-что добавили, чтобы не утомлялись, но и не засиживались.
Алёна встрепенулась:
— Музыкальный центр есть, попрыгать можно, а вот груши и перчаток я здесь не вижу...
— Их специально убрали накануне. Мы этим не распоряжаемся и ваших дел не знаем.
— Й-й-ёшкин корень!.. Вот, вечно!..
— Ничего, нас предупредили, что ты иногда выражаешься. А нам — не привыкать. Пойдём теперь в конференц-зал и твой кабинет, что одно и то же.
— Куда-а?.. Ну, пойдём...
«Кабинет и конференц-зал» впечатления не произвели. У одной стенки стояли два небольших ряда стульев, ничем не оборудованных. Напротив была пустая стена, — какая-то слишком пустая, похожая на скрытый экран. На столике в углу располагалось что-то вроде музыкального центра, зато, с несколькими парами больших наушников, провода которых сейчас были связаны пучками. У потолка в четырёх углах комнаты просматривались квадродинамики. Ну, и ещё — у боковой стенки действительно стоял нормальный письменный стол со множеством ящиков и удобный стул, но кроме лампочки, на столе не было ничего. Рядом — столь же пустая полка для книг, и ещё чуть дальше вдоль стенки — явно стоящее не на месте удобное современное кресло с большим количеством возможностей менять высоту и прочие параметры. Алёна не удержалась, легонько ткнула пальцем пустую стенку. Та действительно шелохнулась. Тогда она попыталась заглянуть за самый её край в углу — это получилось (бабушки молчали). Стенка действительно оказалась экраном, за которым — столик с видео-, диа- и аудиоприборами и два простых стула по бокам. Оставаться здесь дольше как-то не захотелось. «Хорошо ещё, что явной комнаты для допросов и пыточной камеры здесь не обнаружилось...» — мысленно проворчала она, направляясь за бабушками в зал. «Во что же я влетела?..»
— Ну что ж, девочки, теперь можно и поесть. Если ни у кого нет других пожеланий, то я пока пойду, приготовлю всем что-нибудь на скорую руку. А завтра мальчики приедут — всё станет определённее, — сказала Вера.
— Мне только, пожалуйста, двойную порцию, а то я — ещё не наевшаяся, — попросила Алёна, прикуривая.
— Это-то, как раз, легче всего, голубушка, — промурлыкала Вера, удаляясь.
А Алёна поймала себя на том, что тоже очень ждёт «мальчиков», каждому из которых было к пятидесяти или к шестидесяти, — ждёт ради той самой определённости или хотя бы чего-то около. «Ладно, — до завтра, это даже не полгода, — это уже совсем скоро...»
Вера накормила до отвала. За столом велась оживлённая болтовня ни о чём. Но Алёну разбирало любопытство, ей не терпелось узнать, что эти женщины делали в КГБ. Уровень их был очевидно высокий, от обеих КГБ-шным опытом отдавало, но как-то неуловимо, а представить себе их обеих в приёмной, на следственной работе или информаторами, было бы невозможно. Хотя, Алёна знала, что пытаться понять о них что-нибудь по внешнему виду — это гадание на кофейной гуще: ошибиться можно было на сто процентов. Потом она попыталась завести «хитрый разговор» на историческую тему. Бабушки хором рассмеялись и открыто сообщили ей, что им обеим за семьдесят. Алёна так и предполагала, хотя, их возраст уточнять как раз не собиралась. Но ничего конкретнее узнать у них не удалось: от любых исторических и подобных разговоров обе уходили, виртуозно меняя тему. Настаивать показалось неудобным, и в разговоре Алёна решила дальше идти у них на поводу. Однако, чувствовала она себя с этими бабушками на редкость легко, тем более что оказались они совсем не назойливы, и как только она молча заинтересовалась книжной полкой, сразу же обе занялись чем-то своим.
В тот вечер она посмотрела журналы, книги, потом — добралась до пары фильмов на видео. Телевизор здесь был, но включать его не тянуло абсолютно, и бабушки, как ни странно, интереса к нему тоже не проявляли.
Сегодня проснулась Алёна, как она поняла, где-то в середине дня. Теперь же, к вечеру, она стала осознанно смотреть на часы. Бабушки улеглись около двенадцати, оставив в комнате лишь маленькую лампочку у неё на тумбе и задёрнув по своей занавеске, она же проколобродила до четырёх утра, и только тогда тоже отправилась спать, умудрившись ещё перекусить и попить чаю. Сейчас, действительно, всё складывалось отменно, отдохнуть от работы тут явно предполагалось, как следует, но «кабинет и конференц-зал» напоминали о том, что вскоре жизнь её настолько беззаботной не станет. Только какой?.. Что-то её в этом пугало. Уснула она, тем не менее, на редкость мирно.
Назавтра поздним утром в машине по Москве куда-то ехали Дмитрий и Виктор. Последний поинтересовался:
— Ну как там Толька, живой?
— Ой, не спрашивай, — с глубоким вздохом ответил Дмитрий, — Хотели его на пенсию отправлять, едва отстояли. Для нас-то ничего бы страшного не случилось, да и для него тоже, — из обоймы не выпал бы, хотя, кое-что стало бы тогда сложнее. Но просто его жалко.
— Слушай, Дим, сверни куда-нибудь в парк, покурим...
— Я с вами сам закурю...
Через какое-то время машина свернула в парк, оба из неё вышли и отошли подальше.
— Больше так делать пока не надо, никаких лишних выходов из машин. Мы и так — на грани. Надо бы пока затихнуть, а время не терпит. Диапазон девчонке без сознания, кстати, проверил?
— Всё на месте, все графики. Показания у неё первым делом сняли, а потом уже отдали её на руки нянькам. Бабульки там классные! Вот, старые кадры! — никаких хлопот. По-моему, соскучились по работе...
— Они поняли, что мы, хоть и ФСБ, а в этом во всём — нелегалы?
— Да ты что, Лёха им всё рассказал ещё раньше, до появления подопечной, как только на объект они обе приехали и двери за ними закрылись. Не всё, конечно, не до такой степени, но они так затосковали по варианту-максимум, что больше ничего не понадобилось. А девчонка что-нибудь знает?
— Пока нет. И к счастью, совсем уж она не девчонка. Мало того, что понять что-нибудь уже сможет, но ты представь себе: нашли бы её, а ей — двадцать лет... И всё, и прощай все надежды уже навсегда...
— Ну тебя, мороз по коже. Слушай, а может, всё-таки, есть ещё кто-нибудь на Земле с диапазоном? Я понимаю, что невероятно, но и этой-то найтись не должно было, а тут — у нас под носом и всё как специально!.. Так может, есть и кто-то ещё?
— За границей ищут четыре группы уже три года. Мы отчаялись, а время выходило. Вдруг — нашли. Будем искать и дальше, до самого конца. Кого только ни проверили, — ребята в такие сферы ввинтились! — всё мимо. Зарубежные группы, кстати, ни во что не посвящены, присылают нам только результаты, не зная, подходят они для чего-нибудь, или нет...
— Димка, мы же засыпемся, на хрен! Хоть и профи, но развели самодеятельность на весь Земной шар, — это же просто не может сойти с рук!
— Видишь ли, Витя, у этой медали (НАШЕЙ медали) есть не только две стороны, но ещё и основательное ребро... Если бы всё было так просто, если бы дело было в одной самодеятельности, то ещё пару лет назад мы не вышли бы сухими из воды, и всё не удавалось бы нам так легко...
— Легко?!!
— Ну, ты понял, о чём я говорю. И большего теперь от меня не требуй.
Виктор в замешательстве помолчал и затем сказал:
— Я понял. Больше не произнесу ни звука. Но почему я слышу всё это в первый раз?
— Потому что созрел ещё один фрукт, и теперь он — спелый и сочный...
— Ты притчами какими-то уже заговорил, блин!.. Ещё стихами начни.
— Не обращай внимания. Это — от страха. В общем, так. Сейчас вернёмся в машину, я тебя, где надо, высажу. Подходим с разных точек в разное время, уходим так же. На объекте пересекаемся в двадцать ноль-ноль. Туда, где проходили наши совещания, больше пока не приходит никто, до особой команды. Всё, городи чушь, жалей Тольку (тем более что это — искренне), подходим к машине. Давай!
Чуть позднее сослуживцы вышли из машины в разных местах города, и проследить за их дальнейшими перемещениями было бы очень трудно. Через полтора часа на объект позвонили по какой-то особой связи, и Вера сняла изнутри предохранительный сигнал с замка, — Дмитрий повозился и вошёл в освещённый коридор.
— Привет, дорогие! Ну, как там наша Алёна? Как сами?
— Мы в порядке, а она — тем более. Специально мы за ней не следим: нет причин. Остальных ваших никого пока ещё нет.
— Так и надо.
— Ну, проходи тогда в зал. Алёну сейчас позовём, она теперь рядом, — и Тася прошла на кухню.
Через пару секунд она, однако, вышла обратно:
— Представляешь, она что-то взялась готовить, зная, что здесь соберётся компания, а сейчас вдруг ушла в спальню и сидит там... Сейчас...
Алёна сидела на кровати и что-то читала. Увидев Тасю и узнав о появлении Дмитрия, с книжкой в руках отправилась в зал.
— Привет. Ты представляешь, я тут стала вспоминать вахту и прочие перипетии, вспомнила Довлатова и захотела перечитать отрывок, — ведь Довлатов у меня с собой.
— Ты — колоссальный человек. ВОТ СЕЙЧАС ты отправилась что-то перечитывать?! Да ещё и Довлатова, антисоветчика, которым ты, как мне казалось, в последнее время не сочувствуешь... Хотя, что я удивляюсь! — у тебя же диапазон!..
— То, что у меня всё-таки ЕСТЬ какой-то диапазон, я поняла сразу, как вы все там ни старались напустить тумана. Ну, так объясни мне, наконец, что же это такое?..
— Хрен его знает. (Я правду говорю.) Но показатель этот — именно психический, психологический, — не какой-либо другой. У большинства людей имеются лишь частичные показатели в тех или иных рамках, а у тебя — диапазон целиком. Вероятность такого явления — один к двадцати пяти миллиардам. То есть, ни одного такого человека на Земле в данный момент времени по теории вероятности найтись, скорее всего, не могло.
— И что теперь? А вообще, что я собой такое представляю? Ведь ничего же особенного!.. Ну да, я всегда знала, что я — не как все, — но я уж точно не одна такая, и уж всяко — не единственная из двадцати пяти миллиардов... Ты что, каких угодно людей не встречал? И пооригинальнее, и поталантливее, и уж покруче, в любой области и в любом направлении!.. — это очень мягко говоря...
— Ну, ты сейчас рассуждаешь просто на уровне сознания твоих оппонентов, сознания одномерно-одноклеточного. Во-первых, никто, включая тебя саму, не знает, какая на самом деле ты могла и должна была стать. Толька же, на свою голову, подтверждал тебе...
— Что с ним?
— Теперь ничего. Всё в порядке. Но он сам виноват, что увлёкся, разговорился с тобой, где не следовало, вот и пришлось ему потом огрести. Ладно, дело уже прошлое, только теперь ему понадобится какое-то время посидеть тихо и сюда он пока приходить не будет. Хотя, при такой жизни — уже завтра-послезавтра что-нибудь произойдёт, и о нём забудут. Я разговариваю с тобой, как с нашей, но ты ведь и есть уже наша, да?
— Никто только меня ни о чём не спросил...
— Брось. Самое главное решишь всё равно ты. Кстати, представляешь, у тебя в общаге в тот же день, ещё до известия о твоём исчезновении, кто-то умудрился настучать по интернету в МВД, что тебе грозит какая-то опасность!.. Сообщили, всё-таки, — кто бы мог подумать!..
— Да уж!..
— Но мы с МВД-шниками поищем, и никого не найдём. Если кто-то за что-то ещё переживает, то светить таких сейчас ни к чему. А откуда «грозила опасность» — уже известно. (Вообще-то, она тебе действительно грозила, только, скорее всего, не так оперативно и открыто.) Тем более что саму тебя через недельку «найдут», а «злоумышленников» — нет. Негласно курируем это мы, так что всё пройдёт, как надо.
— То есть, в ЭТОМ мире меня больше не будет?..
— Совершенно верно. Визуально опознать тебя не смогут, а экспертиза будет — как положено.
— Подожди, подожди!.. Это что же, всё пропадёт? Папина картина, оставшиеся фотографии, мои памятные мелочи, стихи?.. Это же моя жизнь, это же я!.. Как, было время, эти подонки пёрли у меня всё, как у трупа, взялись почему-то сами решать, что мне понадобится, а что нет, — опять, что ли, то же самое?!! А на могилу к родителям я что, больше не приду?..
— Успокойся, — я забежал вперёд, ничего тебе ещё не рассказав. Переждать полгода тебе придётся в любом случае. Если через полгода вдруг в этом мире всё останется на своих местах, то беспокоиться тебе будет не о чем. Всё имущество, движимое и недвижимое, ты завещала государству?
— Да... В том смысле, что просто никому...
— Но по завещанию — государству?
— Да, Российской Федерации... Меня ещё дразнили, мол, что это за любовь к государству такая! — а я-то имела в виду, что просто никому из претендентов...
— Ну и молодец. Государство в наследство вступит, а мы, раз такие дела, пока всё опечатаем. В этом случае — не беспокойся, — всё потом будет на месте и лично у тебя. И сама ты — в целости и сохранности. Не в этом городе и не в этой квартире, но тут ты, по-моему, не расстроишься. С посещением могилы мы тоже что-нибудь организуем. В этом случае — успокойся совсем, и всё окажется даже лучше, чем ты надеялась. Вот только... В конечном счёте, всё должно получиться иначе: в ЭТОМ мире должно перемениться ВСЁ, и волновать тебя будут уже совсем другие вещи. Тебя, а заодно — всех остальных. Сама говоришь о войне, так будь просто мужественной. Не более чем все остальные, кто о ней знает. Это — то, что я готов сказать на сегодня. ОЧЕНЬ прошу тебя, подожди ещё. Немного: не полгода, а несколько дней, неделю. Тогда уже разговор будет исчерпывающим. Против твоей воли всё равно никто ничего сделать не захочет и не сможет, а с уголовниками ты нас не равняй. Пока ни о чём этом не думай, и твоя задача — просто дорассказать за пару дней всё, что ты хотела и не успела, чтобы мы всё нужное обработали и собрали воедино для шифровки. Сейчас работают шифровальщики, и не где-нибудь, а в наших архивах. Рассказывать, как и раньше, будешь под запись, но микрофонами смущать не станем: во время наших разговоров всё, как и прежде, будет происходить «само». Через недельку я объясню тебе всё полностью, и начнём работать. (Если захочешь, конечно, но думаю, что захочешь.) Теперь — давай, Алёна, включай свой диапазон, меняй свои «координаты» и рассказывай, что ты там собиралась рассказать сначала.
— Да какой, на хрен, диапазон-то?!!
— Ах, да. Ладно, возвращаемся туда, откуда «уехали». Диапазон «L» — так он называется, хотя, название это бессмысленное. От слова «Light» (или, как тебе теперь привычнее, «Licht»). При чём здесь свет — не понятно, скорее всего, это иносказательно. Главное, как я уже говорил, показатель этот (или, как у тебя, целый диапазон) — сугубо психический, психологический. Этим никто никогда толком не занимался за бессмысленностью, никакого практического применения показатель «L» не имел: всё, о чём он мог свидетельствовать, было ясно и так, по другим параметрам. Целого же диапазона (как думали) всё равно ни у кого не было. А если бы был — у него бы, скорее всего, не появилось практического применения: ещё одно свойство личности, да и всё. Как мы предполагаем, это свойство — поразительная психическая, психологическая устойчивость при очень большом разбросе, но в силу чрезмерной уникальности явления — это устойчивость, всё равно нигде больше не применимая.
— Устойчивость? Наоборот, меня всегда считали нестабильной. У меня ведь, кстати, был же и нервный срыв, да и в юности — суицидная попытка...
— А разброс какой, а доводили как! Сегодня-завтра ты об этом расскажешь, но ведь и срыв-то был, положа руку на сердце, практически липовым, нет?
— Вообще-то, да... А вы и тут — в курсе? А за каким хреном тогда вообще всё это происходило, — нельзя было обойтись другими мерами?
— Нельзя. Ты же сама говоришь о войне. Так что срыв твой являлся — частично липовым, частично сфальсифицированным извне, а юношеская суицидная попытка, с поправкой на пятнадцатилетний возраст — слишком хладнокровной и рассудочной. Учитывая обстоятельства и внешние фальсификации, тут как раз об устойчивости и следует говорить.
— Всё, заразы, знаете.
— А кто Полковнику писал?..
— И вам нужно было при этом устроить мне ВОТ ТАКУЮ жизнь?
— Ладно тебе. Ты-то тоже, зараза, всё знаешь... Но ругаться, ни в шутку, ни всерьёз, нам ни к чему: и мы, и ты, узнали всё слишком поздно... Да, нас всех надули. Но ведь в конечном-то счёте, всех должна надуть именно ты, а мы тебе, насколько сумеем, поможем изо всех сил!..
— По-моему, ты воду мутишь. Что-то не сходится. Ерунда какая-то.
— А ты не реагируй сейчас ни на что и, как ты рассказываешь, включи у себя в голове «режим видеозаписи». Потом додумаешь.
— Ты, Дима, меня вместе с моим диапазоном сейчас, тем не менее, до истерики доведёшь. Я ничего не понимаю!!!
— Твоей истерике — грош цена в базарный день, — ты сама уже всё ЦРУ до истерики довела. Спасибо, что не нас. Хотя, ЦРУ — не разведка (или далеко не только разведка), и мы с ними — совсем не одно и то же...
— Знаю. Потому бы я к ним никогда и не пошла.
— К победителям-то?..
— Иди в задницу.
Дима рассмеялся:
— Ты не представляешь себе, какую важную вещь ты сейчас сказала. Ну, да ладно. Против ЦРУ одна бы ты, к сожалению, всё равно не смогла бы ничего. И, тем не менее, ты — одна на двадцать пять миллиардов вероятностей. Вычислить тебя было нереально. Оставалось искать методом тыка. По причине такой редкости, невероятности носителя, этим никто никогда и не занимался, никто ничего не изучал. Тем более что как косвенно подтверждал тебе на свою сохранённую голову Толька, никто, включая тебя саму, не знает, что ты на самом деле за человек, поскольку тебя психологически подавляли, уничтожали и фальсифицировали твою личность с рождения, пытаясь навязать липовую судьбу. О наличии у тебя диапазона никто не подозревал: всё это делалось по другим причинам.
— Каким?
— Ну, ты что, хочешь, чтобы я тебе всю историю от Адама и Евы сейчас рассказал? — сама ещё, что хочешь, всем порассказываешь... Но не только о тебе, о твоей сущности, — никто ещё ничего не знал и не знает о качествах и личностных свойствах вообще человека с диапазоном «L». Ты первая и, похоже, единственная, попавшая в наше поле зрения. А как бы и по каким бы причинам при этом ни складывалась твоя жизнь, но ничего фантастического, оказывается, в тебе всё равно нет.
— Здрась-сь-сьте.
— А это так и есть. И то верно, и другое. Ты права: людей, каких только не бывает! Во всяком случае, в тебе нет ничего такого, что однозначно выделяло бы тебя среди любых других двадцати пяти миллиардов (откуда, из каких времён и стран их ни насобирай), или ничего такого, что хотя бы вводило тебя однозначно в число гениев человечества, которых за всю историю наберутся всего лишь единицы или сотни, — в тебе ничего этого нет. Перевоплощаются — актёры, писатели, шпионы и кто угодно ещё. Какую твою черту и даже их совокупность ни возьми — ты такая далеко не одна, и в основном — не из самых выдающихся. В тебе, вроде, ничто не может особенно обратить не себя внимание, кроме того, наверное, что ты умудрилась дожить (прежде всего, психически дожить) аж до сего дня, да ещё и сохранилась, как автономная личность, ни с кем так уж сильно не конфликтуя, но и никогда ни к кому и ни к чему не приспосабливаясь, даже не собираясь. Почти невероятно, учитывая, ЧТО из тебя пытались сделать!
— Ну, это — в маму... Она-то как раз такая и была...
— Может быть. И ещё одно: ты всегда живёшь сразу в каких-нибудь пяти своих мирах, реальных и выдуманных. Как если бы у тебя сразу было штук пять включённых компьютеров с разными виртуальными программами — выбирай любой. Только у тебя всё это — в голове, в естестве. Не одновременно, конечно, но везде у тебя — всё всерьёз, всё по-настоящему, по полной, и все твои психологические миры — при тебе сразу. Наверное, это тоже не уникально. Но переходишь из одного мира в другой ты мгновенно, как только желание появляется, или потребность. А значит, можешь и в любой из них убежать, перебежать, когда захочешь. Все они одновременно продолжают оставаться с тобой и «дремлют», пока какой-то из них тебе не понадобится. Главное, что каждый из твоих психологических миров (сколько их у тебя там) всё это время остаётся существовать таким, как есть, цельным, а не случайным, и с любого нужного тебе момента может возобновляться или развиваться именно дальше — по собственному (тому же самому, что прежде) сценарию, по своей, уже изобретённой, уже существующей логике, пока он логически же не завершится, не надоест тебе, и ты не создашь новый, не затрагивая при этом остальные. И ты их никогда не перемешиваешь, не путаешь, если только у тебя вдруг не появится идея сознательно объединить темы или героев, что-нибудь перерабатывая по ходу. Здесь ли собака зарыта у твоего диапазона — кто его разберёт! Возможно, что все прирождённые писатели так и живут. А большего мы уже, видимо, не узнаем. Вообще-то, теоретически (хотя, я ничего не утверждаю) и такое в принципе не исключено, что диапазон «L» житейски не проявляется в действительности совсем никак, а виден только через показания приборов. Тогда весь наш нынешний разговор — просто о твоих индивидуальных характеристиках, об особенностях, о свойствах твоей личности, и не более того. Я не знаю, так это или нет. И не знал бы дальше. Но вдруг этот диапазон приобрёл для нас конкретный практический смысл, — нам позарез понадобилось его найти. Как ни странно, всё-таки нашли. Теперь — самое главное, что он у тебя есть, и всё, и хоть тресни, — какой бы он там ни был, и какая бы ты сама при нём ни оказывалась. А через неделю ты узнаешь, какая возможность открылась перед тобой теперь. Отсюда следует слишком многое для нас для всех. Большее — расскажу тебе через ту самую неделю. Просто, извини, из тех соображений, что ты должна успеть озвучить другую информацию, а мы её должны обработать, шифровальщики — зашифровать. Иначе — получится долгий разговор, сейчас не нужный, который съест уйму времени. Да ещё не известно, как ты себя поведёшь, хотя, все надеются, что прекрасно. Ладно, — основное сейчас ты знаешь. Давай, что там у тебя с Довлатовым, раз уж ты с него начала.
— Я уже и забыла... Ой, я другое забыла! Позови, пожалуйста, Веру или Тасю!
Пришла Вера. Алёна рассказала ей, что нажарила грибы с луком, перемешала всё это со сметаной и, поскольку никто никуда не торопился, ушла вдруг читать. Потом собиралась обжарить свинину, положить на неё грибы, накрыть сыром каждый кусок, а когда соберётся компания — поставить это всё в духовку. Только ещё картошку надо будет сразу вариться поставить, с ней вкуснее всего. И если не лень, можно ещё быстренько какой-нибудь салатик к картошке сделать из помидоров, огурцов и зелени, с маслом или сметаной. Больше ничего не надо, чтобы главному блюду не мешало. Заняться-то ей больше было нечем, а в продуктовой кладовке — глаза разбежались!.. Вера с улыбкой согласилась заняться всем этим дальше. Дмитрий утрированно облизнулся, а потом напомнил Вере, что по одному будут собираться ребята — пусть проходят спокойно в «конференц-зал», а там они — «сами знают». Если их собираются кормить деликатесами к моменту общего сбора, то это — к восьми вечера. Алёна, довольная, подобрала брошенного, было, Довлатова.
— Это твой любимый писатель?
— Один из любимых, но уж точно не единственный. Просто он хорошо читается в дороге или вот в таком раздрае — я и купила, когда были деньги, пару книг, которых у нас ещё не было в той квартире. Так что выбор это был почти случайный, но вовсе не худший. Уж так получилось, что сейчас у меня с собой нет почти ничего другого. Вот Ваджра действительно стал пока настольным справочником, — я его специально заказывала в интернете. Но, в общем, всё это — то, что просто было при себе, и к чему я привыкла за последнее время. Библиотеку-то, когда всё таскаешь сама, не заведёшь!
— А ты сейчас принесла его сюда, — хотела что-то прочитать?
— Не надо? Времени мало?
— Да нет уж, валяй! Ты как начнёшь что-нибудь зачитывать — хоть стой, хоть падай. Я послушаю.
— С такими надеждами можно когда-нибудь проколоться. Но сейчас — вряд ли. Я стала вспоминать, как работала когда-то в тьмутаракани на заводе на вахте...
— Я утром думал, что её, Алёну эту, сейчас валерианкой отпаивают и из истерики выводят, а она, оказывается, витает, где ни попадя, да грибы жарит...
— Да ну тебя! Здесь же, где я нахожусь — до сих пор было всё нормально... В общем, стала я вспоминать ту вахту, а какой там народ — представляешь себе. Тогда-то мне и попался в очередной книге этот отрывок из Довлатова. Самого Довлатова призвали когда-то в армию, и был он там надзирателем на зоне, — потом писал о многом другом, но и об этом тоже. Героя своего часто называл Алиханов. Знаешь?
— Представь, знаю.
— А я привыкла, что вокруг меня сейчас никто ничего не знает. Ах, да. Ты же его ещё антисоветчиком обозвал.
— Это не я обозвал, это он сам им и был...
— Да ну, это же не ЦРУ-шная поделка! Хотя, их влияние тогда сказывалось, наверное, на всех... Но Довлатов — нашенский. Его «антисоветизм» — нормальный, человеческий: «А-а, ссуки! А-а, бардак!» — так ведь и суки были, и бардак!.. Сталин, — не знаю даже, что бы ему припечатать сейчас покрепче, — Сталин заявил как-то раз, и все это знают, что нам нужны свои Щедрины и Гоголи. Кто-то написал тогда знаменитую эпиграмму, авторство которой так и не установлено:
Нам, товарищи, нужны
подобрее Щедрины
и такие Гоголи,
чтобы нас не трогали!.. —
вот Довлатов и был сегодняшними Щедриным и Гоголем, да настоящим, «трогающим»! Какой же он диссидент и антисоветчик! — он просто нормальный человек, талантливый писатель и по сути своей сатирик, — вот и всё... Он потом за женой в Америку рванул (если не врёт, что за ней, — здесь его не издавали!), — так ведь не нашёл он там ни себя, ни своей темы. Журнал в эмиграции начал издавать, обрадовался было... А от него стали требовать в том журнале про свинину не писать!.. — вот тебе и деидеологизация! И грохнули его, как всех наших, русскоязычных. (Хотя, никто никогда не начнёт доказывать всю ту вереницу псевдоестественных смертей.) До пятидесяти не дожил, что здесь бы, что там. Настоящая слава к нему пришла именно ПОСЛЕ смерти, после 1990-го, — он её так и не узнал. А теперь хотят уничтожить не только их, создателей и проводников нашей ментальности, но и всех русскоязычных, тех самых нашенских, кто мог бы всё это воспринимать...
— Хотел я сейчас тебе кое-что сказать, — ну да ладно, жди ещё неделю.
— Ой, куда я денусь!.. Но, в общем, слушай. В этом отрывке — не особая сатира, но там, на вахте — всё это на душу легло, как никогда. Тётька, которой я там это прочитала по её же просьбе и которой от меня явно было что-то нужно психологически — замолчала, помнится, напряглась... Вот, слушай, что там тогда произвело на меня впечатление, из довлатовских художественных откровений:
«Алиханов был в этой колонии надзирателем штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зеки.
Это были своеобразные люди.
Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря особого режима, нужно совершить какое-то фантастическое злодеяние. Как ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с ещё более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами...
Должность Алиханова была поистине сучьей. Тем не менее, Борис добросовестно выполнял свои обязанности. То, что он выжил, является показателем качественным.
Нельзя сказать, что он был мужественным и хладнокровным. Зато у него была драгоценная способность терять рассудок в минуту опасности. Видимо, это его и спасало.
В результате его считали хладнокровным и мужественным. Но при этом считали чужим.
Он был чужим для всех. Для зеков, солдат, офицеров и вольных лагерных работяг. Даже караульные псы считали его чужим.
На лице его постоянно блуждала рассеянная и одновременно тревожная улыбка. Интеллигента можно узнать по ней даже в тайге.
Это выражение сохранялось при любых обстоятельствах. Когда от мороза трещали заборы и падали на лету воробьи. Когда водка накануне очередной демобилизации переполняла солдатскую борщовую лохань. И даже когда заключённые около лесопилки сломали ему ребро.
Алиханов родился в интеллигентном семействе, где недолюбливали плохо одетых людей. А теперь он имел дело с уголовниками в полосатых бушлатах. С военнослужащими, от которых пахло ядовитой мазью, напоминающей дёготь. Или с вольными лагерными работягами, ещё за Котласом прокутившими гражданское тряпьё.
Алиханов был хорошим надзирателем. И это всё же лучше, чем быть плохим надзирателем. Хуже плохого надзирателя только зеки в ШИЗО...» —
Ну как?
— Хорошо, как всегда. А вот скажи, — здесь у него ведь много тем. О чём именно ты это читала сейчас (сейчас или тогда)?
— Обо всём, конечно. Об интеллигентской рассеянной улыбке, и о её противоположности — тоже. Но, в общем — о том, что ты как раз говорил: о способности оставаться собой, несмотря даже на то, чтобы быть всем чужим. Заметь, эту книгу я перечитывала ещё ДО твоего прихода...
— Положа руку на сердце: чужие сейчас — мы?
— Как ни странно, нет. Могу ошибиться раз и навсегда, но сейчас я это так не чувствую. Просто тема очень затрагивает, и это никогда не проходит.
— Ну, слава богу. Это хорошо, очень хорошо, что мы сейчас тебе не чужие. А Довлатов бы тебя не понял.
— А я сказала бы ему: «Поживи с моё»!
— Ага, как тебе твой Полковник сказал: «Чувство юмора хорошо в любых жизненных ситуациях»...
— Не знаю, чувство юмора это, или нет. Если бы Довлатов сейчас был на каком-нибудь том свете, если бы он знал теперь, КАК он в действительности умер и что вообще у нас творится, он бы мог меня сейчас и понять...
— А ты веришь в тот свет?
— К сожалению, давно уже не верю. Хотя, иначе родители бы сейчас «жили» там... Но, поняв очень многое, я поняла и то, что всё это — тоже просто моё изобретение, мои выдумки, ровно такие же, как и все остальные... Это — мои миры, в которых я живу, — один из таких миров... Когда не станет меня — все они исчезнут вместе со мной. Если вдруг кто-нибудь что-то подхватит, продолжит, это будет хорошо, но всё равно это будет уже ДРУГОЙ мир... Хотя, если бы я верила в тот свет и общалась бы теперь с родителями, которые «там», — представляешь, какое на этой почве началось бы сейчас мозгогрёбство?! — в моих условиях это для какой-то дряни была бы просто кладезь для МАНИПУЛЯЦИИ моим сознанием!.. Когда-то ведь так и было... Теперь ничего подобного больше нет, а родители у меня всё равно остались, и миры, в которых я живу, тоже никуда не делись!.. Я только независимее стала, что ли...
— Я рад. И я бы с тобой всю неделю проговорил, честное слово! Но находимся мы в основном в ЭТОМ мире, в котором течёт время и который чего-то требует. Ладно, ты передохни, а я в коридор всё же выйду: там кто-то из ребят пришёл.
Забегая вперёд, можно сказать, что этой ночью разговор о Довлатове и в связи с Довлатовым обернулся Алёне лихо. Сомнения и раздумья о её нынешнем местонахождении и о её новых покровителях почти не позволили ей спать. Ей казалось, что за ночь она выкурила все сигареты и выпила весь запас кофе и чая. Потом она успокоилась и уснула. А сомнения с тех пор периодически возвращались в течение всего полугода. Но это было уже потом. Сейчас она дождалась Дмитрия, и они начали разговор, который ему теперь уже и самому не терпелось начать. Пока ждала, она, как водится, сбегала за конспектами.
— Время у нас ещё есть?
— Да, навалом. Даже до восьми вечера ещё далеко, но можно задержаться и после.
— Тогда я ещё кое-что тебе прочитаю, уже непосредственно по делу.
— Да у тебя, вроде как, всё в основном по делу...
— Но мы, насколько я поняла, собирались говорить о липовой жизни липовой личности.
— Об этом собиралась говорить ты сама, но я такой разговор только приветствую. И опять очень интересно. Да ещё, я смотрю, с конспектами.
— Не смущай ты меня. Я, во-первых, уже сто лет ни с кем, кроме книг, всерьёз не общалась, а во-вторых, это вещи, о которых сейчас вообще не говорят, так что из сказанного мне всё время хочется что-нибудь подтверждать...
— Алёна, Алёна, говори бога ради, что хочешь и как хочешь. Станет мало времени — я сообщу. Но ещё весь завтрашний день — точно в твоём распоряжении. Говори, читай — я здесь и я слушаю.
— Ну, хорошо. Ты, уж конечно, знаешь, что я публиковала книжку стихов, — даже отпечатанную типографски и даже не за свой счёт, но по сути — самиздатовскую. Полкниги занимало эссе — комментарий к стихотворению. (Уж не буду говорить, что оно делалось в спешке, и требует серьёзной редакции.) Я писала его в основном на основе книги Сергея Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием». После православных, это была для меня тогда чуть ли ни единственная книга на подобную тему, о которой я узнала. Книга неоднозначная, нередко противоречивая. Но, как я писала в эссе, основную тему автор раскрывает блестяще и для многих ново.
— Я читал и твоё эссе, и Кара-Мурзу. Но я не думаю, что ты собираешься ещё раз излагать уже написанное. Хотя, я и лишний раз послушаю. Так что, говори.
— Вот, кстати, ещё одно, — я давно хотела где-нибудь это упомянуть, но не довелось пока. Сам же Кара-Мурза пишет: «...Главное, что господствующее меньшинство всячески мешает работе по разоблачению «гипнотизёров», старается не допустить массы к знанию доктрин и технологий манипуляции их сознанием. В основном это достигается щедрым вознаграждением «тех, кто с нами» и бойкотом «тех, кто не с нами». Всегда были учёные и философы, которым были противны повадки колонизаторов собственного народа. Но их было немного, и голос их удавалось утопить в шумовом оформлении. <...> Когда существовало советское государство, особенно в уже «спокойный» его период, с 60-х годов, вполне можно было бы наладить серьёзное изучение технологий манипуляции и изложить всему миру, а прежде всего, собственному народу. Однако уже в то время начался поворот нашей элитарной гуманитарной интеллигенции к будущей перестройке, и идеологические службы начали, в общем, работать против советского государства. Полученное знание не передавалось людям для создания иммунитета, а использовалось против них, без этого иммунитета беззащитных. <...> Так что готовых учебников и монографий о доктринах манипуляции сознанием найти нельзя. Но по крупицам собрать и откровения заправил этой власти, и наблюдения «тех, кто не с ними», мы можем. Очистим от «шума», приведём в какую-то систему, существенно проясним вопрос». — Я это вот к чему. Почти все книги о манипуляции сознанием и об информационно-психологической войне, которые мне довелось читать с тех пор, чем-нибудь грешат, как будто кому-то надо, чтобы такое чтение люди побросали. А ни одной единой школы, похоже, не создано. Лично я многие такие книги и самого Кара-Мурзу в определённой степени читала «несмотря на». Вот, собственно, то, что я давно хотела оговорить.
— Кстати, существенно. Слушай, а ты, похоже, действительно давно ни с кем нормально не разговаривала?..
— Полковник ещё в 2006-м засёк это сразу. А тебе не интересно, надоело?
— Я бы сказал тебе, что ещё одна такая сентенция — и угрохаю, — да после эпизода с Толькой боюсь «пророчить». Продолжай.
— Ладно, ничего тебе не буду отвечать. Слушай дальше. Я процитирую довольно большой кусок и, вроде, на отвлечённую тему. С непривычки он может быть вообще не очень воспринят. Сама я жила на Западе и многое, всё же, видела. Увиденное более всего производило впечатление мирного благополучия, а отнюдь не того, что здесь написано. Сама я когда-то училась вовсе не в школе «двух коридоров», а в самой что ни на есть советской, так что всего изложенного знать на своём опыте, казалось бы, не могу. Но когда читала, пройти мимо этого отрывка я не сумела. В эссе он не вошёл, поскольку был будто бы не о мире в целом, но имел прямое отношение лично ко мне. Скажем так, это воспринималось слишком интимно. Но Полковнику я когда-то обо всём этом писала, всё цитировала. После того, как я прочитаю, я объясню. Итак, слушай внимательно:
«Добуржуазная школа, основанная на христианской традиции, вышедшая из монастыpя и унивеpситета, ставила задачей «воспитание личности» — личности, обpащенной к Богу (шиpе — к идеалам). <А> для нового общества требовался манипулируемый человек массы, сформированный в мозаичной культуре. Чем отличается выросшая из богословия «университетская» школа от школы «мозаичной культуры»? Тем, что она на каждом своем уровне стремится дать целостный свод принципов бытия. Здесь видна связь университета с античной школой, которая особенно сильно выразилась в типе классической гимназии. Спор об этом типе школы, которая ориентировалась на фундаментальные дисциплины, гуманитарное знание и языки, идет давно. Нам много приходилось слышать попреков в адрес советской школы, которая была построена по типу гимназии — за то, что она дает «бесполезное в реальной жизни знание». Эти попреки — часть общемировой кампании, направленной на сокращение числа детей, воспитываемых в лоне «университетской культуры». <...>
В действительности эти попреки — чистая демагогия. Задача школы, конечно, не в том, чтобы дать человеку навыки и информацию для решения частных практических задач, а в том, чтобы «наставить на путь», <научить думать>. Те ученые и философы, которые заботились о жизнеспособности Запада, не уставали об этом предупреждать.
«Школа не имеет более важной задачи, как обучать строгому мышлению, осторожности в суждениях и последовательности в умозаключениях», — писал Ницше. Человек массы этого, как правило, не понимал, и Ницше добавил: «Значение гимназии редко видят в вещах, которым там действительно научаются и которые выносятся оттуда навсегда, а в тех, которые преподаются, но которые школьник усваивает лишь с отвращением, чтобы стряхнуть их с себя, как только это станет возможным». <...>
В чем же <видели такие мыслители> роль классической школы? В том, что она передает отличительную особенность античной мысли — «способность обращать всякую проблему в принципиальную», то есть стремиться к упорядочению мозаики опыта. <...>
Новое, буpжуазное общество нуждалось в школе для «фабpикации субъектов», котоpые должны были заполнить, как обезличенная pабочая сила, фабpики и контоpы. В этой школе Бог был заменен наукой, а в ум и даже в оpганизм ученика внедpялось новое, нужное для фабpики пpедставление о вpемени и пpостpанстве — pазделенных на маленькие, точные и контpолиpуемые кусочки.
На такие же контpолиpуемые частицы pазделялась масса самих учеников — всем укладом школы, системой оценок и пpемий, поощpяемой конкуpенцией. Школа, «фабpикующая субъектов», не давала человеку целостной системы знания, котоpая учит человека свободно и независимо мыслить. Из школы должен был выйти «добpопоpядочный гpажданин, pаботник и потpебитель». Для выполнения этих функций и подбиpался запас знаний, котоpый заpанее pаскладывал людей «по полочкам». Таким обpазом, эта школа отоpвалась от унивеpситета, суть котоpого именно в целостности системы знания. Возникла «мозаичная культуpа» (в пpотивовес «унивеpситетской»). Возник и ее носитель — «человек массы», наполненный сведениями, нужными для выполнения контpолиpуемых опеpаций. Человек самодовольный, считающий себя обpазованным, но обpазованным именно чтобы быть винтиком — «специалист». <...>
Но было бы ошибкой считать, что все буржуазное общество формируется в мозаичной культуре. Господство через манипуляцию сознанием предполагает, что есть часть общества, не подверженная манипуляции или подверженная ей в малой степени. Поэтому буpжуазная школа — система сложная. Здесь для подготовки элиты, котоpая должна упpавлять массой pазделенных индивидов, была создана небольшая по масштабу школа, основанная на совеpшенно иных пpинципах. В ней давалось фундаментальное и целостное, «унивеpситетское» обpазование, воспитывались сильные, уважающие себя личности, спаянные коpпоpативным духом. Так возникла pаздвоенная, pазделенная социально школьная система, напpавляющая поток детей в два коpидоpа (то, что в коpидоp элиты попадала и некоторая часть детей pабочих, не меняет дела). Это — «школа капиталистического общества», новое явление в цивилизации.
Ее суть, способ оpганизации, пpинципы составления учебных планов и пpогpамм хорошо изложена в книге фpанцузских социологов обpазования К.Бодло и Р.Эстабль. После первого издания в 1971 г. она выдеpжала около 20 изданий. В книге дан анализ фpанцузской школы, большая статистика и замечательные выдеpжки из школьных пpогpамм, учебников, министеpских инстpукций, высказываний педагогов и учеников. Но из этих материалов следуют общие выводы о разных подходах к образованию вообще, о том, какой тип человека «фабрикуется» при помощи той или иной образовательной технологии (речь, разумеется, идет о статистических закономерностях, а не о личностях).
<...> Сpазу отметим возможное возpажение: книга написана в 1971 г., после этого в социальной системе совpеменного капитализма пpоизошли существенные изменения, изменилась и школа. Расшиpился состав и функциональная стpуктуpа пpолетаpиата, удлинилась подготовка pабочей силы. Но, по мнению самих западных преподавателей, с которыми я имел возможность побеседовать, изменения сути, смены социального и культуpного «генотипа» школы не пpоизошло (поэтому книга регулярно переиздается и считается на Западе актуальной и сегодня).
Сегодня нам особенно близки и понятны выводы французских социологов потому, что в России прилагаются большие усилия по переделке советской школы в школу по типу «школы капиталистического общества». Мы видим, какие духовные, интеллектуальные и социальные структуры приходится ломать, какие при этом возникают трудности. И поэтому сpавнение конца 60-х годов позволяет говоpить о капиталистической и советской школе как двух сложившихся системах с вполне опpеделенными пpинципиальными установками. О них, а не частных пpеимуществах или дефектах pечь. <...>
С точки зpения <капиталистической> методики пpеподавания, в школе <для толпы> господствует «педагогика лени и вседозволенности», а в школе для элиты — педагогика напpяженных умственных и духовных усилий. Опpосы учителей и администpатоpов школьной системы показали, что, по их мнению, главная задача школы <для толпы> — «занять» подpостков наиболее экономным и «пpиятным для учеников» обpазом. <...> Социологи даже делают вывод: используемый здесь «активный метод» обучения поощpяет беспоpядок, кpик, бесконтpольное выpажение учениками эмоций и «интеpеса» — пpививает подpосткам такой стеpеотип поведения, котоpый делает совеpшенно невозможной их адаптацию (если бы кто-то из них попытался) к системе школы <для элиты>, уже пpиучившей их свеpстников к жесткой дисциплине и концентpации внимания.
Таким обpазом, школа <для толпы> ни в коем случае не является «худшим» ваpиантом школы <для элиты>, как бы ее «низшей» ступенью, с котоpой можно, сделав усилие, шагнуть в ноpмальную сpеднюю школу. Напpотив, школа <для толпы> активно фоpмиpует подpостка как личность, в пpинципе несовместимую со школой для элиты. Пеpеход в этот коpидоp означает не пpосто усилие, а этап самоpазpушения сложившейся личности — pазpушения и воспpинятой системы знания, и метода познания, и стеpеотипа поведения. <...>
Что же этим достигается? Авторы делают такой вывод: «Сеть полной средней школы пpоизводит из каждого индивидуума, независимо от того места, котоpое он займет в социальном pазделении тpуда (комиссаp полиции или пpеподаватель унивеpситета, инженеp или диpектоp и т.д.), активного выpазителя буpжуазной идеологии. Напpотив, сеть школы <для массы, для низшего класса> сдвинута к фоpмиpованию пpолетаpиев, пассивно подчиняющихся господствующей идеологии... Она готовит их к опpеделенному социальному статусу: безответственных, неэффективных, аполитичных людей.
В то вpемя как будущие пpолетаpии подвеpжены жесткому и массовому идеологическому воздействию, будущие буpжуа из сети полной средней школы овладевают, невзиpая на молодость, умением использовать все инстpументы господства буpжуазной идеологии. Для этих детей, будущих пpавителей, не существует вопросов или проблем слишком абстpактных или слишком непpиличных для изучения (конечно, с фильтpом «унивеpситетского гуманизма»).
Советский строй сделал огpомный шаг — поpвал с капиталистической школой как «фабpикой субъектов» и веpнулся к доиндустpиальной школе как «воспитанию личности», но уже не с религией как основой обучения, а с наукой. Он пpовозгласил пpинцип единой общеобpазовательной школы. Конечно, от пpовозглашения пpинципа до его полного воплощения далеко. Но важно, куда идти. Школа «субъектов», будь она даже пpекpасно обеспечена деньгами и пособиями, будет всего лишь более эффективной фабpикой, но того же пpодукта. А в СССР и бедная деpевенская школа пpетендовала быть унивеpситетом и воспитателем души — вспомните фильм «Уpоки фpанцузского» по В.Распутину.
Одной из задач реформы после 1989 г. в России стала трансформация советской единой школы в школу “двух коридоров”.» —
Перед разговором обо мне, хочу здесь ещё кое-что уточнить. Ты воспринял то, что я читала?
— Да-да, продолжай.
— Так вот, я хотела сказать, что сейчас на глазах в народе занимает господствующее положение фашистская, по сути, идея о том, что всё заложено в генах, что никто никогда не преодолеет того, что «на роду написано», и для социального порядка необходимо всем вернуться в «свою» социальную нишу. Но в действительности, в генах-то заложено много, только в сугубо естественной жизни проявляется всё это подчас очень причудливо и непредсказуемо. Кстати, Запад всегда «забывал» нас предупредить, что мы в любом случае не должны будем жить, как они, что судьба, уготованная нам, в конечном счете, по их плану станет совсем другой. Говоря даже не о собственно западной цивилизации, а о международной криминальной монополии (нечто близкое к этому Ваджра называет «чёрной аристократией»), тот же Кара-Мурза утверждает: «Если бы Россия стала колонией, это было бы не смертельно. Мы бы пережили, окрепли, подучились и, как США или на худой конец Индия, завоевали бы независимость. Но нас колонией не делают, а вскрывают вены. Это не больно, умирать даже приятно, но смерть, если не стряхнём пиявок, наступит неминуемо. Поэтому надо назвать вещи своими именами». Так что на самом деле даже рабская жизнь — не про нас. Нас просто не должно быть, но произойдёт это когда-нибудь всё тем же псевдоестественным способом. Сейчас они просто делают вид, что «воспитывают» нас, «как всех», чтобы позже не дать никому повода в чём-нибудь их упрекнуть... «Школа двух коридоров» в России — только лишь для отвода глаз. ПримЕнят однажды какое-нибудь генетическое оружие, и мы просто «вымрем сами». И всё будет, как всегда, шито-крыто. Вот увидите. Если кто-нибудь что-нибудь, наконец, не предпримет. Боюсь, что им опять поверили, как когда-то Сталин поверил договорам и пактам Гитлера. (Или даже не поверили, а просто наша «группа лиц» пытается таким образом спасти хотя бы себя и свои семьи...) Но ведь это же — Запад, ДРУГАЯ цивилизация! Смотри того же Ваджру или, тем более, официознешего американца Хантингтона!.. А сейчас я хочу кое-что повторить в защиту советской системы образования. За много-много-летнюю историю крестьянской семьи отца такое было уже не впервые, — они уже приезжали задолго до революции в город, в тогдашнюю столицу, уже учились и начинали достигать успехов. Когда-то их напугала, помешала им как раз именно революция. Теперь отец и два его брата, все в детстве пережившие оккупацию и не скрывавшие этого, уехали в Ленинград и получили высшее образование. Жены у всех троих тоже были с дипломами, и все трое сделали ощутимую карьеру (один — вернувшись с семьёй в областной город, но там он тоже проявил себя очень ярко, став главным инженером крупного объединения). Младшие сёстры их, правда, предпочли этому выйти замуж за кого попало, — но это уже их дело. Пойти по стопам невесток им, в принципе, никто не мешал. Дочери всех этих братьев росли теперь уже совсем по-другому. (У отца была ещё семья от первого брака, но это — отдельный разговор. Обе тамошние дочери высшее образование тоже получили.) Если бы всё так и продолжалось, то ещё одно-два поколения, и потомки их окончательно перешли бы уже на другой, куда более высокий социальный уровень. Но вот это-то как раз и не соответствовало экономическим интересам определённых криминализованных или даже фашиствующих структур, называющих себя «цивилизованными людьми», что за ними всегда водится. Кстати, западная финансовая верхушка сформировалась наполовину тоже невесть из кого.
— Да уж.
— Было же сказано Киссинджером: «...задача России после проигрыша холодной войны — обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят — шестьдесят миллионов человек». Вот это целенаправленно и делается, и делалось ещё до всяких холодных войн. ЗДЕСЬ нужны не мыслители, а только послушные трудяги, те, кто будет непосредственно обеспечивать ресурсами. Мыслить будет западная «элита». И теперь уже нашим дурашкам что только ни внушают! — и что руками работать надо, а не стихи писать, и что люди все одинаковые, а «незаменимых нет», и что вообще, одинаковость — добродетель, «потому что есть проверенные стандарты, ведущие к счастью», так что не надо велосипедов изобретать... А они подхватывают, стараются быть одинаковыми и жить по единым психологическим и социальным стандартам, не задумываясь, что однородной, одинаковой массой просто значительно легче управлять, вычислять потребности и манипулировать ими, преследуя свои собственные «элитарные», но сугубо экономические и финансовые интересы (являющиеся просто прямой их денежной выгодой). Они (наша нынешняя масса), как велено, считают эти «мысли» собственным изобретением и стараются им соответствовать, потому что это удобно и потому что им кость кинули (и ещё кинут). Вот ещё забавная выдержка из Кара-Мурзы на эту тему (хотя, я тоже не оценю её совсем однозначно, но всё же): «Непредсказуемость. Легче всего манипулировать сознанием человека, мышление которого отвечает чёткому и строгому алгоритму. Если же оно петляет, следует необычной логике и приводит к парадоксальным выводам, подобрать к нему ключ трудно. Манипуляторы Запада с большим трудом находили подход к дикарям, китайцам, африканцам. Негры уже два столетия живут в США, но до сих пор «одомашнены» в малой степени. В общем, эффективным способом ухода от захвата и воздействия манипулятора является создание искусственной непредсказуемости твоей реакции (источников информации, способа её переработки, логики умозаключений, темпа взаимодействия, типа высказываний и т.д.). Как сказал К. Кастанеда, «когда ты непредсказуем, ты неуязвим». Конечно, это непростое дело, но кое-какие приёмы можно выработать. Например, можно постараться сознательно задерживать или вообще блокировать автоматические реакции — не позволять играть на своих стереотипах. Ах, ты меня хочешь разжалобить песенкой «мы, русские люди...»? При чем здесь русские? Я вот работаю, а зарплату мне не заплатили — это как? Какая разница, русский я или чуваш? Выход из коридора навязываемых тебе стереотипных реакций, «смена поля» нарушает программу манипуляции. По реакции автора сообщений (хотя бы проигранной в мыслях) будет видно, может ли он закончить свою мысль как разумную — или выстраивает манипулятивную конструкцию. Честного политика и собеседника этим не собьёшь, ибо его мысль когерентна, у него образ русского не войдёт в противоречие с образом работника.» — Знаешь, когда-то в детстве я, где-нибудь в Крыму, наверное, посмотрела в кинотеатре фильм (взрослые тогда взяли меня с собой). Какой-то западный, кажется, фильм, и насколько я могу что-то вспомнить, это был «Одиссей». Ничего конкретнее я сказать сейчас не смогу. У Гомера я такого эпизода не нашла. Но именно этот эпизод почему-то врезался в память и всплыл десятилетия спустя.
— Наверное, потому и запомнился...
— Да нет, вряд ли. Гомера я тогда могла знать только понаслышке. Просто сам эпизод произвёл впечатление. Нимфа (видимо, Калипсо, — не знаю), у которой причалил корабль Одиссея, пообещала сделать всех, кто составлял экипаж, абсолютно счастливыми. Часть команды уже «начала делать», и тут оказалось, что она их просто превращает в свиней (которые абсолютно счастливы). Дальше по фильму команда Одиссея попыталась сбежать и долго сбегала от этой нимфы. Вот примерно это, образно говоря, сейчас и пытаются делать с большинством человечества, а особенно — бывших россиян (поскольку реальной России больше нет), квалифицированно внушая ему, большинству, что вот именно теперь-то оно и станет счастливым. Кому не нравятся свиньи — можно «превращать» в «антилоп», «слонов», «волков», «тараканов», — кому что ближе, — суть-то от этого не изменится. Да ещё нам как раз и внушают, что человечество слишком разрослось, что Земля его не прокормит, что ресурсы исчерпаны и пр. (Кстати, почему начинать сокращать численность населения планеты нужно, например, с нас? Лично я считаю, что если уж население обязательно надо сокращать, а они так за это радеют, то начать куда лучше, продуктивнее было бы именно с них, то есть им — с самих себя...) В действительности всё это по большей части — фальсификации и искажения Всё, опять же, сложнее, и экологическая ситуация выглядит не совсем так, как нам постоянно изображают, — по крайней мере, решать эти вопросы можно было бы несколько иначе. Просто, манипулятивным способом управлять таким большим человечеством трудновато. Для полноценного контроля всех потребностей, возможностей и «случайностей», человечество требуется поменьше, особенно в «проблемных» странах. В остальном же — пожалуйста, производите-потребляйте, живите как-нибудь, пока вы в каких-нибудь целях не понадобитесь международной «элите» в качестве евсюковых, или его жертв, или посетителей и сотрудников «Хромой Лошади», «Норд-Оста», нью-йоркских башен-Близнецов, когда башни успеют надоесть и их можно будет снести вместе со всеми, кто там находился, заодно получив «моральное право» ввести войска в Афганистан (для получения субсидий какому-нибудь министерству обороны, например, для полицейской реформы или просто для развлечения). Потерь в подобном случае не будет просто никаких, кроме самогО поголовья (что поправимо), ведь все — одинаковы и абсолютно взаимозаменимы.
— Ты такие перспективы рисуешь, что худо делается... Хотя, прости, я за твоими ужастиками забыл, что ты — наша, что знаешь побольше других. Привычка. Продолжай.
— Ты ещё помнишь выдержку об образовании? Если что, я дам тебе просмотреть конспект, — это ещё понадобится. Но с твоего позволения я ещё кое-что добавлю.
— Я и помню, и конспект посмотрю. Разберёмся. Давай дальше.
— Я уже давно говорила (или писала, или просто думала, — я ведь уже сто лет ни с кем не разговаривала...) о таком ныне распространённом явлении, которое я называю «оскотинивание человека». Что сейчас делается! — сплошная психология, сплошное подсознание. Такую сугубо человеческую способность, как мышление, в отношении масс пытаются как можно скорее и надёжнее выбросить на свалку. Знаешь, вспоминается ещё один случай. Я тому свидетельницей не была (поскольку ещё пешком под стол ходила), но слышала, и отголоски доносятся до сих пор, хотя, случай — абсолютно незначительный, не образующий сюжета. Что-то мама отмечала со своими физиками из Физтеха в кафе в Петропавловке. Видимо, была какая-то её личная дата, потому что среди физиков оказалась тётка, младшая папина сестра (а мама, как истинно интеллигентный человек, всегда старалась быть демократичной, — как бы сейчас сказали, толерантной). И вот, эта тётка, видимо, очень комплексующая, до сих пор вспоминает, что интеллигенция оказалась никудышной: салфеточки — не туда, ели не так, — тоже мне... А ведь компания, в которой она оказалась тогда, была частью элиты настоящей, интеллектуальной, всем элитам элиты. Эта тётка (не только на том примере) в голову взять не могла и не может, что подлинная интеллигентность — не в салфеточках, а в голове (в классическом российском варианте — ещё и в душе, но сейчас речь не о том). Она, эта тётка, просто НЕ ПОНИМАЕТ, о чём речь... (Тем более что с салфеточками, уж конечно, страшного ничего там не было.) Или — она же маминого отца вспоминает, дедушку. «Я его помню: очень интересный он был», — я оживаю: «Интересный? Ой, расскажи что-нибудь!..» — она: «Ну, красивый такой, видный...» Но надо сказать и то, что у папы была ещё одна сестра, постарше и из той же деревни. Та для меня всю жизнь была примером настоящего интеллигента из народа (особенно если с ней приходилось иметь дело с одной, без определённого круга, без «социальной солидарности»), и речь с моей стороны шла, конечно, тоже не о салфеточках. Сейчас и она стала меняться, и давно. Так вот, сейчас всё общество пытаются сделать подобным той младшей тётке. Человеческую сущность пытаются сместить от мыслительной деятельности (сугубо человеческой способности) к чисто внешним её проявлениям, к тампаксам. А тампаксы — дело хорошее, но преходящее. В то время как интеллектуальную, духовную сущность общества можно потерять безвозвратно, особенно когда кому-то это надо и к тому прилагаются серьёзные квалифицированные усилия. Как ни печально, с этими же физиками сейчас что-то происходит в том направлении, о котором я всё время говорю. То же я в какой-то мере потихоньку наблюдала в Музее Музеев. Да что говорить! — везде... Сейчас начинаешь со всех сторон слышать, что тело — гораздо старше разума, а значит, больше слушать надо его, — это, мол, вернее. Сейчас почти ничего стараются не говорить прямо, а «дают понять» «через подкорку» (но как только рассудок сообразит, чтО у него там вытворяет подкорка — он может повести себя как угодно). Вместо реальности сплошняком идут постановочные спектакли, искажающие эту реальность до неузнаваемости, и людей призывают в них верить, реагировать на них, будто бы это — реальность и есть, всё больше и больше уродуя собственное восприятие. А жизнь теперь состоит из взаимного пожирания (как-то оно лучше было, когда «не состояла»). И вообще, чем скорее человек вернётся к животному естеству, тем скорее он будет счастлив (как говорится, смотри выше). Самое главное, что если вдруг человека не станет (такого, каким его создала природа, эволюция), но жизнь как таковая при этом сохранится, то эволюционный процесс, скорее всего, попытается немедленно снова возродить человека или нечто принципиально ему подобное, — на Земле или где-нибудь ещё. Наверняка, нечто такое существует и сегодня: вселенная большая, а мы относительно таких «мелочей» ничегошеньки о ней не знаем. Похоже, что материи просто очень «хочется» осознавать себя и свободно творить, и добивается она этого, создавая из себя самой — например, нас, которые бы всё это умели. Человек ли и подобные ему существа — цель эволюции, или они — только переходное звено, и здесь готовятся ещё сюрпризы — мы не узнаем никогда, не доживём. Но если человека не станет (вымрет, деградирует), вселенная наверняка постарается его воссоздать, так или иначе, там или сям, причём, человека не отдельно взятого, а многочисленной разнообразной массой, как и «любит» поступать эволюция. Поэтому нам можно было бы делать не бессмысленные усилия по уничтожению кого попало, якобы что-то там совершенствуя, а сознательно выбрать созидательный путь, исходя из того, что нам реально известно о жизненных закономерностях. Но только на этом пути всегда кто-нибудь обязательно будет гадить и пакостить (что, наверное, сейчас и имеем), поскольку того требует что-то вроде вселенской духовной энтропии. (А кстати, гадить и пакостить, как водится, будет и «кто-нибудь», включая мыслителей и творцов этого нового мироустройства на созидательном, как обычно, пути...) В общем, здесь было бы, о чём поговорить и что порешать, но говорить сейчас именно об этом не принято, и именно потому, что это противоречит совершенно конкретным финансово-экономическим интересам совершенно определённой группы лиц, от которой сейчас зависит почти всё. Вот наши умницы и выполняют послушно их волю, считая, что всё придумали сами, и направляются, куда их ведут: к тому, чтобы стать очень удобными рабами, самовоспроизводящимися, самомодернизирующимися и даже довольными «жизнью» и смертью.
— Ну а ты могла бы что-нибудь предложить?
— Я никогда всерьёз не бралась решать такие вещи одна. Я не могу сказать тебе, каким должен быть идеальный и справедливый мир. Тем более, я считаю, что это невозможно, поскольку во всём действуют законы энтропии или чего-то подобного, что я уже упоминала. Но я бы всё предала огласке. Люди могут испытывать на себе результаты действия пропаганды и подобных вещей, данных им через осознание. Это — более или менее нормально. Но если эти же люди будут свободны от воздействий ПОМИМО сознания, то у них можно просто спросить, хотят ли они реализации тех или иных предложений, и вообще, чего они хотят. Всё ведь на самом деле уже придумано. Для остального, для той самой энтропии существует уголовный кодекс (и возможность коллективно мыслить, по крайней мере, обсуждать). Конечно, гладкого обсуждения... Что ты там себе хихикаешь?
— Да нет, ничего. Продолжай.
— Конечно, гладкого обсуждения не получится по причине всё той же энтропии: кому-нибудь всегда понадобится оказаться умнее других и пойти в обход всех остальных. И всё же, человечество всерьёз до сих пор не попыталось направиться по тому пути, который уже придуман или, в крайнем случае, может рассматриваться. Я бы предпочла огласку, но всегда найдётся кто-нибудь, кому она мешает... Ой, кстати, я сейчас схожу за Ваджрой...
— Сиди, Алёна, — сейчас кто-нибудь принесёт.
Действительно, в дверь постучали, Дима подошёл, и кто-то ему протянул Ваджру. Алёна только головой покачала:
— Н-да... Ну, так вот, у меня здесь отмечено. Вот: «Один из ведущих идеологов США С. Хантингтон в своей книге «Американская политика» заявил, что власть, для того чтобы быть эффективной, должна оставаться невидимой: «Архитекторы власти в США должны создать силу, которую можно будет ощутить, но не увидеть. Власть остаётся сильной, если она остаётся в потёмках; при солнечном свете она начинает испаряться». — Это, конечно, всё о том же. Но только манипуляция, особенно сейчас, гораздо сложнее. Я не случайно говорила об оскотинивании человека. Сейчас воздействуют не на рассудок, идеи, как в пропаганде как таковой, а сразу на эмоции, побуждения. (Действительно, кто станет у животных воздействовать на рассудок! Зачем?..) Что ты сможешь своим рассудком, когда тебе квалифицированно внушена эмоция, да ты ещё об этом и не знаешь! — эмоции любви или ненависти, покоя или беспокойства, интереса или апатии... Всё остальное, все рассудочные построения ты уже сам, оказывается, подгонишь под эту внушённую тебе эмоцию (побуждение), и даже знать об этом не будешь!.. Слушай, мне нужен мой конспект Расторгуева.
— Как выглядит, где лежит?
— Первая тетрадь, «Информационная война», — она подписана. Лежит на дне сумки, как раз с той стороны, где открывается молния.
— Жди, сейчас будет.
Тетрадь принесли, Дмитрий отдал её Алёне.
— Он молодец, он много чего потрясающего пишет, но я хотела вот что найти... Вот, страница его книги — 219: «Если человеку скрытно была заложена даже не программа поведения, а только цель, то мозг <этого человека> по заданной <ему> цели приводит к упорядочиванию и даже генерации физиологических реакций организма, к включению их в общий сценарий поведения, направленный на достижение цели. <...> Входные данные способны программировать не на уровне поведенческих программ, а на уровне целевых установок». И дальше, на с. 303 есть заголовок: «Убийство целей как задача системы безопасности». Помнишь, я рассказывала Анатолию, как мне во второй Москве, в Подмосковье, внезапно стало вдруг холодно, когда какую-то ерунду рассказывал Алексей, и начиналась бодяга с шалями? Так вот, у Расторгуева тут есть конкретный пример по поводу того, как «мозг по заданной цели приводит даже к генерации физиологических реакций организма», когда человек вдруг начинает испытывать именно внезапное чувство холода и хочет что-то на себя накинуть. Наверное, там, где я была, компания под более квалифицированным руководством чем-то таким как раз и занималась, только они не сумели задать мне цель (возможно, действовали из подкинутых неверных установок), и в результате просто взбесили меня фактом преследования с этими шалями... Заметь, мне это всё было даром не надо, я ни их не искала, ни эту литературу, — это они меня нашли и задолбали до такой степени... В общем, ты задавал оригинальный вопрос «Что делать?» — а я отвечала, что я — за широкую огласку всего этого, но только в свободном, а не в запрограммированном неизвестно на что сознании. Что же делать «здесь и теперь» среди того, что мы имеем реально, я не очень знаю. Сама пытаюсь выкарабкиваться всей доступной мне информацией, и всё жду чего-то от вас... Но широкая огласка — это в любом случае ближе всего к тому, что здесь нужно: если ВСЕ будут знать о факте манипуляции, то осуществлять её в любом случае будет гораздо труднее.
— Н-ну, что ж... Сойдёт.
— Что? Не поняла...
— Всё хорошо. Продолжай, пожалуйста.
— Да, в общем-то, всё уже. Я выговорилась. А в тетрадях у меня много всего. Всё никак не выберусь содержание написать для каждой, чтобы самой время не тратить на поиски... Теперь — о себе, любимой. Давай, ещё раз покажу тебе конспект про школу.
— Алёна, обязательно. Только знаешь, до восьми ещё относительно далеко, а я бы съел уже какой-нибудь большой бутерброд. С каким-нибудь чаем. Ты как?
— Я — за.
— Ну вот, я принесу. И между делом, Лёшку в «конференц-зале» проведаю. Другого Лёшку, — ты с ним ещё не знакома. Кстати, давай-ка, обе твои рукописные тетради конспектов. Я заодно похвастаюсь, с чем ты тут у нас ходишь...
Дмитрия не было минут пятнадцать. Алёна стала задумываться о том, что он в основном внимательно её слушает, но всё же сам в разговор почти ничего не вносит. «Это — ладно, — подумала она, — Даёт мне говорить на прослушку, на запись. Интересно только, зачем им это надо? — не для развлечения же, не для коллекции же моих высказываний... Что-то они там собираются обрабатывать и шифровать... Интересно, зачем, кому?.. Любопытно только, что помимо записи этих разговоров, в сознание они, похоже, и правда, не лезут... Я ещё ни разу не засекала в своей голове чужих идей, комментариев и новостей... Сказал же он мне, что меня здесь никто не слышит, не слушает (кроме каких-то откровенных микрофонов во время разговоров с ними же), и в целом я могу расслабиться... Похоже, что это — правда... Но всё равно — ничего не понятно... Могут, конечно, в любом случае надуть, но зачем?..»
Потом Дмитрий, наконец, пришёл, и ещё минут пять-семь они уплетали по бутерброду. Затем Алёна сказала:
— Ну, давай конспект. А то самого важного разговора ещё и не начиналось.
— А тебе, я смотрю, не очень хочется этого разговора... Всё откладываешь...
— Ничего, втянусь. Ты просмотрел ещё раз Кара-Мурзу, то, что я показала?
— Да, конечно.
— Ну так вот. Я ещё раз скажу, что в ходе повседневной жизни на Западе (больше всего в Германии, а не в Америке, скажем, и не где-то ещё) со школой я не сталкивалась, да и ни в чём никаких особых кошмаров не видела. Но видела результат чего-то такого, о чём пишет Кара-Мурза. Я тогда не однажды говорила (хотя, не все, даже наши, там пожившие, меня поймут), что воздух там — пустой, одни атомы и молекулы, ничего живого, и нечем дышать. (С другой стороны, какая-нибудь Италия — внешне (поверхностно) сразу производила другое впечатление...) Я тогда не думала, что после двухтысячного года в эту сторону всё поползёт и здесь... Впрочем, я ухожу от темы, а сейчас этого не нужно. Я говорю именно о том, что Кара-Мурза называет неспособностью современного западного массового выпускника мыслить в ключе «университетской» школы, воспитывавшей личность. Не было того, что «передаёт отличительную особенность античной мысли — «способности обращать всякую проблему в принципиальную», то есть стремиться к упорядочению мозаики опыта». Кому-то это было безразлично, а для меня — очень чувствовалось. Возникало то самое ощущение — «не с кем поговорить». И это не когда-либо, а после живого и разнообразнейшего опыта общения в России... (Муж, кстати, как раз представлял собой некоторое приятное исключение, но это — отдельная тема, и он такой, к тому же, был там почти один.) А вот теперь мне почти открыто предлагают «захотеть и умереть» по той причине, что я здесь уже себя не найду, и мир теперь начал меняться в уродливую и убогую сторону в угоду чужому капиталу!..
— Нет, Алёна, насколько будет в наших силах, ни захотеть, ни умереть мы тебе не дадим, особенно теперь. Как обещал, через неделю я тебе это объясню. А сейчас ты говори, пожалуйста, о персональной манипуляции — о чём и хотела...
— Но я к тому и веду. В общем, кроме таких последствий, никаких других ужасов на Западе я не видела, а сама я, вроде, училась в школе САмой что ни на есть советской. Но вот, маленький отрывок из уже прочитанного, который в данном смысле, в разговоре обо мне самой, является ключевым:
«С точки зрения <капиталистической> методики пpеподавания, в школе <для толпы> господствует «педагогика лени и вседозволенности», а в школе для элиты — педагогика напряжённых умственных и духовных усилий. Опpосы учителей и администpатоpов школьной системы показали, что, по их мнению, главная задача школы <для толпы> — «занять» подpостков наиболее экономным и «пpиятным для учеников» обpазом. <...> Социологи даже делают вывод: используемый здесь «активный метод» обучения поощpяет беспоpядок, кpик, бесконтpольное выpажение учениками эмоций и «интеpеса» — пpививает подpосткам такой стеpеотип поведения, котоpый делает совеpшенно невозможной их адаптацию (если бы кто-то из них попытался) к системе школы <для элиты>, уже пpиучившей их свеpстников к жесткой дисциплине и концентpации внимания». —
Понимаешь, это, как оно ни странно для 1970-х гг. в Советском Созе, уже тогда было основной методикой, с помощью которой какие-то силы, вероятно, западные (или ими наученные в ожидании перестройки), пытались уничтожать и фальсифицировать личность. Это узнаваемо до зубной боли. Я сейчас не возьмусь расписывать всё, что было с раннего детства, тем более, что помню его, естественно, лишь эпизодически и больше знаю со слов родителей, которые сами были не в курсе подоплёки происходившего. Как я рассказывала Толе, я не помню даже момента, когда у меня в определённый период переменилось отношение к малышам, — что уж ещё говорить. Вообще, Полковнику я писала кое-что о раннем детстве. Я, если хочешь, могу сейчас пунктуально нарассказывать, откуда у меня позже взялось убеждение, что под нехорошим контролем в том академическом микрорайоне я находилась с рождения. Я даже помню, как в Доме Учёных, до школы, на меня был наложен комплекс, что я якобы не умею рисовать (преподавательница сама вряд ли знала так уж досконально, что к чему, — я не случайно говорю всё время именно о вторжениях в сознание), — только я обычно никому этого не рассказываю, чтобы не усугублять порочное знание и не создавать прецедентов. Несмотря на мою видимую откровенность, внутренний цензор у меня полностью не отключается. Хотя, наверное, не так это теперь и важно... Смотри сам, рассказывать или нет... Для заведомого скептика-то это уж точно покажется незначительным, и спорить на эту тему с людьми, не настроенными очень глубоко всё воспринимать, я не возьмусь... В общем, решай: с самого раннего детства всё рассказывать, или со школы, с более определённых времён?
— Алёна, решай сама. Если о чём-то говорить не хочешь, и это — не в ущерб общей картине, то и не надо. Знать смысл — хотелось бы, и это важно. Однако с другой стороны, нам он и так уже ясен. То, что ты начала говорить о школе — интересно, хотя, прости, я — в курсе твоих писем твоему Полковнику. Но тебе теперь назвать ещё раз всё основное — было бы неплохо. (Да и тебе самой неплохо выговориться вот сейчас.) Но в эти оставшиеся перед работой дни, пусть разговор складывается так, как лучше тебе самой. Я просто очень не хочу, чтобы именно у тебя остались существенные недоговорённости. Информация (кстати, далеко не вся) будет зашифрована, и потом уже станет проблематично что-то менять. Шифровальщиков-то найдём, но появятся другие причины, по которым и нежелательно будет уже менять хоть что-то... В общем, смотри сама. Но то, что с твоей точки зрения выглядит главным — расскажи.
— Ладно. Короче, в письмах Полковнику эту технологию разрушения личности я, помнится, называла «потакание порокам». Пороки имеются в виду любые, до самых невинных. Подожди-ка, подожди-ка... Есть ли у меня это в конспекте? — я ведь читала тебе не всё... Дай-ка.
— Извини, я взял в руки тетрадь просто так.
— Ничего. Сейчас... Вот. «...«Занять» подростков наиболее экономным и «приятным для учеников» образом. Потому что «они не такие, как другие»...» — я сегодня уже произносила эти же или почти эти слова. «Я не как все»... — не оттуда ли это, не из школьных ли времён? Понимаешь, в той элитарной английской школе в академическом микрорайоне практически все дети действительно были «не как другие», так что внушить нечто подобное оказывалось особенно легко. (Я не думаю, что учителя уже тогда были посвящены во что-либо так конкретно, — это как с рисованием.) В общем, в моём, по крайней мере, случае (но позже я покажу, что не только в моём), и вовсе не только в школе, многое делалось наоборот. Те хорошие моменты, где ребёнок мог действительно чем-то отличаться в лучшую сторону, гасились (как с рисованием или с тем, что я сама неожиданно начала сочинять стихи в три-четыре года, потом это вдруг «куда-то делось», и, с некоторыми исключениями во всяком сочинительстве (натуру-то, особенно отцовскую, никуда не денешь!), так и дремало до подросткового возраста, когда уже невозможно стало что-либо удержать), — в общем, хорошие моменты гасились, а всякая дрянь типа опозданий поощрялась и взводилась в ранг особенности, индивидуальности, — по крайней мере, каким-то удивительным образом за это, по сути, никогда ничего не было, так что все свои отрицательные стороны можно было спокойно усиливать, как угодно. В позднешкольные времена это проявилось особенно ярко, до степени «чудес», и не только в школе как таковой. Но я сейчас это ещё расскажу. Короче, это отнюдь не было отличительной особенность всей школы, как раз очень сильной, но и касалось оно не только меня. Слушай, Дима, я устала.
— Это-то понятно... Но ты лучше не ходи сейчас никуда, посиди здесь, сосредоточься, а я тебя пока дёргать не буду.
Дима, посмотревший на неё, было, очень внимательно, подавил свой взгляд и как бы отвлечённо занялся чем-то другим, каким-то журналом. А ей очень захотелось встать и долго смотреть в окно, только никакого окна здесь никогда не было... Увидев её растерянность, он начал задавать вопросы.
— У вас в школе было два параллельных класса, или три?..
— Ну что ты спрашиваешь, — ты же, небось, всех по именам знаешь. Два, конечно.
— Ты бы ошибалась, если бы это не был ВАШ выпуск. Почему — опять скажу чуть позже. Но надо же тебя как-то разговорить!.. Чтобы заставить, наконец, говорить о главном...
— А я всё понять не могу, вам это действительно зачем-то надо, или ты со мной в кошки-мышки играешь?
— В кошки-мышки. Расскажи, у вас же были дети и внуки известных хотя бы на тот момент людей?
— Ну, не в Москве об этом спрашивать. Я могу не всё знать, я специально этим не занималась. Но у нас было как минимум трое внуков академиков (один из них тогда был действовавшим генеральным директором института, где работала мама), одна дочка достаточно известного тогда писателя, ещё кто-то там. Мой папа-гаишник был для них просто пролетарием (хотя, на большее он и не претендовал), а высокая должность только раздражала (типа, затесался тут)... Хотя, хотела бы я посмотреть, как при всей моей любви к ним, все эти супер-интеллигенты, включая Барбисовина из Музея Музеев (который, оказывается, презирал отца, никогда его не зная), — как бы все они на его месте пасли бы всех этих гаишников, которые сами были, в целом, из деревни, и добивались бы низкой аварийности... А вот отец моей подруги (той самой) был генеральным директором крупного объединения и успел даже стать генеральным конструктором СССР в одной специальной области. С давних (для меня) времён лично знал Устинова, получал поздравительные открытки от Брежнева, имел, кроме Ленинграда, служебную квартиру в Москве и ездил на «Красной Стреле» за государственный счёт. Но это даже темой разговоров у нас с ней особенно не было, — так, походя. Кстати, оба из её родителей были из семей репрессированных, приехали в результате из дальней провинции, из ссылки, поступили в институты, познакомились, всего добились сами и оставались (до конца, после всех перестроек) очень верными советскому строю, который «насовершал когда-то ошибок, а потом опомнился и исправился, но его предали». А неподалёку (в соседнем подъезде той подруги) жил Анатолий Карпов, как раз в то время, когда был чемпионом мира по шахматам. Я ещё не всё знала, не всему придавала значение.
— А район был академическим...
— Да. Но мне это с точки зрения особенности и престижа было не интересно, я даже в голову не брала. Вот такой район, вот такая школа, рутина-бытовуха и всё само собой разумеется... В Ленинграде таких школ было — пруд пруди. Да и районов столько же.
— Родители вас неплохо воспитывали.
— Наверное. Но ты понимаешь, так рассказывать — получается, что в чём-то виновата школа. А происходило всё это, о чём я говорю — не только там и гораздо раньше. Не школа это как таковая, а холодная война вообще. А уж в этом-то микрорайоне нас, «будущее России», пасли и «обезвреживали», конечно, с самого начала. (Хотя, «конкретные причины» называть могли совсем другие.) Но обезвреживали — аккуратно, так, что никто этого толком не видел тогда, да и не все видят сейчас. Воспринималось всё, как «естественная жизнь», даже когда вереницей начались нехорошие смерти и гибели пожилых физиков, создавших научную базу страны. Уж не говорю о том, что даже в нашем выпуске давно не все живы, хотя, тут поуходили — вроде, не выдающиеся, не обещавшие ими стать, а так, «тренажёры» псевдоестественного уничтожения «для начала». Сейчас это всё ещё может производить впечатление «совершенствования мира» (для дурачков, коими уж здесь-то, казалось, никто быть не должен был)... Вы-то тут хоть это знаете, или для вас всё тоже происходит «естественным образом»?.. Или сами же того и хотите, — «совершенствования и переделки страны»?
— Тихо, тихо, тихо!.. Раздухарилась, единственный борец с несправедливостью... Сказали тебе, жди неделю, значит, жди.
— А здесь что, тоже чего-нибудь говорить нельзя?
— Здесь — можно...
— ...тем более что просто так ты отсюда всё равно не выйдешь...
— ...да! Но ни пугать тебя, ни ругаться с тобой здесь никто не хочет. Жди. А чтобы понять, что здесь творится, тебе бы самой надо бы окончить школу ФСБ...
— ...куда тебя никто не возьмёт...
— ...совершенно верно (а то я насладился бы этим представлением), — да потом поработать бы ещё лет десять. МЫ — всё понимаем, как есть. Но мы — не одни. И бОльшая часть времени уходит на то, чтобы ЗДЕСЬ отмахиваться. Ладно. Давай тогда конкретнее. Ты говоришь: «нас пасли с детства, с рождения, с самого начала». Какие-нибудь соображения именно об этом у тебя есть?
— Только общие. Но лично мне и их достаточно, учитывая, что в результате происходило со мной и с другими вокруг.
— Сначала давай общие соображения.
— Ты заговорил, как на допросе.
— Ой, мама моя, начинается... Скажи мне, пожалуйста (очень тебя прошу), КАК мне следует с тобой разговаривать, — честное слово, я так и буду...
— Ладно, никак. Общие, так общие. Я помню, что
ещё в первой половине семидесятых связи с Америкой и Израилем здесь были налажены. Тогда ещё это воспринималось, как нечто одиозное, но ничего вражеского во всём этом, конечно, не чувствовалось, — никакой там угрозы. Академический микрорайон наш, как мне сказали позднее, весело назывался «квартал еврейской бедноты». Вообще, всё было весело. Я знала, что кто-то там с кем-то переписывался (а ваши это тоже знали), изредка кто-то куда-то эмигрировал (родители с детьми, учителя), но люди-то все были милые, так что остальные, не имевшие ко всему этому отношения, бывало, ахнут разок, и забудут. Телевизору я верила, но подтверждений о телевизионных ужасах из жизни не поступало, а родители при мне «лишних» разговоров особенно не вели. Ни о каких социалистических кошмарах тогда тоже ничего не доносилось, ни о каких сталинских репрессиях разговоров не было и в помине (хотя, мама росла в тихой антисталинской диссидентской семье, а папа оставался искренне на коммунистических позициях, — но именно это никаким камнем преткновения ни у кого не становилось). С еврейскими детьми я тоже дружила совершенно спокойно, и никаких (вообще никаких) проблем с этой стороны я не помню совсем, — я даже очень долго не думала, не была в курсе, что они, оказывается, какие-то там евреи... Позднее я узнала, что родители мои, оказывается, были (как тогда водилось) каждый по-своему бытовыми «антисемитами» на уровне кухонного трёпа, но меня маленькую они этим не грузили совсем. В общем, жизнь казалась спокойной, нормальной, а частные неприятности никак не ассоциировались с общими. Из тех дошкольных и раннешкольных времён в социально-политическом, как бы я сейчас выразилась, плане я помню только горки, белый пушистый снег, милых, добрых людей и хорошее настроение. Но бывали и вещи (это уже из «зыбких»), никак тогда ещё в детском сознании не вязавшиеся с политической картиной. Чтобы это представить себе, нужно было пройти, например, через историю с фальшивыми снами, описанную, в частности, Полковнику. Знаешь? Он тебе показывал?
— Знаю, — последнюю историю ты «оформила» тогда громко...
— Ну, да.
— Только если я знаю, чтО ты ему писала, это совсем не обязательно значит, что он мне что-то показывал. Между «ты писала Полковнику» и «я в курсе» расстояние иногда очень велико...
— Кхм-кхм... Да?.. Ну ладно... Так вот, если это помнить, то любопытными оказываются, например, две-три истории с дошкольными снами, которые я ему тоже, было дело, описывала.
— Ты жила тогда в том же районе, в том же доме?
— Да, я всегда там жила, кроме, разве, каникул и тех периодов, когда, уже взрослая, куда-нибудь уезжала.
— Дошкольные сны тебе снились там же?
— Естественно. Мама рано отдала меня заниматься фигурным катанием, — там же, недалеко, в спорткомплексе. А ещё — я, видимо, насмотрелась телевизора. Вот, кстати, любопытная вещь. Я относительно недавно, уже после смерти мамы, но ещё при жизни отца, вдруг поняла, что я, оказывается, родилась всего лишь через двадцать лет после Великой Отечественной войны... Обалдеть. Я никогда раньше в жизни об этом не думала. Как, наверное, любая молодёжь, я тоже тогда всё, что было до меня, воспринимала как то, что было до нашей эры. Для них, теперешних, социализм был так же «давно и неправда». А я в своё время знала, что мои родители оба помнят войну, но для меня в глубине души это было так далеко, что я даже не задумывалась, когда именно. Вот и в то позднедошкольное время, о котором я рассказываю, я тоже, видимо, что-то посмотрела днём по телевизору, какие-нибудь ужасы о массовом уничтожении людей во время войны, и это могло глубоко засесть в подкорку. Однажды мне приснился сон. Во сне всё начиналось с занятий фигурным катанием в спорткомплексе. Потом мы с какими-то девочками куда-то убегали от каких-то разбойников, и заканчивалось всё какими-то ужастиками в газовой камере. Тогда я ещё, конечно, не умела ни обращаться с такими снами, ни даже думать о них. Но вот, засыпаю я следующей ночью и... мне снится этот же сон. Этот же... только все персонажи, включая меня — в других спортивных костюмах, других цветов. Плохо помню, два раза повторялось такое, или три. Если сон был фальшивым, то его «сценарий» был задан жёстко, а «мелочи» обработаны сознанием свободно, как и положено во сне, — вот и получилась другая одежда у тех же персонажей... На следующую ночь я уже боялась засыпать и рассказала про сон маме. Всерьёз она меня не восприняла, но сны тогда сразу же прекратились. А из этого рассказа, из того, что запомнилось, может следовать и моя тогдашняя нелюбовь к спорткомплексу, и то, что квалифицированное подавление шло вовсю негласно уже в те годы.
— Вот видишь, как хорошо, что ты это сейчас рассказала! — вряд ли это само по себе могло бы быть официальной экспертизой на правдивость истории, но ты, спустя год и более, точно так же передала суть, а это уже свидетельствует как минимум об очень хорошей памяти, что уже много. Вообще, всё это довольно серьёзно. Продолжай.
— Ну вот, и ещё одна история, хотя и без ТАКОЙ подоплёки. Как-то, уже в начальной школе, дома мы должны были написать сочинение. Что-то вроде того: «Если бы у меня была волшебная палочка». А я, как на грех, посмотрела по телевизору документальный фильм о Мао, о «культурной революции». Возможно, это был нормальный фильм, просто не для меня. Но шёл он тоже днём. И у меня тогда волосы на голове зашевелились. Сейчас я, кстати, как раз недавно читала об этом что-то современное в библиотеке, интересовалась Китаем...
— Ёлки! — и Китай...
— Да ну тебя. Так вот, сейчас это тоже впечатление произвело, а тогда... Да ещё — актуальные в то время кадры, да ещё по телевизору!..
— Тоже сон снился?
— Нет, в тот раз ничего такого не было. Просто ты можешь себе представить, что маоистов я той палочкой с лица Земли стёрла, написав их, правда, через «у». А учительница тогда поставила мне «четыре» и во время обсуждения ничего про моё сочинение в классе не сказала... Наверное, решила, что родители помогли написать мне идеологизированную работу, — а они там были вообще ни при чём...
— Ну, это-то — жертва режима не самая существенная...
— Тебе всё смешно.
— Не всё.
— А вот потом, после школы, один парень за такой жар душевный здорово пострадал и, похоже, в живых его уже нет... (Хотя, напрямую такая связь заявлена, конечно, не была.) В нашей школе в старших классах оказаться советским патриотом было вообще не лучшей идеей... Я-то, кстати, тогда уже вовсю «диссидентствовала» вместе со всеми... Впрочем, история эта — на другую тему, — чуть позже расскажу. Ну а первая девочка в классе погибла, когда нам было по десять лет. Сама по себе та история может выглядеть абсолютной случайностью, хотя, в плане естественности там тоже есть настораживающие моменты. Однако в ряду всех остальных, особенно поздних, она начинает выглядеть уж совсем иначе... Слушай, а если ты всё знаешь, зачем ты вообще тогда всё это слушаешь, все эти ужастики?..
— Во-первых, я могу знать не всё, я ведь не всеведающий. Во-вторых, могу знать не в том ключе, ведь, сколько вокруг тебя фальсификаций — ты сама знаешь. В-третьих, просто интересно сверить то, что знаю я, и то, что ты сама рассказываешь сейчас. Времени с последних твоих рассказов, устных и письменных, прошло немало, а существенных разночтений пока нет, и это важно. Давай дальше.
— Просто понимаешь, так сейчас получается: что я ни расскажи — всё это будет исключительно какой-то кошмар. Про меня уже что только ни говорили, — теперь вот ещё и сделают из меня ходячий ужас. Ну а что мне ещё остаётся-то? Светлые моменты вспоминать? (Вообще, и такое бывает...) Но что теперь остаётся, когда столько людей уничтожено, а я вижу все эти закономерности, когда собственную жизнь изуродовали, а из тебя самой сделали невесть что, когда страну буквально забирают из-под ног, а все — обезумели и аплодируют, когда никто ничего не хочет понимать и слепой ведёт слепого в яму, — о чём ещё говорить-то? Разве такой я была, разве этого хотела, разве этого ждала? Ведь когда меня несколько раз в жизни оставляли вдруг в покое, разве я не добивалась взлётов, пока «они» не просыпались, чтобы опомниться и снова топить? Что теперь делать, когда хреновы «инженеры душ» заготовили сценарий твоей жизни ещё до твоего появления на свет, а ты его вычислила, ты уже сделала всё, чтобы этот сценарий сломать, но им хочется раздавить не только тебя, но, успокоив всех, доделать затем своё дело, запланированное сотню и более лет назад, — что лично мне теперь делать-то?!! И ведь ещё задолго до второй Москвы, до ФСБ, я поняла, что если «они» хотят оболгать и представить всё в ложном свете, то никак этого не изменишь: не одно выворотят наружу, так другое, не на одно тебя спровоцируют, так на другое, не одно тебе внушат, на изнанку тебя вывернув и неизвестно что из тебя реально состряпав, так другое, не одних «свидетелей» найдут и сфабрикуют, так других, и бесполезно что-то доказывать и оправдываться, и восстанавливать картину, — бесполезно!.. Так что теперь-то?!!
— Теперь — успокойся. У тебя впереди — очень большое дело. А сейчас — просто рассказывай, что собиралась. Восемь часов — уже скоро. Про ту девочку рассказать ты ещё успеешь. Может, ещё что-нибудь. Там уже два человека пришли, — я тебе не стал мешать и к ним не вышел. К восьми вечера соберутся все. Потом поужинаем (Вера с Тасей не подведут). Завтра впереди — большой день, и ты всё успеешь, а если нет — что-нибудь сообразим. Потом до конца недели ты будешь отдыхать. Всё будет, как надо. Должно быть. Рассказывай.
— Ох... Действительно, не охота. Но придётся. Наверное, и правда, нужно. Только истории с Ленкой Одинцовой предшествовали ещё минимум две, вроде бы с ней не связанные. Одну из них я описывала даже в заявлении в ФСБ, о другой не говорила никогда, но наша учительница начальных классов, Ольга Николаевна, могла бы рассказать об этом подробнее, если бы у неё моральных сил хватило, и ей не слишком тяжело было бы прошлое ворошить... Хронологически первой, насколько я всё это помню, была моя история, когда мне было восемь лет. Рассказывать, или и так всё ясно?..
— Давай-давай, хотя бы в основном.
— Летом я случайно, как я думаю, стала вдруг чемпионкой октябрятских отрядов по шахматам. Правда, затем первый же пионер, на несколько лет меня старше, сразу поставил мне мат... Но чемпионкой среди октябрят осталась я, и в стенгазете к родительскому дню висела моя фотография в белом платьице с белыми бантами над шахматной доской, и под ней стихотворение:
Страшись, Габриндашвили Нонна:
Растёт она, замена чемпионам! —
мама помнила это до последнего времени... Потом мы поехали в Крым, у меня там было много друзей, девочек и мальчиков, — сохранились фотографии. Не исключено, что настроение у меня стало слишком хорошим, и кому-нибудь захотелось его капитально подпортить. Это просто слишком уж укладывается в логику всей этой дурацкой жизни...
— Рассказывай спокойно: я не буду с тобой спорить, переубеждать. Здесь действительно всё очень непросто, а частенько и неспроста.
— Ну, так вот. Когда мы ехали обратно, какой-то дядька в поезде на станции раздавил мне тамбурной дверью ногти правой руки и смылся. Неохота рассказывать: всё это уже было описано сто раз. Многие пытались того дядьку найти, и никто не смог. В Ленинграде в травм-пункте какая-то невменяемая врачиха начала мне зачем-то срезАть ногти по живому, — я так орала, что она отстала, но пообещала продолжить в следующий раз. Маме, которую выгнали в коридор, приносили туда нашатырь. В следующий раз со мной пошёл папа в форме, и больше руку не трогали. Но с шиной я ходила недели три, — в школе занималась только устно. Сейчас я уже слышала истории о чём-нибудь подобном, но если это не враньё, то оно вовсе не говорит о том, что «у меня было всё нормально», а скорее, о том, что измывательства и психологическое подавление через физическую боль касались не только меня. Время-то было совсем другое, без стрессов, да и окружение — совсем не приученное к кошмарам... Главное, что потом и в школе бывало такое: я стою с подвязанной рукой у гардероба, никого не трогаю. Вдруг какая-то уверенная в себе утончённая мамаша начинает с чувством собственного достоинства увещевать какое-нибудь своё чадо, мол, посмотри на эту девочку: она бегала-прыгала и сама себя наказала. Посмотри, запомни и не будь, как эта девочка. Что-то мне, видимо, уже тогда подсказывало, что не надо с этой мамашей вступать ни в какой контакт, ничего ей говорить. Но противно было ужасно. Я понимаю, что когда я всё это рассказываю...
— Алёна, не надо ничего понимать. Здесь (вот здесь) — у тебя благодарные слушатели. Рассказывай, и всё.
— Ну, в общем, впечатления лета тогда оказались перебитыми, конечно, полностью. Исполнилось мне тогда восемь лет, — это был второй класс. Дальше был третий. Тогда начальная школа состояла из трёх первых классов, дальше, как положено, шёл четвёртый (первый «взрослый» класс), и учились мы те же десять лет, но всё ещё называлось своими именами. В последней четверти третьего класса нас принимали в пионеры. Меня каким-то образом приняли в первую очередь, но ездили на церемонию мы все по три раза, всем классом. Как-то так получилось, что третью партию принимали в пионеры на «Авроре», — обычно туда возили первых. И в третьей партии как раз и была Ленка Одинцова. (Как будто с ней прощались, устроив такой неожиданный сюрприз в виде «Авроры»)... Я понимаю...
— Расска-азывай!..
— Ну, в общем, я даже запомнила, как мы все ехали. Лена была хорошей девочкой, и не знаю, почему её принимали в третью очередь. Возможно, болела. Ехали мы тогда праздничной толпой. С нами была мама Лены — громкоголосая училка, не из нашей школы, но помогавшая собирать в кучу весь наш шумный выпуск. Это была крепкая женщина, немолодая, но ярко накрашенная, «кровь с молоком». Жизнь из неё, что называется, брызгала во все стороны. Говорили потом, что у неё была ещё старшая дочь девятнадцати лет и новорождённая внучка. А Лена у нас была самой младшей в классе, — к осени ей далеко не исполнилось бы ещё десяти. Маленькая, тоненькая, с косичками и, как тогда часто делалось, с большими бантами. Ужасно симпатичная, бойкая. Я с ней лично не дружила, но так её и запомнила. Примерно в то же время, весной (если я не ошибаюсь), произошла другая история.
— Это был ваш третий класс?
— Да, но я могу что-нибудь перепутать. Во всяком случае, это был не первый класс, но ещё точно начальная школа, когда нас учила Ольга Николаевна. Скорее всего, всё-таки, третий. Как-то раз к концу урока учительница вдруг отвернулась и расплакалась. Кто-то из учителей на перемене сказал: у Ольги Николаевны болит голова. Я тихо удивилась про себя: у взрослых иногда что-нибудь болит, но они от этого не плачут... Однако, в тот день она, кажется, довела уроки полностью. Чуть позднее она как-то сорвалась на мальчишек, плевавшихся из трубочек: «Сейчас из трубочки плюнет, а потом в живого человека выстрелит!» — разнос тогда был устроен большой, и это казалось странным. А вскоре «испорченный телефон» до нас донёс, что у нашей, тогда ещё бездетной Ольги Николаевны погиб племянник: кто-то знакомый в тире развернул на него пневматическое ружьё и выстрелил. Таких происшествий в те времена не случалось, — это теперь никого не удивишь, а тогда такое было чем-то из ряда вон выходящим. Если последовавшая смерть Лены Одинцовой имела сценаристов, то гибель племянника учительницы вполне укладывается в такую схему: никакие человеческие представления и категории здесь в этом случае не действуют (я всегда говорила, что это — вообще не люди), так что Ольгу Николаевну вполне могли «подготовить» полегче перенести смерть своей ученицы. А в пределе, как я (и далеко не только я) уже говорила, должен вымереть и весь народ, — это именно война)...
— Хочешь прерваться?
— Нет-нет, я только морса глотну: закашлялась... Давно дело было... Да и тогда мы всё перенесли, как казалось, совсем не так тяжело: маленькие ещё были...
— Чаю горячего хочешь?
— Нет-нет, морса хватит. Лучше я договорю побыстрее.
— Давай.
— В общем, события эти на первый, ничего не знающий и знать не желающий взгляд, не были связаны между собой, а на самом деле это, скорее всего, начиналась или развивалась атака психотехнологической войны — создание определённого настроения среди обречённого сильным врагом на гибель народа... Хотя, выглядело всё вполне бытово, как, видимо, раньше и как будет выглядеть впредь... Короче, нам тогда в основном исполнилось по десять лет. За несколько дней до первого сентября мы узнали на медосмотре, что летом Лена погибла...
— Подожди!.. Это было, когда вам УЖЕ исполнилось по десять лет, но год был ещё 1976-й?
— Ну, да...
— Блин!.. Я не подумал... М-м-м... Хотя, что тут можно сделать!.. Что бы от меня зависело!..
— Что? Ты о чём?
— Нет-нет, ни о чём. Это — просто жизнь, такая, как есть, — едрит её за ногу!.. У Лёшки, которого ты знаешь, — он на пятнадцать с чем-то лет тебя старше, наш пенсионер, но сейчас всё равно с нами, — у него в 73-м погиб брат. И тоже ничего нельзя сделать, будь это холодная война или просто несчастный случай. Какие-то три года! — но нас не спросили, и это — всё. В 1977-м он будет... Он был бы... Он бы так же переживал, будто всё произошло только что... Но хуже всего то, что в 1975-м в Молдавии умер старший сын Юрия Владимировича... Андропова, в смысле...
— Я знаю...
— Это, конечно, уже учтено, но легче от этого не станет никому... А тебе весной 76-го было бы только девять лет, 75-го — восемь, 74-го — и подавно семь... Десять-одиннадцать-то — возраст тоже не вполне ещё человеческий, а тут бы уж — ... Но от нас не зависело и это... Мы не боги и переделать вселенную всё равно не сможем...
— Дима, ты о чём?!!
— Нет-нет, теперь уже ни о чём. Жди, скоро всё поймёшь. Даже чудеса не зависят от нас и у нас ничего не спрашивают... Так, всё, — это просто от неожиданности. Я — тоже человек. Всё, прости, забудь и рассказывай.
— Но Дима!..
— Всё. Рассказывай, говорю. Просто рассказывай. В конце концов, если бы сейчас совсем ничего не произошло, то тоже так бы оно всё и было, как есть...
— Дима!..
— Всё. Забудь пока. Говори. Говори же!..
— Ну, ладно... В общем, ещё на медосмотре мы узнали, что Лены больше нет. Это случилось не прямо теперь, не накануне, а просто летом, ближе к осени. Ленку родители везли на машине, уложили спать на заднее сидение. Сзади ехал военный грузовик, солдат уснул за рулём. Родители оба живы... Мы тогда были ещё дети, и очень сильного впечатления на нас это известие, вроде как, не произвело. Правда, не знаю, как реагировала близкая её подруга... А моя мама, когда мы ей с какой-то девочкой сказали на улице, помнится, схватилась за сердце, чуть не упала. Она и войну, вроде, помнила, но тоже из детства, — а времена теперь были настолько спокойные и мирные, что казалось — вообще все беды давно уже позади... Никто как-то больше ничего уже и не ждал... В общем, мы, дети, не особенно приняли это близко к сердцу, — рассудок всё отбросил. Тем более что Ленку мы видели не вчера, а прошло целое лето. В детстве — это очень много... В общем, первого сентября мы просто пришли в школу. Все были особенно торжественные, ведь в тот день у нас начиналась «взрослая» жизнь... Был четвёртый класс, — с того дня у нас больше не было начальной школы и все уроки должны были вести разные учителя в разных кабинетах. Мы ждали и новую классную руководительницу.
— В общем, важный день для вас, поворотный...
— Ну, да. День прошёл, и нас собрались везти на кладбище к Ленке. Мы не возражали, — я, по крайней мере, не возражала, и таких было большинство. В конце концов, первое сентября, а Лена должна была быть с нами... Мы, дети, соображали ещё мало, а из взрослых только Ольга Николаевна, учительница начальной школы, помнится, сказала: «Может, не сегодня, — первое сентября же...» — но все остальные решили «за», и мы все поехали. Там — всё как обычно: могила, цветы... И тут привозят Ленкину мать... Это стала дряхлая старуха, седая, с трясущейся головой... Никакая старшая дочка и внучка ничего изменить для неё не смогли. Что-то она там выла, стонала. Помогла повязать пионерский галстук поверх фотографии на кресте. В частности, у неё мелькнуло: «С космонавтами Лена встречалась... Такой рассказ вам везла...» В общем, это не описать, хотя, событийно, вроде, ничего особенного не было... Так мы начали «взрослую» жизнь. Больше на кладбище к Ленке нас не возили, и вообще, о ней как-то забыли. Взрослые тоже не напоминали. Возможно, первое сентября, «начало взрослой жизни», и было чьей-то целью, уже выполненной. На мысль о том, что всё было не просто так, меня, уже взрослую, наталкивало многое. Позднее в автомобилях и на самолётах перебились все, кто «можно» и кто «нельзя», один эпизод нелепее другого: Саманта Смит, два наших одноклассника, один сразу насмерть, второй не сразу, Цой, Лебедь, Евдокимов, Ипатова (академик-физик), Качиньский и несть им числа. Это — те, чья автомобильная или авиа-смерть произошла слишком «вовремя» и «по причине», или вообще кажется странной. Уж усыпить солдата-шофёра за рулём военного грузовика — вообще, говорят, задачка для детского сада... Вероятно, если были «сценаристы» гибели Лены, то они хотели устроить раннюю романтическую «пионерскую смерть» «без особых последствий», — вдруг кому-нибудь из детей, да понравится («тоже захочет»). Если так, то ничего не вышло: последствия были отвратительными, а никакого пионерского пафоса тогда не сложилось, — об «Авроре» никто больше не вспоминал, что там были за космонавты, никто так и не рассказывал. Но сам факт, что для Лены перед смертью складывалось «кругом шестнадцать», очень на такие сценарии похож (особенно когда гробят человека, которому в целом «благоволят»). Действительно, из общеизвестного — слишком много тогда совпало: и неожиданная, внеплановая «Аврора» для третьей смены, и вдруг какие-то космонавты летом, совсем под конец, и мама (что было редкостью) имела ещё взрослую дочь и даже внучку, которые, правда, всё равно не спасли... Самое противное, что подобные истории потом повторялись, уже не в школе. Здесь был КАК БЫ налёт «гуманизма»... Я же говорю, что это — вообще не люди... Но даже если вдруг Лена погибла действительно случайно, то уж первого сентября-то нас притащили на кладбище в любом случае не просто так. В последнее время я это называла «мини-Беслан», поскольку настоящего тогда случиться ещё не могло...
— Так, Алёна, с ЭТОЙ историей у тебя — всё?
— Да. А что, все уже пришли?
— Нет ещё, но и не в этом дело. Поговори немножко на другую тему (хотя, здесь всё равно в конечном счёте всё об одном, но всё-таки)... Не спрашиваю тебя о давних конкретных причинах (тебя ещё не было, ты их не знаешь), но ведь что-нибудь ты всё же думаешь о ЦЕЛИ того, что произошло с твоим отцом, вокруг него и со всеми вами?
— Ну, цель-то однозначная и очень давно поставленная: фальсификация какой-то большой житейской истории, почему-то настолько важная неким фашистским силам, что на неё брошено всё мыслимое и немыслимое... Я только теперь начинаю представлять себе, что у отца была за жизнь, ЧЕМУ он вынужден был постоянно сопротивляться, сам того не понимая и не догадываясь о подлинном источнике своих проблем. (Где-то в интернете я видела однажды «комплементарные» слова о Вячеславе Галкине: «Умер, как Высоцкий». Я подумала, что нет, теперь уже яснее ясного: «Убит, как Высоцкий». И того, и другого по жизни «вели», приводя к неизбежному запланированному финалу. Особенно «вели» самого Высоцкого, который определял и развивал слишком многое в российском самосознании, и которого поэтому нужно было свалить во что бы то ни стало, по возможности, изначально не дав ему стать свидетелем перестройки. Но и Галкин был очень светлым, очень российским актёром, — он тоже стал одним из символов национального самоопределения, пока его не втянули в сериалы-боевики. Только сами они, Высоцкий,
Галкин и другие, никогда об этом не знали, поскольку им, в отличие от меня, не ДЕМОНСТРИРОВАЛИ факта сознательного их уничтожения и не пытались сводить с ума, массированно цитируя их мысли. Мой отец, конечно, ТАКИМ, как они, не был, да и не пил (пьянство, как россиян с начала, говорят, ХХ века, так и американских индейцев после появления новых европейских «хозяев» их исконных земель — тема большая и отдельная), — но суть всё равно та же. Всё это вместе взятое касается и коснётся ещё очень многих, знаменитых и безвестных.) Вот ещё что нужно вспомнить. Где-то летом 2006-го Полковник говорил мне такую вещь: «Вам, совершенно верно, ничего не кажется и не показалось. Но видите вы, всё же, больше, чем есть. Это нормально. В опасности человеку свойственно видеть больше, чем бывает в действительности. В минуту особой опасности это случается даже с профессиональными разведчиками. Но только разведчик к этому подготовлен и заранее знает, что с этим делать, а вы — не подготовлены и не знаете. Так что просто помните: видите вы всё правильно, но неизбежно больше, чем есть, приплюсовывая к реальности — собственные ожидания. Учитывайте, что какая-то часть из увиденного вам просто показалась («у страха глаза велики») или была ложно интерпретирована.» — Нечто подобное относится, конечно, не только к моим нынешним впечатлениям, но и к моим воспоминаниям, — но дело не частностях, а в общих закономерностях. Я об этом помню и стараюсь оговариваться («...если Лена погибла действительно не случайно...»), но возможные отдельные ошибки закономерностей не меняют, поскольку, когда подобные ошибки не единичны, а принципиальны, многочисленны и чрезмерны, то речь идёт уже о чём-то другом и не в кабинетах полковников, да и не в такой приёмной, а в другой...
— Да, это так. Но ты об этом твоём Полковнике, однако, обычно хорошо вспоминаешь, а видеть его, кажется, не очень хочешь...
— В разговорах я обычно вспоминаю то, что существенно с моей точки зрения, и игнорирую остальное, которого много. Я даже не знаю толком, кто он на самом деле, а вы мне ничего не говорите. Я всегда видела, что ведёт он себя частенько очень странно, но находились мы при этом не где-нибудь, а в приёмной ФСБ, и я долго держалась за неё, как за соломинку, (возможно, до определённого момента в этом был свой резон) — пока я не заподозрила, что меня спокойно уничтожают и здесь, и пока я не стала догадываться, что я, вместе с большой частью былого народа, могла оказаться просто невольной эмигранткой, вынужденной жить в стране, в которую никогда не стремилась, куда никогда бы не захотела ехать, из которой некуда бежать и которой не с кем сопротивляться.
— Как ты любишь делать резкие заявления раньше времени!.. Хотя... Ладно, продолжай. Ты говорила о ЦЕЛИ того, что с вами со всеми произошло.
— Ну вот, тогда же, в 2006-07 годах, я писала и Полковнику, и тому известному телеведущему большое письмо (на которое Полковник сразу «ответил») — письмо обо многом, и частности — о фальсификациях, связанных с моим несостоявшимся деторождением, на которое меня, тем не менее, продолжали упорно подбивать. Я тогда чего уже только ни напредполагала в плане именно ЦЕЛИ подобных выходок. Я даже думала (в том же ключе, а на такие мысли меня пытались именно наталкивать), что «моя биография» (бегство из трёх монастырей, в прошлом —нервный срыв, множество нереализованных способностей и пр.) может быть подогнана под историю полубезумной мамаши какого-нибудь нового российского Гитлера-Сталина, особенно судя по бомбардировке соответствующими намёками со всех сторон... Причём, если бы мне «чудом» «помогли» забеременеть и родить, то я бы, скорее всего, умерла в родах, (как дальняя родственница из Крыма, как былая детсадовская одногруппница, у которой, с её смертью, и ребёнок не остался в живых, и так далее), — а из того, кто бы у меня родился, кто-то другой уже делал бы, «воспитывал» бы, что угодно. (Одну только мамину племянницу, о которой я рассказывала Анатолию, представить себе в роли такой МАЧЕХИ — волосы дыбом (кто посвящён), — тут как раз и получился бы и Гитлер, и Сталин, и хрен знает кто ещё.) На подмосковном рынке в начале второй Москвы меня, помнится, вообще с какой-то стати прямым текстом не однажды увещевали: «Если забеременеешь и не захочешь становиться матерью — ни в коем случае не делай аборт: твоему ребёнку могут найти других родителей, гораздо лучше». Я уже тогда, и по этой, и по ряду других причин говорила, что рождение у меня кого бы то ни было исключено, — ничьего вынашивания и рождения я уже сама не допущу любой ценой, когда вокруг всего этого творится такая дрянь. Сейчас ТАКОЙ вакханалии, как тогда, не происходит уже давно, но я сейчас, конечно, и дёрганная уже по любому поводу. Тем не менее, игнорируя массированные намёки, более реальной причиной того, что творилось вокруг, мне казалась стандартная версия: для следующего (окончательного) срыва меня пытались заставить просто ЗАХОТЕТЬ родить, чтобы это потом не получилось... Или — ещё что-нибудь устроили бы (а я навидалась, — троих таких несчастных родителей и более, — это отдельная тема), — они устроили бы, чтобы я мечтала, ждала, а родился бы какой-нибудь телёнок с тремя головами (не мышонок, не лягушка), наглядно «демонстрировавший» бы всем «ненужность этого отцовского рода»... Можешь себе, наверное, представить, какая у меня аллергия на всё, что связано с этой темой.
— Алёна, я знаю и о твоём трёхсотстраничном письме телеведущему по разным поводам, включая этот, о том, что ты говоришь сейчас, и обо многом другом. Опять хорошо, что у тебя нет принципиальных разночтений между тем, что ты излагала тогда, и тем, что говоришь сейчас. Плохо то, что во внешнем мире ситуация тоже по сути не изменилась. Но в любом случае, ЗДЕСЬ — это всё у тебя уже в прошлом. Рассказывай.
— Ну вот. А перед тем был фармакологический эксперимент, проба английского лекарства против аутоиммунного заболевания... Я не говорила?..
— Я это тоже знаю, — на самом деле, ты и тогда «нашумела».
— И хорошо. В общем, там брали какие-то генетические анализы крови с нашего письменного согласия (а результатов никому не сообщали никаких)...
— Ну, это, как ты им и давала письменное согласие, было связано только с той аутоиммункой, которая к тебе действительно не имела отношения.
— Но я во времена тех писем Полковнику и телеведущему успела подумать всё... Потом начался тот дурацкий, зачем-то выдуманный «папин сын», позднее уже меня не однажды провоцировали на «воспоминания» о какой-то «своей дочери», несмотря на то, что я ни разу не беременела... В общем, какая-то неимоверная дрянь за всем этим всё же стоит. Прокляты, неснимаемо и несмываемо навеки прокляты те, кто всё это устроил, кто пустил мою и ещё чью-либо жизнь на всю эту мерзость! У тех, кто делал что-то подобное в отношении меня и других людей — у них в этой жизни всё ворованное, чужое, как и сама жизнь, — ни они, ни их потомство не имеют права ни на неё, ни на единый луч солнца, украденный ими у других, — они всё должны другим людям и сами умрут вместе с их детищами в неоплатном и неоплаченном долгу, который рано или поздно, так или иначе, но взыщется. Да будет так!
— Попить чего-нибудь хочешь?..
— Да пошёл ты!..
— Ну, нет, так нет. Ты зря ругаешься: я ни разу тебя не остановил, ни единым словом тебе не возразил, и это — искренне. Здесь — искупавшегося в счастье нет ни одного. И мягко говоря, не только здесь. Ты права: новые фашисты...
— Старые!!! Ровно те же самые! Которые немножко поменяли тип вооружения и стратегию.
— И здесь не спорю. Они, как всегда, рвутся к власти на чужой крови и за чужой счёт, а прикрывают всё это лозунгами всеобщего счастья. По существу, всё старо. И беды впереди должны быть очень большие, — не потому, что кто-то так решил, а потому, что они сами уже сделали для этого вообще всё возможное. Именно такой они уже построили мир. А к тебе — никто сейчас не в претензии: ты сказала то, что есть, и то, что вырвалось. И все всё поняли. Лучше закругли сейчас этот разговор темой матери и отца, с которой мы и начали.
— Да я, вообще-то, об этом и говорю. Когда-то очень-очень давно готовилась очередная крупная фальсификация. Данное общество должны были не однажды дискредитировать по целому ряду или даже по всем сразу существующим направлениям. Тот же Евсюков, наверняка, готовился давно и заранее, чтобы «своим» поступком прогреметь на всю страну и вызвать далеко идущие последствия, — всё было запланировано и всё режиссировалось. Раньше ведь ничего подобного почти не происходило, или происходило не в пример меньше!.. Что-то такое готовилось «с участием» отца или всей той большой семьи: одно из многочисленных, более или менее масштабных представлений, которые произведут впечатление и запомнятся, создавая «общую картину», радикально отличающуюся от прежней. Когда отец засветился или был «избран» в качестве очередного персонажа, и он ли один в этой семье — не знаю. (Да нет, не один, конечно.) Дим, слушай-ка, чтобы всё это конкретнее показать, мне нужен Кара-Мурза или, лучше, моя книжка с моим эссе, где всё, что нужно сейчас из Кара-Мурзы, уже выбрано, — чтобы не искать...
На этот раз Алёне принесли всю сумку.
— Вот, слушай. (И имей в виду: всё это я говорю не просто так, а в связи с моей темой, — всё это сведётся в конечном счёте к разговору о нашей семье.) Чтобы легче было объяснить многие процессы в нынешнем человеческом обществе, имеет смысл рассказать об Антонио Грамши, а о нём лучше тогда взять отрывок не из моего эссе, а непосредственно из Кара-Мурзы:
«Антонио Грамши, основатель и теоретик Итальянской коммунистической партии, депутат парламента, был арестован фашистами в 1926 г., заключён в тюрьму, освобождён совершенно больным по амнистии 1934 г. и умер в 1937 г. В начале 1929 г. ему разрешили в тюрьме писать, и он начал свой огромный труд «Тюремные тетради». Опубликован он был впервые в Италии в 1948-1951 гг., в 1975 г. вышло четырёхтомное научно-критическое издание с комментариями. С тех пор переиздания на всех языках, кроме русского, следуют одно за другим, а исследовательская литература, посвящённая этому труду, необозрима — тысячи книг и статей. На русском языке вышла примерно четверть «Тюремных тетрадей», а с начала 70-х годов, когда на всех парах пошла скрытая подготовка к перестройке, на имя Грамши идеологи КПСС наложили полный запрет (хотя судя по косвенным признакам можно сказать, что самими идеологами перестройки работы Грамши усиленно изучались).
Поводом (совершенно надуманным) для изъятия Грамши из оборота служили его якобы глубокие расхождения с Лениным. На деле причина, видимо, в том, что учение Грамши было положено в основу всей грандиозной кампании по манипуляции сознанием населения СССР для проведения «революции сверху».
«Тюремные тетради» были написаны Грамши не для печати, а для себя, к тому же под надзором тюремной цензуры. Читать их непросто, но усилиями большого числа «грамшеведов» восстановлен смысл почти всех материалов, и расхождения в толковании невелики.» —
Лично я думаю (в моём эссе этого ещё нет), что ошибки как таковой в отношении Грамши не произошло точно: в каких бы благородных целях он ни писал свой труд, но МЕТОДЫ, которые он вольно или невольно взял на вооружение — вполне античеловеческие, так что воспользовались его трудами как раз именно те силы, которым такие методы были близки... Когда я читала «Манипуляцию...» Кара-Мурзы и писала эссе, так глубоко я об этом ещё не думала (как обычно, меня волновало слишком много всего), но насколько я сразу поняла и восприняла идею о возможности деструктивной деятельности с помощью этой теории, настолько же мне в ней «что-то не понравилось» в целом, и рассматривать её как новую возможную идею, идеологию конструктивного движения в России, я не стала. И теперь я считаю, что сам по себе запрет на Грамши как на возможную часть собственного арсенала ничего плохого об идеологах КПСС не говорит, но изучать его труды и широко предупреждать о них, как об опасности — стоило, — здесь я с Кара-Мурзой солидарна.
— Подожди, подожди. Поконкретнее — можешь?
— Это ты подожди. Сейчас я суть учения (по Кара-Мурзе) изложу, тогда скажу и об этом. Вот, он пишет: «Теорией, созданной коммунистом, эффективно воспользовались враги коммунизма (а наши коммунисты её и знать не желают). <...> Если сегодня открыть крупную западную научную базу данных на слово «Грамши» (например, огромную американскую базу данных «Диссертации»), то просто поражаешься, какой широкий диапазон общественных явлений изучается сегодня с помощью теорий Грамши. Это и ход разжигания национальных конфликтов, и тактика церковной верхушки в борьбе против «теологии освобождения» в Никарагуа, и история спорта в США и его влияние на массовое сознание, и особенности нынешней африканской литературы, и эффективность тех или иных видов рекламы. <...>
Один из ключевых разделов труда Грамши — учение о гегемонии. Это — часть общей теории революции как слома государства и перехода к новому социально-политическому порядку. Вот, кратко, суть учения, прямо касающаяся нашей проблемы.
Согласно Грамши, власть господствующего класса держится не только на насилии, но и на согласии. Механизм власти — не только принуждение, но и убеждение. Овладение собственностью как экономическая основа власти недостаточно — господство собственников тем самым автоматически не гарантируется и стабильная власть не обеспечивается.
Таким образом, государство, какой бы класс ни был господствующим, стоит на двух китах — силе и согласии. Положение, при котором достигнут достаточный уровень согласия, Грамши называет гегемонией. Гегемония — не застывшее, однажды достигнутое состояние, а тонкий и динамичный, непрерывный процесс. При этом «государство является гегемонией, облечённой в броню принуждения». Иными словами, принуждение — лишь броня гораздо более значительного содержания. Более того, гегемония предполагает не просто согласие, но благожелательное (активное) согласие, при котором граждане желают того, что требуется господствующему классу. Грамши даёт такое определение: «Государство — это вся совокупность практической и теоретической деятельности, посредством которой господствующий класс оправдывает и удерживает своё господство, добиваясь при этом активного согласия руководимых». <...>
Американский философ Дж.Уэйт, исследователь Хайдеггера, пишет: «К 1936 г. Хайдеггер пришёл <...> к идее, которую Антонио Грамши (почти в это же время, но исходя из иного опыта и рода чтения) называл проблемой «гегемонии»: а именно, как править неявно, с помощью «подвижного равновесия» временных блоков различных доминирующих социальных групп, используя «ненасильственное принуждение» (включая так называемую массовую или народную культуру), так, чтобы манипулировать подчинёнными группами против их воли, но с их согласия, в интересах крошечной части общества». <...>
По Грамши, и установление, и подрыв гегемонии — «молекулярный» процесс. Он протекает не как столкновение классовых сил (Грамши отрицал такие механистические аналогии, которыми полон вульгарный исторический материализм), а как невидимое, малыми порциями, изменение мнений и настроений в сознании каждого человека. Гегемония опирается на «культурное ядро» общества, которое включает в себя совокупность представлений о мире и человеке, о добре и зле, прекрасном и отвратительном, множество символов и образов, традиций и предрассудков, знаний и опыта многих веков. Пока это ядро стабильно, в обществе имеется «устойчивая коллективная воля», направленная на сохранение существующего порядка. Подрыв этого «культурного ядра» и разрушение этой коллективной воли — условие революции. Создание этого условия — «молекулярная» агрессия в культурное ядро. Это — не изречение некой истины, которая совершила бы переворот в сознании, какое-то озарение. Это «огромное количество книг, брошюр, журнальных и газетных статей, разговоров и споров, которые без конца повторяются и в своей гигантской совокупности образуют то длительное усилие, из которого рождается коллективная воля определённой степени однородности, той степени, которая необходима, чтобы получилось действие, координированное и одновременное во времени и географическом пространстве».
Мы помним, как такое длительное гигантское усилие создавала идеологическая машина КПСС в ходе перестройки, прежде чем в сознании «совка» было окончательно сломано культурное ядро советского общества и установлена, хотя бы на короткий срок, гегемония «приватизаторов». Вся эта «революция сверху» (по терминологии Грамши «пассивная революция») была в точности спроектирована в соответствии с учением о гегемонии и молекулярной агрессии в культурное ядро. <...>
На что в культурном ядре надо прежде всего воздействовать для установления (или подрыва) гегемонии? Вовсе не на теории противника, говорит Грамши. Надо воздействовать на обыденное сознание, повседневные, «маленькие» мысли среднего человека. И самый эффективный способ воздействия — неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли и стали принимать не разумом, а на веру. «Массы как таковые, — пишет Грамши — не могут усваивать философию иначе, как веру». И он обращал внимание на церковь, которая поддерживает религиозные убеждения посредством непрестанного повторения молитв и обрядов. <...>
Кто же главное действующее лицо в установлении или подрыве гегемонии? Ответ Грамши однозначен: интеллигенция. И здесь он развивает целую главу о сути интеллигенции, её зарождении, роли в обществе и отношении с властью. Главная общественная функция интеллигенции — не профессиональная (инженер, учёный, священник и т.д.). Как особая социальная группа, интеллигенция зародилась именно в современном обществе, когда возникла потребность в установлении гегемонии через идеологию. Именно создание и распространение идеологий, установление или подрыв гегемонии того или иного класса — главный смысл существования интеллигенции. <...>
Продавая свой труд, интеллигенция тянется туда, где деньги. Грамши пишет: «Интеллигенты служат «приказчиками» господствующей группы, используемыми для осуществления функций, подчинённых задачам социальной гегемонии и политического управления». Правда, всегда в обществе остаётся часть интеллигенции, которую Грамши называет «традиционной» — та интеллигенция, которая служила группе, утратившей гегемонию, но не сменила знамя. Обычно новая получившая гегемонию группа старается её приручить. Кроме того, общественные движения, созревающие для борьбы за свою гегемонию, порождают собственную интеллигенцию, которая и становится главным агентом по воздействию на культурное ядро и завоеванию гегемонии. <...>
Опираясь на теорию Грамши, культурологи объясняют роль вещи («ширпотреба») в установлении и поддержании гегемонии буржуазии в западном обществе. Вещи (материальная культура) создают окружающую среду, в которой живёт средний человек. Они несут «сообщения», оказывающие мощное воздействие на обыденное сознание. Если же вещи проектируются с учётом этой их функции как «знаков» («информационных систем из символов»), то в силу огромных масштабов и разнообразия их потока они могут стать решающей силой в формировании обыденного сознания. Именно дизайн ширпотреба (особое место в нем занимает автомобиль) стал в США главным механизмом внедрения в сознание культурных ценностей (создания и сохранения «культурного ядра»). Специалисты особо отмечают способность этого механизма к эффективной «стандартизации и сегментации» общества.
Стандартизация и сегментация — важное условие гегемонии в гражданском обществе, где требуется сохранять «атомизацию», индивидуализацию людей. Но в то же время надо соединять «сегменты» связями, не приводящими к органическому единству — безопасными для гегемонии. Как показали исследования по методологии Грамши, эффективным средством для этого стал в США спорт. Он порождал такие символы и образы, которые связывали мягкими, ни к какому социальному единству не ведущими связями самые разные сегменты общества — от негритянского дна до буржуазной элиты. Спорт создавал особый срез общей массовой культуры и обыденного сознания.
Методология Грамши хорошо вскрывает суть деятельности созданной по инициативе Н. Рок-феллера «Трёхсторонней комиссии» под руководством З. Бжезинского. Это — одна из самых закрытых и влиятельных организаций теневого «мирового правительства». В неё входит около трёх сотен членов из США, Европы и Японии. Цель — стабилизировать новый мировой порядок, добившись беспрепятственного доступа транснациональных корпораций во все страны мира, особенно в финансовую сферу и энергетику. Признано, однако, что в действительности Трёхсторонняя комиссия способствовала возникновению нынешнего глобального финансового кризиса и в целом дестабилизации мира по сравнению с 70-ми годами. Но для нас важен другой вывод: эта теневая организация смогла мобилизовать во всех главных странах влиятельные силы для воздействия на общественное мнение так, чтобы «неприятные» последствия её деятельности вообще исчезли из публичных дебатов. Эти силы (учёные, пресса, «духовные лидеры») смогли в мировом масштабе так повлиять на обыденное сознание, что люди как бы перестали видеть очевидное. У них отключили «здравый смысл». <...>
Вершиной этой «работы по Грамши» была, конечно, перестройка в СССР». —
Ну вот, здесь по-моему, всё предельно ясно...
— Действительно... И — ?..
— Да то, что это — только верхушка айсберга...
— Подожди, — по порядку. Методы Грамши ты назвала античеловеческими. Теперь, пожалуйста, объясняй.
— Конечно, — ведь человека здесь просто больше нет! Никого, кроме членов мирового правительства. Только они что-то определяют и решают. Все остальные — люди-функции из фильма «Мёртвый сезон»: у них ничего не надо спрашивать даже о них самих, но ими надо управлять так или этак, чтобы получить тот или иной результат. И если делать это «правильно», они будут выдавать именно то, чего от них хотят. Теоретически у Грамши присутствуют и некие «хорошие», желающие бороться и управлять во благо людей, но они, во-первых, никогда не победят (поскольку пытаются воевать чужим оружием, которому не хозяева и которым так не владеют и не смогут овладеть, исходя из других интересов, не тех, которые его породили и которые ему органичны), а во-вторых (и это — главное), они тоже собираются управлять теми же способами: управлять аморфной массой, которая «во благо» будет делать только то, что ей внушат и к чему её повернут, теми средствами или иными. Посмотри, какое презрение к человеку проявляется в этих словах: "«Массы как таковые, — пишет Грамши — не могут усваивать философию иначе, как веру». И он обращал внимание на церковь, которая поддерживает религиозные убеждения посредством непрестанного повторения молитв и обрядов"!..
— А в жизни всё это не так?..
— Сейчас — так. По крайней мере, именно к тому идёт. Конечно, человеку свойственно использовать множество автоматических реакций. Например, здоровый человек не думает, как ему ходить, выполняя это действие именно автоматически. Это — благо, поскольку иначе на такие действия уходили бы все интеллектуальные силы. Но теперь человек ведётся к оскотиниванию, к тому, что большинство умственных и интуитивных процессов пытаются заменять автоматическими или хотя бы внушёнными извне, а это — процесс уничтожения человека как сущности.
— И это — только теперь?
— Нет, фашизм присутствует в мире как минимум весь двадцатый век.
— Только фашизм? А что с коммунизмом? А Сталин, а «твой любимый» Мао?
— Отвратительно. Но в том-то и дело, что такие «заносы» были уже изжиты и там, и там. Сталинизм и маоизм не были, в отличие от классического фашизма, теории расового превосходства, первоначально заложены в самой идее, но явились результатом действия недоработанности теории и результатом неучтённого действия сил духовной энтропии (или даже действия той же американской обработки)... Внутри человек оставался свободным...
— Свободным?.. «...Учение Маркса всесильно, потому что оно верно...»?..
— Блин... Вот об этом я, честно говоря, забыла...
— Я тебя уверяю, что ты забыла ещё очень многое, а чего-то просто никогда не знала.
— Дима, я не понимаю, чего ты хочешь. Или меня зачем-то провоцируешь, или сам себе противоречишь. Не так уж я забыла. Просто невозможно же думать вообще обо всём сразу!.. Я помню и о сталинизме (и даже знаю разные нынешние точки зрения на этот счёт, но сама отношусь к нему плохо), и слышала больше других, например, о преступности в позднем СССР, — у меня ведь папа работал именно в милиции и с младенчества учил меня, в частности, никогда не открывать дверь чужим, о чём другие дети почти не слышали... Но к чему ты говоришь это всё сейчас? Я ведь и без того не считаю себя абсолютной сторонницей такого социализма, из которого мы вышли. Считаю, что перестройка была нужна обязательно, но не в целях тотального разворовывания всей страны (а как теперь выясняется, не в целях установления международной фашистской диктатуры), а ради укрепления и экономического подъёма государства, и ради той интеллектуальной свободы для людей, которой им так не хватало...
— Как в Китае?
— Ну, КАК — не получится (да и не нужно), но я, и правда, хотела бы чего-нибудь в подобном направлении... Здесь всё понятно, если в двух словах объяснить, о чём говоришь и чего хочешь. Но только — зачем это сейчас? Всё уже свершилось самым паршивым образом и историю вспять не повернуть. Сейчас имеет смысл думать уже не о том, кто чего хотел от тогдашней перестройки...
— Как знать, как знать... Н-да... Слушай, а ТОГДА ты хотела от неё того же, о чём говоришь сейчас?
— Нет, конечно. Тогда, ещё и с поправкой на молодой возраст, я разделяла всеобщую лопоухость, и теперь-то точно ждала «светлого будущего». Лопоухость не всеобщую, конечно, но в моём окружении — да. И «светлого будущего», конечно, я ждала далеко не по Грамши...
— Ладно, провоцировать я тебя больше не буду. Постараюсь во всяком случае. Давай-ка, что-то у тебя там мелькнуло про верхушку айсберга...
— А-а, ну да. Кроме сугубо психологических трюков, на которых настаивает Кара-Мурза, широко разрабатывается и применяется психофизическое оружие (смотри, например, Вячеслава Прокофьева). Это то, что я называю непосредственным вторжением в сознание. (Не могли эти толпы отливающих мужиков, лижущихся парочек и дур в шалях быть, как один, во что-то посвящены. Каким-то способом даются команды, которые выполняет огромное число не связанных между собой людей в совершенно разных городах и географических точках. Что из этого может следовать — не мне тебе объяснять. Но если говорить непосредственно о Грамши — вот так создаются фальсификации и истории, и отдельных человеческих судеб, считаться с которыми не интересно больше уже никому. Вот так на сегодня идёт «молекулярный процесс», вот так создаются (фальсифицируются) цепочки мнений и настроений на основе искусственно фабрикуемых событий. Даже говорить лень, — настолько с этим всё ясно. И настолько с этим никто ничего не делает (если только свои же не надумали — не под диктовку, а действительно сами! — построить вот таким способом в государстве «счастливую жизнь»).
— А если народу нравится такая жизнь, такой мир, которые строятся хотя бы формально при их участии?
— Естественно, им нравится, — на то и расчёт. Немецким фашистам тоже очень нравился тот мир, который они строили, — особенно молодым. Как-то я ругалась с юной парочкой, и они гордо мне сообщили: «Нас программирует общество». Я им ответила: «Молодцы. Я даже знаю абсолютно успешный пример программирования такого рода: создание зондеркоманд СС». (Кстати, после такого разговорчика в очереди в кассу в тогдашней «Копейке» на Киевской и после моих окровений в интернете ко мне и прицепился на улице амбал, заехавший ногой в рёбра, — я писала.) И всё же, их всех вместе взятых, во всей массе, мог бы извинять один факт.
— Ничего себе...
— По-моему, это не лучший повод для шуточек.
— Да нет, я не шучу, — ты неверно меня поняла. Просто я иногда поражаюсь твоему умению посмотреть на проблему со всех мыслимых сторон...
— Не льсти. Тут, опять же, не до шуточек.
— Да не шучу я!.. Ты сама, по-моему, стала чего-то избегать...
— Так, всё!!! Всё. В общем, я хотела сказать, что этим людям ни разу никто ничего не сказал прямо, ничего не объяснил, ни во что не посвятил. Но то, что им было сказано, составляло суть манипуляции и открывало возможности их использования в том или ином ключе. Короче говоря, все они — жертвы обмана и манипуляции ими в самых корыстных целях. Как, собственно, всякие фашисты, особенно молодые. Плохо другое. Во-первых, немецких фашистов, конечно, «не упрекнуть» в честности и открытости (вспомни, что писали Гитлер, Геббельс и прочие), но всё же они, ещё в силу, видимо, достаточной неискушённости и высокого самомнения были по-своему честны: они назывались своим именем, открыто объявляли свои идеи национального превосходства и шли воевать «с открытым забралом», то есть (кроме моментов особой тактической необходимости) в своей форме. Они как минимум спокойно давали себя узнать. Нынешний американский (ЦРУ-шный) фашизм, если он по сути нынешний, а не изначальный, действует иначе: кто бы что сейчас ни пытался утверждать, но там всё по-прежнему построено на Большой Лжи и делается под лозунгами демократии и защиты пресловутых прав человека. Фашизм как таковой здесь зачастую разглядишь не сразу или, при определённой степени нежелания, не разглядишь вообще. Тем проще удаётся ему почти любая вербовка. (Бомбардировки Югославии, Ирака и СНОС (как давно уже установлено на том же Западе) башен-Близнецов каким-то образом уже всеми забыты. Что касается нью-йоркских башен, вспомни хотя бы французский документальный фильм, где наглядно показывали разницу между тем, как падают дома при катастрофе (дома, которые в основе должны были это выдержать) и тем, как падают старые дома при направленном взрыве, когда их заведомо сносят так, чтобы минимально повредить окружающие строения)...
— Да, был такой фильм.
— Во-вторых, вербуя сторонников, здесь, как и свойственно фашизму, действуют более всего на примитивных НИЗМЕННЫХ инстинктах. Определённый барьер для их высвобождения раньше ставила, как правило, традиционная культура. На сегодняшний же день, особенно в России, она предварительно разрушена почти полностью, причём, сознательно... Я понимаю что в последнее время общалась в невысоких, так скажем, кругах, но я уже привыкаю к тому, что около меня просто больше НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ. Что ни начни утверждать из общепринятых, казалось бы, вещей — всё воспринимается или как невероятная новость, или нечто, не подлежащее доверию, какие вещественные доказательства ни предъявляй. А в такой ситуации появись кто угодно, ОБЪЯВЛЕННЫЙ авторитетом, он может уже утверждать и внушать, что угодно, поскольку ничего другого никто уже элементарно не знает. А тем, кого вербуют, более всего внушают утверждения уже в основном не об их национальной, но какой-либо прочей исключительности (территориальной, профессиональной, ЛЮБОЙ другой) и посвящённости, особенно «психологической». Вроде того, что ты — особенный («не как все»), значит — «не тварь дрожащая, а право имеешь» (как Раскольников — угробить, всё-таки, топором никчёмную старушку за деньги, которые тебе уж точно нужнее, — или за что-нибудь другое, не суть). В общем, играют на основных, помимо секса, низменных инстинктах: на желании ощущать свою исключительность, избранность («крутость») В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ и на жажде власти над другими живыми существами (в пределе — на садизме). Разглядеть во всём этом собственно фашизм может уже далеко не всякий, в то время как работать на него готовы всё больше людей (выполнять команды, какие подадут, если грамотно это сделают), в то время как именно фашизм расцветает махровым цветом... Я говорила, что всё это могло бы их извинять, но только во все времена, включая классически фашистские, находились люди, у которых невозможно было ни при каких условиях до такой степени сыграть на низменных инстинктах, которые всё равно оставались людьми, как их ни программируй. Но теперь таких просто неявно уничтожают или просто как минимум стремятся оболгать...
— Алёна, всё это очень важно и спасибо тебе большое за этот разговор. Но поговорить и подумать обо всём этом время ещё найдётся. Сейчас, пожалуйста, давай закончим тему ТВОЕГО прошлого, — хотелось бы сделать это к завтрашнему вечеру, и это сейчас важнее. Давай, — то, что ты говорила, всё-таки, об отце и в связи с ним перешла на Грамши...
— Странные вы все какие-то. Ну, ладно, давай. Я просто хотела сказать, что вот так и отец, и большая семья были когда-то предназначены «отыграть» определённый сценарий, определённую постановку, призванную, среди множества других, продемонстрировать никчёмность этого народа, закономерность и желательность его угасания. Создание мнений и настроений «малыми» порциями... А заодно — собственно гибель народа, и отдельных людей, и целых семей, кланов, — «естественным образом»... А отец-то «отыгрывать» ничего не захотел, не смог, — помаялся во всём этом, повёлся на многое, но всё же, остался собой, а совсем не тем, что делали из него годами... Пришлось им просто врать, компенсируя угробленный сценарий.
Знаешь, дальняя родственница, отцовская крестница, не очень давно говорила, что умер молодой парень, последний носитель этой фамилии из этого большого и такого жизнеспособного рода. Тогда история эта — действительно очень давняя. Может быть, имелся в виду этот клан, заявивший о себе даже до революции. Может быть, на их отдельную семью обратили внимание в оккупации, когда именно у них было три мальчика и при немцах родилась ещё первая девочка. В общем, всё это было очень давно, — меня ещё не было и в помине.
Анатолию я говорила о том, что у маминой сестры дочь могла появиться не случайно, а по определённому плану. Но то же самое я предполагаю и о себе, тем более, что моих родителей познакомили специально. Я тоже родилась с навязанным заранее сценарием, и туда совершенно не вписывались никакие стихи в три года, никакие чемпионаты по шахматам, ничего, что пыталась сделать моя бедная мама, до конца жизни видевшая во мне большой потенциал и так и не сумевшая понять, почему всё пошло прахом. Справиться я с этим не могла, но «отыгрывать» тоже ничего не смогла и не захотела. Но мне жизнь испортили не только из-за отца. Я ведь ничего ещё не сказала о маме, о физиках, об их выросших детях. А там — тоже во многом завал. У каждого (и в семье каждого) из моих родителей «неприятности» начались ещё до их знакомства. И мне давно показалось, что людей, которых гробят по плану, любят сводить вместе. Впрочем, ничего утверждать и копаться в этом я сейчас не буду.
Да блин, сказал же государственный секретарь США Дж. Бейкер, как я цитировала: «Мы истратили триллионы долларов за сорок лет, чтобы оформить победу в холодной войне против России». Триллионы долларов на что? — уж не одной ведь гонкой вооружений они свалили страну! — сами же подчёркивали, что дело не в этом. Директор Центра политики и безопасности Ф. Гафней говорил: «Победа США в холодной войне была результатом целенаправленной, планомерной и МНОГОСТОРОННЕЙ стратегии США...» —А ещё Толе я цитировала Вячеслава Широнина, что "15 августа 1989 года газета «Крисчен Сайенс Монитор» писала: «Великое долларовое наступление на Советский Союз успешно развивается. 30 тысяч ядерных боеголовок и оснащённая по последнему слову техники самая большая армия в мире оказалась не в состоянии прикрыть территорию своей страны от всепроникающего доллара, который уже наполовину уничтожил русскую промышленность, добил коммунистическую идеологию и разъел советское общество. СССР уже не в состоянии сопротивляться и его разрушение специалисты предсказывают в течение ближайших двух-трёх лет... Нам же следует отдать должное тому великому плану, который вчерне разработал ещё президент Тафт, отшлифовал президент Рузвельт и последовательно выполняли все последующие американские президенты». Гибель СССР была спланирована за рубежом и определённые иностранные круги очень сильно способствовали усугублению наших экономических проблем." — Но «триллионами долларов за сорок лет» Советский Союз наводнён тоже не был. Америка тратила эти деньги на разное, но в большой мере (я уверена) — на ту самую «социальную инженерию», на подготовку и реализацию таких вот псевдоестественных спектаклей, создававших и менявших определённое настроение в целом. Вот, и на спектакль «Папа и его семья», на фабрикацию личностей и событий, видимо, тоже было затрачено немало средств, материальных и моральных. (Эта квартира-то, в которой издавна водилась техническая и психотехнологическая «чертня» (я ещё расскажу), тоже наверное, чего-то стоила в денежном выражении. То-то кому-то теперь очень нужно, чтобы я побыстрее ушла со сцены, а квартира обязательно осталась именно в этой, большой и теперь бесперспективной семье, — и всё равно, у кого конкретно, лишь бы «доиграть» когда-то начатую «игру»; мне с этой квартирой уже надоели даже посторонние и случайные люди, которые не были ни в каком Петербурге и не имели, вроде, ни к чему отношения).
В конце концов, что это были за советские телевизионные фильмы днём, в «школьное» время, после которых мне снились фальшивые кошмары и я писала в восемь-девять лет политические сочинения? «Нечистоту» квартиры, как я рассказывала, под конец засёк даже папа (лучше бы у меня спросил, ЧТО я тогда уже успела в ФСБ понаписать, а значит, что я сама об этом знала и думала), но он тогда только крепче замолчал, не давая больше и мне раскрыть рта.
Сейчас рассказывать такие вещи мне имеет смысл не о ранних, а о более поздних временах, что я и планировала на завтра. В общем, всё это очевидно сводилось к каким-то пакостям с наследниками и их отсутствием. Род этот должен был закончиться возможно гадостнее и тягостнее. Но вот, я, насколько могла, этот сценарий сломала, а его всё пытаются «реанимировать», не дать пропасть такому давнему и выпестованному «детищу». Теперь от меня уже не хотят больше, похоже, ни Петербурга, ни попыток деторождения, — теперь бы только уже сгинула быстрее, но никаких «умельцев» при этом не подставив, а «сама», «псевдоестественно», по «собственной вине»... Делается всё, конечно, руками здешних, «своих», как всегда, — и концов не найти. Особенно, тем, кто не хочет их находить. Вы-то, ФСБ, чем на самом деле занимаетесь?
— Начина-ается... Как будто ты сама чего-нибудь не понимаешь!.. А потом, мы — не всё ФСБ, а только малая, очень специфическая его часть, и за всех ответить не можем. Тебе просто повезло, — сказал Дима и подмигнул, — Слушай, Алёна, а как твоё православное имя? Елена?
— Нет, Александра. В большой семье это имя не чужое. Но в миру меня так никогда не называли. А ты что, уже панихиду по мне заказывать собрался?
— О-о-ох... Так... Спокойно... Нет, Алёна. Просто интересно. Может, я свечку о здравии хочу поставить.
— Думаешь, пора?
— Ну, нам ты, во всяком случае, нужна здоровой. Кстати, как только закончишь рассказывать (надеюсь, что завтра вечером), на следующий день соберутся врачи. Витю ты знаешь, — но он будет заниматься в основном измерениями показателя «L» в разное время и во всех вариантах. А вообще, посмотрим, чтобы у тебя всё было в порядке. Заодно не забудем и наших милых дам. Лишних эмоций никто ни у кого вызывать не собирается, так что придёт и женщина-врач, одновременно женский и терапевт. Хорошая врач, со стажем в обеих областях. Но это — к слову.
— Слушай, Дим, а пусть мне Витя покажет, наконец, этот пресловутый диапазон, а то я одна-единственная, как всегда, ничего не знаю...
— Даже острить не буду. Ладно, это не проблема. Покажет. Только с лишними вопросами не приставай, — все объяснения, как договорились, через неделю.
— Договорились.
— Всё, теперь восемь часов уже на подходе. Давай, пока прервёмся. Завтра весь день — твой. Меня, наверное, здесь не будет, — приедет кто-то другой, — но знать, как ты понимаешь, я буду всё досконально. Теперь — поднимайся, пойдём знакомиться с теми, кого ты ещё не видела, — и отдыхай пока.
Компания собралась тут же, в зале. В конференц-зал Алёну пока не приглашали, — что-то у них там происходило своё, возились с какой-то техникой. Здесь, за ужином, были, конечно, Вера и Тася, а заодно — Дима, Витя, который, как выяснилось, несколько лет назад срочно приехал в командировку из новосибирского отделения (здесь его и оставили), Лёша, который оказался переведённым в Москву из Омска чуть позднее Виктора, знакомый уже москвич и пенсионер Алексей, новые люди — Саша, Павел и ещё один Дима, которого, чтобы не путать, давно называли здесь Митя. Последние в Москве жили уже по крайней мере лет по двадцать, а кто-то здесь и родился. Компания оказалась не шумной, а даже будто бы на чём-то постоянно сосредоточенной, но никакого напряжения по отношению друг к другу или к ней Алёна не заметила. Единственное — все они явно о чём-то молчали, и это чувствовалось. Наверняка молчали они именно о том, что у них делалось сейчас в конференц-зале. Но это было похоже просто на молчание технарей, которые не хотят обременять своими разговорами собравшихся за столом. Алёна даже представляла себе, как они уйдут и сразу начнут что-то обсуждать, заинтересованно и живо. В общем, это больше всего походило просто на уважение, нежели на сохранение каких-то угрожающих тайн. И такое нравилось ей гораздо больше, чем если бы они заговорили сейчас о каких-нибудь непонятных вещах, гордо или наплевательски демонстрируя посвященность избранных. Хотя, кто их разберёт, — в ФСБ-шной компании просто за ужином она оказывалась впервые. Зато Вера и Тася, которые перед этим суетились на кухне вдвоём, приготовили такой замечательный стол, не какой-нибудь праздничный, а простой, но изысканный и невероятно вкусный, что у Алёны вырвалось:
— Слушайте, ну не поварами же вы были в КГБ!
Как всегда, во всяком случае с Алёной, Вера ответила добродушно и весело:
— А мы и сейчас не повара. Ты-то тоже хорошо готовишь. Идея была твоя и начинала ты сама. Некоторые мальчики, кстати, тоже не подвели бы.
— О, не сомневаюсь. И кстати, я сама готовлю не в маму, а в отца. В общем, за эту часть марлезонского балета здесь можно не волноваться.
— А за какую-нибудь волнуешься? — сразу с такой же улыбкой спросила Тася.
— Ну неужели нет! Я здесь, между прочим, не по приглашению появилась, и ничего ещё по-прежнему не знаю...
Дима отчеканил каждый слог твёрдо, но тоже без угрозы:
— Че-рез не-де-лю.
— Ладно, — вздохнула Алёна, и добавила, обратившись к бабушкам, — я, вообще-то, вижу, что вы — не повара и не обслуживающий персонал. Кто-нибудь посерьёзнее.
Павел быстро спросил, видимо, желая заодно переменить тему:
— А вообще-то, тебе здесь, по-моему, нравится?
— Сейчас — конечно. Но я же не знаю, что будет дальше. Пресловутая неделя-то ещё не прошла... Пока что все хорошие и всё хорошо. Но ведь вы же не из человеколюбия всё это делаете!..
Павел чуть заметно глянул на Дмитрия, тот столь же чуть заметно кивнул, видимо что-то разрешив. Алёна уже видела такую манеру общения и здесь считала её уместной, как само собой разумеется. Павел уже говорил:
— Естественно, нет. Для человеколюбия это было бы слишком дорого в денежном выражении. Мы просто столько не зарабатываем. Мы бы не потянули. Хотя, иногда жаль, что человеколюбие такого рода нам просто не по карману. А хорошими мы собираемся быть и впредь. По крайней мере, причин для чего-то другого у нас пока тоже не наблюдается.
— А вот мне совсем не жаль, что не из человеколюбия. Кое-чему всё же пришлось научиться, так что если бы вы сейчас сказали, что всё это делаете по доброте душевной и лично по моему поводу, меня бы, простите, очень расстроила ваша неискренность. Нет, действительно. Вы тут все такие опытные, матёрые, а тратите на меня столько времени и средств... Даже милейшие Вера и Тася... Ох, как бы я не хотела попробовать оказаться с ними по разные стороны окопов!.. (Я специально не сказала «баррикад».) Но мне — тем спокойнее. Не тревожнее, а спокойнее. Что-то здесь происходит очень серьёзное. В общем... Нет... Я что-то, кажется, чувствую, но сейчас не сумею вразумительно объяснить. И как бы не хотелось мне ошибиться!..
— А такое возможно?
— Увы, да. Но очень бы не хотелось!..
Саша, меняя тему, тут же начал рассказывать что-то весёлое про курьёзные ошибки и разъяснившиеся недоразумения. Алёна его не слушала. Впрочем, небольшой ужин сразу же и закончился, потому что все всё доели. Она вдруг очень захотела спать (видимо, сегодняшний разговор потребовал от неё много сил, а никаких ограничителей больше уже не осталось), и Тася тут же проводила её в комнату. Вера с Димой отправились мыть посуду, а заодно о чём-то поговорить, остальные же пошли в конференц-зал.
Алёна уже спала и ничего не слышала, не только из-за тяжёлой двери в комнату, закрытой наглухо, но и по причине того, что она сразу же полностью выключилась. Она не слышала, как Дима, уходя первым, сказал всем остававшимся и собиравшимся уходить по очереди:
— Вот видите, я же говорил, что врать ей нельзя. Не то, чтобы что-то вычислит (теперь это уже не так принципиально), но её кредит доверия и так почти на нуле. А для нас такое — хуже некуда. Представили бы Веру и Тасю обслугой — она уже затаилась бы. Но правду ей сразу вывалить тоже нельзя, невозможно: во-первых, не поверит, во вторых, может взорваться. А времени у нас уже остаётся не так много. Давайте в ближайшие дни думать, что делать, как ей выложить это всё для начала.
Митя вдруг спросил его:
— Слушай, но ведь там её не сможет проконтролировать больше вообще никто! А она — не маленькая, и мозги у неё работают прилично. Ты не боишься, что она просто продаст информацию в ЦРУ? Заплатить они могут порядочно. Паролей у неё, конечно, не будет. Но как найти подходы она, по-моему, в состоянии сообразить быстро...
— Ох, Митя, Митя... Если бы ты подумал об этом первым, и никто бы ни разу ещё этого не обсудил, тебе бы нужно было поставить памятник хотя бы на эти оставшиеся полгода... — вздохнул Алексей.
Витя отрезал:
— Не пойдёт она в ЦРУ. Хотя никакие приборы и не могут сейчас показать, что произойдёт с ней там, но по-моему, нужно совсем не знать людей, чтобы подумать что-то другое.
Молчаливыми кивками поддержала его, как ни странно Вера, а Тася просто застыла, ничего не выразив.
— Ну почему же не могут, — могут. По крайней мере, ей можно вскрыть подкорку сейчас. Мы этого просто не делали и не будем, — почти на пороге сказал Дима.
— И грош цена нам всем, если мы сами, без техники и прочих штучек этого не поймём, и всё сложится как-то иначе, — добавил Лёша.
— Ну, грош не грош, а всё это слишком серьёзно, чтобы предаваться сейчас личным эмоциям и что-либо ставить на кон, — возразил, тем не менее, Дима, — Дело в другом. Теоретически её можно, конечно, зомбировать как угодно (да и то, она может выдавать парадоксальные реакции, оказываться непредсказуемой, а выходок таких, как зомбирование, особенно без спросу, она не терпит). Но предположим, всё у нас пройдёт гладко. Однако, ТАМ она окажется хотя и с нынешней памятью, но совсем с иными психофизическими показателями, и что останется от нашего нынешнего зомбирования — бабушка надвое сказала. Не говоря о моральном аспекте как таковом (а сейчас об этом, вроде, и говорить неуместно, но вообще, это означало бы бороться с преступлением, совершая такое же), — не говоря ни о чём другом, если она там после всего этого зомбированной, как здесь, не станет, но будет всё помнить, мы можем оказаться в числе её злейших врагов, что станет худшим вариантом в любом случае.
— Тогда в ЦРУ она, может, и не пойдёт, — вставила Вера, — но что вытворит — не знаю.
— Вот именно. Я, например, без психотронных и психотропных штучек берусь достаточно точно предположить, что у неё на уме из тех соображений, которые нас интересуют. Тем более, что здесь она изолирована от внешних воздействий. В крайнем случае, можно поговорить с ней лишний раз, — вы прекрасно знаете, как это делается. А мы и так собираемся нанести ей серьёзный интеллектуальный ущерб и хотим заручиться при этом её добровольным согласием... Калечить её напрочь при этом совершенно не нужно, тем более, что и сознательных стимулов здесь окажется достаточно. Как ты, Митя, сказал, «она — не маленькая, и мозги у неё работают прилично». Так что и подавно она в состоянии понять головой, что ЦРУ, даже если наверняка хорошо заплатит, ТАКУЮ информацию оглашать не будет ни за что, а просто выжмет её, как лимон, и потом уберёт без каких-либо вариантов, чтобы не оставалось даже намёка на свидетеля. Но лишний раз заранее ОБЪЯСНИТЬ это ей правильно и аккуратно — не помешает...
На этих словах Тася оттаяла, как будто бы до сих пор боялась услышать что-то другое, и добавила:
— Не помешает. Хотя, всё она понимает и так.
— Да. А в том, что в ЦРУ она не отправится, лично я не сомневаюсь, как и Витька. Опаснее, по-моему, другой вариант: если она решит просто похерить всю шифрованную информацию и не пойдёт вообще никуда, — а то, что знает сама, попытается использовать в собственных целях.
— Я бы так и сделал, — сообщил Алексей.
— Ах, вот оно, твоё подлинное лицо, перестраховщик хренов!.. — засмеялся Дима, — но ты у нас, красавец, никуда и не отправишься, и решил это не кто-нибудь из нас, двуногих, а природа-матушка, так её и разэтак. Алёна же ничего подобного задумать не должна, а мы постараемся нужным образом напомнить ей, что к чему. Здесь должен сработать тот же стимул, который безотказно действует на нас на всех: если она вообще никуда не пойдёт, то мир в подобном случае останется таким же, как сейчас, и всеобщая история повторится практически в точности, включая в общих чертах и наши частные судьбы. Саму по себе, без наших шифровок и нашей информации, а только с её собственных слов, там никто не услышит и не послушает, — бесполезно. Так что мозги она нам предоставит и работать будет. О том, что просидеть там тихо, занимаясь просто своей жизнью, ей снова никто не даст, она знает лучше нашего. Да и даром ей не нужно сидеть тихо и заниматься своей жизнью! — того, что было здесь, она не забудет уже никогда. Кроме того, хотя с нынешней памятью она и окажется там другой, но именно это кого-то сразу же и насторожит. Так что из виду её, предоставленную «себе», не выпустят, рано или поздно к ней всё равно подстроятся и информацию из памяти считают. Чем такое может кончится, она, опять же, в состоянии догадаться и без нас. По трезвом размышлении, не будет у неё других выходов, кроме предложенного. Но не будет и других потребностей, — я же вижу, как всё в ней кипит!.. А уж мы отсюда, через часть шифрованного текста, постараемся отблагодарить её, как сумеем. Что ты хихикаешь? — я не шучу. Если бы она выполнила задание, я был бы ей благодарен всем, чем только бы смог. Другой надежды у нас ни у кого не появится...
— А если она, чтобы обезопаситься, решит устроить предварительный шум через западную прессу, и лишь потом выложит информацию открыто?
— То есть, всё-таки, сообщит всё как есть мировому сообществу? По-моему, она умнее. Тем более, что о столкновении цивилизаций знает уже исчерпывающе, а вытаскивать надо — Россию. Вряд ли она захочет угробить себя и всех. Но напомнить ей об этом — тоже пригодится. Между прочим, и весь мир спасать можно, только вытаскивая эту страну. Но не говоря ни о каких заправилах, мировое сообщество, особенно тамошнее, ничего подобного не поймёт. Алёна обо всём этом тоже догадывается, только говорить о спасении мира и злить её сейчас ни к чему...
— Вот, решаем, решаем... А в конечном счёте через полгода ничего не произойдёт, и всё останется, как было... А мы все — старыми идиотами... — проворчал, как обычно, Алексей.
— Ну так и тем более, не фиг девку тогда добивать, уродуя окончательно мозги и подкорку. И так пострадает плюс ко всему, что уже поимела. КАк в этом случае всё, зависящее от нас, сделать хотя бы для неё после нашей несостоявшейся операции — давно просчитано. И мы в лепшку тогда расшибёмся, чтобы всё у неё хотя бы теперь сложилось как надо (если у всех ещё что-нибудь сложится в этом славненьком мире). Но скорее всего, произойдёт именно то, к чему мы все тут готовимся. В общем, переливать из пустого в порожнее сейчас не будем. Значит, в ближайшие пару дней не забываем во внешней среде, разговаривая и думая, принимать меры и закрывать сознание, чтобы никто ничего лишнего не наслушался. А при этом ничем, кроме текущих дел, не занимаемся и все крепко думаем, КАК выдать ей первоначальную информацию, чтобы не наврать, но чтобы и напугать по самому минимуму, — думаем крепко, быстро и результативно. Это приказ. О встрече сообщу дополнительно.
Дима попрощался и ушёл первым. Остальные тоже стали посматривать на часы и готовиться на выход, каждый в своё время. Проводив последнего, бабушки улеглись спать.
Проснулась Алёна в тот вечер заполночь, ничего, конечно, не услышав и не узнав из состоявшегося в коридоре разговора. Проснулась она именно на воспоминании довлатовского отрывка, который днём зачитывала Диме. Всем, что помнила из этих книг, она опять прониклась, как будто переживая их заново. Ей очень хотелось выдумать подходящий сюжет, чтобы «поговорить» с Довлатовым, но не удавалось: сейчас «он» попросту глухо молчал, сейчас «он сам» совершенно не знал, что сказать...
Алёна ни разу не усомнилась, что вся её нынешняя компания действительно имела самое непосредственное отношение к ФСБ. Каких угодно людей из различных органов она за свою жизнь навидалась, и если она могла ошибиться в ком-то отдельно взятом, то наблюдение их в таком количестве сомнений не вызывало уже совсем никаких. То, что нынешнее общение такого рода резко отличается от предыдущего, она, конечно, видела явно. О специфичности этого конкретного круга Дмитрий сказал ей сам, о полностью нелегальной их деятельности, настолько нелегальной, что разговор об «основательном ребре» оказался новостью даже для Виктора, она подумать, конечно же, не могла, хотя, о наличии группировок в кругах такого плана знают теперь из фильмов даже в детском саду. Как некую группировку за какими-то широкими спинами Алёна их, собственно, и воспринимала.
Но она не знала их цели. Естественно было, что они собираются её как-то использовать. Совпадало ли это с тем, чего хотела и что могла сделать она сама? Почему-то они до сих пор молчали. То, что как женщина она давно не представляла собой никакой коммерческой ценности, Алёна видела. Тем более что в последнее время она старательно подыгрывала такому положению вещей. Правда, здесь, на этом зарытом объекте, она уже сочла нужным привести себя немного в порядок, настолько, насколько хотелось и приятно было самой. Привычных уже палок в колёса ей тут ещё не ставили. Но главным в данном случае оставалось то, что никакого противоречия между их словами, поведением, нынешней атмосферой с одной стороны и тем, что выдаёт тайные или подсознательные намерения с другой, не чувствовалось. Стараясь отслеживать что-то подобное по привычке, она по большому счёту для себя отбросила данную тему как неактуальную. Никакой их нацеленности на то или иное решение вопросов, связанных с её деторождением и наследниками, не просматривалось: хотя нынешние «распорядители» и стремились выяснить все её перипетии, понять намерения и их подоплёки, подобная плоскость, очевидно, заслонялась для них чем-то гораздо более значимым и ценным. И был это, безусловно, диапазон «L».
Через неделю Дима обещал сообщить ей нечто самое главное, и этого следовало, конечно, подождать. Но просто ждать в неопределённости было практически невозможно. Особенно когда не спится ночью. Алёна встала и отправилась на кухню, чтобы заварить себе кофе.
Запертым теперь оказался только конференц-зал. «Ну и ладно, — всё равно я тут ничего не пойму», — подумала она, пристраиваясь на кухне, где для каждой хозяйки были предусмотрены стул и маленький столик, у Алёны — с пепельницей и вытяжкой. Она закурила, сидя за чашкой кофе, а тем временем в спальне Тася присела на кровать Веры, которая уже связалась с мальчиками и сообщала в какую-то непонятную трубку:
— Она встала и опять не спит, но теперь — как-то взбудоражено, нервно...
После короткого телефонного совещания Алёну решили, если ничего существенного не произойдёт, сегодня не трогать, дать напереживаться, о чем бы там оно ни было.
А на кухне, между тем, ей всё-таки «шепнул» вдруг «Довлатов». (Она прекрасно знала, что всё это — её собственное воображение, «замаскированное» собой же и от неё же, но часто такая уж у неё была манера думать, и она не всегда хотела иначе. Правда, случалось и совсем другое, и причиной тому уж точно был не Довлатов и не кто-либо, действительно ей интересный. Она давно уже порядочно научилась различать собственные, даже неожиданные мысли, и привнесённые извне, чужие, ей не свойственные, которые изредка даже могли сообщать ей неведомую ранее информацию. «Новости» следовало немедленно проверять, и проверка могла подтвердить подлинность сообщения, — по психологическому результату сообщения иногда очевидно вражеского. Именно так, правда, в очевидно фальшивом, ёрническом, игровом сне, Алёна впервые узнала о смерти свекрови, умершей не сейчас, а за какое-то время до этого. Здесь, на объекте, ни такого, ни чего-либо в подобном роде не случалось ещё ни разу, и теперь, безо всякого сомнения, эта болтовня с писателем была тоже её собственными «играми разума», которые раньше она, чувствуя, что сознание не защищено, позволяла себе всё меньше.) «Довлатов» ей «шепнул»: «А ты, вообще, думаешь хоть немного, с кем ты имеешь дело?..» — она отхлебнула кофе и подумала «в ответ»: «Ну, это ты меня сейчас провоцируешь их защищать, ты же ничего не знал тогда, хоть и поработал на "Свободе" с бабушкой-вахтёршей, вязавшей что-то у дверей...» — «Да я вообще не знаю уже, что думать обо всей этой клоаке, вместе взятой... Смотри, не нарвись. Хотя, похоже, нарвалась уже, дальше некуда. Как, впрочем, и я — там...» — «Ну да, читала я, что в "Заповеднике" ты КГБ даже "гестапо" обозвал в пылу противостояния, — но ведь сам же знаешь, что всё было не так, что они тебя даже в Америку отпустили или отправили, и умер ты в этой Америке тогда, когда для них, для старого КГБ, уже было всё кончено, — во всяком случае, им было уж точно не до тебя, ещё безвестного, на грани славы. На грани, за которую не дали тебе перейти, — и не дали не они, не отсюда!..» — «То есть, вообще они молодцы большие, да?» — «Да нет, напахали они вот до такой вот степени, что и не опишешь. Мы все напахали. А кто-то был просто сволочью или дураком. Как всегда и везде», — «Короче, это ты — молодец. Хорошо рассуждаешь. Правильно. Ну, нарвись, нарвись ещё разок. А то мало тебе, видимо», — «А что я, могу сейчас что-нибудь изменить?» — «Да куда уж тебе!.. Что ж ты можешь!.. Перестань. Ты-то как раз пока ещё можешь всё. Это я больше ничего уже не могу. Сама теперь и думай...»
Она тут же и задумалась, сама по себе. Но противоречивая информация последнего времени разрывала голову на куски. «Знать бы, что они будут иметь с этого дурацкого диапазона!.. А может быть... Может, его можно продать?!! Вместе со мной, конечно. Я всё время забываю про деньги. А деньги — основа и суть нынешней жизни. Какой фильм ни включи — в органах все делают деньги. И менты (это я по доброй привычке, — папа-то у меня тоже был мент), и ФСБ-шники. Сейчас всё построено на деньгах. Только я об этом опять забыла. Конечно, суть надо искать в корысти. Что у них может быть с этого моего диапазона? — Деньги. Сейчас со всего могут быть только деньги. А если в этом есть какая-то практическая ценность, то хорошо заплатить может... ЦРУ. Или заокеанский бизнес. Или далеко и ходить не надо, — наш криминал. Возьмут, и продадут, как готовый продукт. А искать никто уже не будет... Ну, вот и нарвалась.»
Несколько часов Алёна об этом думала, и сознание услужливо подкидывало ей аргументы в пользу новой версии. И деньги, потраченные на неё сейчас, были, возможно, несопоставимы с теми, которые ожидались в будущем... Лишь около четырёх, расстроенная, она решила перебраться в зал, в котором до этого ужинали все вместе. Со сменой окружающей обстановки всё вдруг переменилось и ей стало легче. Она вспомнила компанию за столом и подумала, что впечатление это никак не вязалось со всем, что она только что себе насоображала. Конечно, она была им зачем-то нужна. Но не вязались эти люди с такими, целью которых было кого-то или что-то продать, не оглядываясь ни на что другое. Она уже насмотрелась, она уже видала всякое под любыми масками. «Хорошесть» их была ни при чём, — за ней сейчас могло стоять, что угодно, и дело было не в «хорошести». Здесь таилось что-то иное. Однако едва она успевала это подумать, в голову сразу же приходило «довлатовское» (вернее, своё собственное, и она хорошо об этом знала, но игры в диалог не могла не продолжить): «Ну, нарвись, нарвись ещё разок. А то мало тебе, видимо»...
Сумка с конспектами, застёгнутая, оставалась в зале. Она расстегнула её, доставала толстенные тетради по одной и начинала пролистывать. Внимание её остановилось на выписке из Лисичкина и Шелепина: «Глубинные слои общественного сознания, менталитет народа формируются на базе исторической памяти. Её уничтожение означает создание массы людей без прошлого, которые имеют интересы только в удовлетворении своих личных потребностей»...
Какое-то время она сидела безо всяких мыслей. А потом вспомнила мысль свою собственную, давнюю, и сказала это «Довлатову»: «Противостоять спецслужбам могут только спецслужбы. Других возможностей нет. А ты просто не знал, что тогда действительно было, кому противостоять, хоть бы там и сто бабушек вязали чулки на входе. С нашей стороны — давно уже порядком очеловеченная система безопасности вела страшную войну, но «берегла» от этого всех остальных. Никто просто не знал, не мог понять, не догадывался, что и зачем они делают. Никто не знал ни западных планов ядерных бомбардировок, ни целей психологической агрессии. А война велась по уничтожению, по дискредитации и их самих, наших спецслужб. В массовом сознании эта система осталась в качестве сугубо репрессивного аппарата. Но никто даже не задался вопросами «почему», «зачем» и «всё ли правда». Они и сами так и не успели понять тогда, ЧТО это была за война. Предателей и идиотов в их ряды сознательно ввели немало. Для меня сейчас проблема в другом. Если ТЕМ связали руки и заставили их проиграть, то что мне сейчас делать с ЭТИМИ и чего ждать от них? Против чего восстать и чему поверить? Ты знаешь, вот этим, конкретным, которых я сейчас видела, я почему-то верю. Почему-то, совсем не понятно, почему, я обрадовалась им в самый первый раз, когда трое незнакомцев не выходили ещё из машины... Потом я сама хотела встречи и ждала развязки. Может быть, конечно, это последняя глупость в моей жизни. Хотя, бежать отсюда всё равно некуда и ничего не сделаешь. Но как-то почему-то бежать не очень хочется. Что-то здесь другое. Или я уже просто очумела. Но они ОТЛИЧАЮТСЯ от всяких разных, от тех и этих, которых я только и видела в последние годы. Они — не торговцы по самой своей глубинной сути, не инструкторы тренинги, не психологи, хотя и понимают во всём этом побольше моего. Кажется, они действительно похожи на ТЕХ, тогдашних, — не КГБ-шников, конечно, а просто разных людей, когда люди были ещё живыми. Ошибаюсь я или нет, теперь остаётся проверить только на собственной шкуре. Но у них ЛИЦА, глаза у них — другие, ТЕ...»
Спать ей по-прежнему не хотелось. Она ещё посидела без мыслей, глядя в видеоэкран с бесконечными аквариумными рыбками, а потом стала почти механически пролистывать достаточно свежий конспект. Это был опять Кара-Мурза, одна из новых его книг — «Россия не Запад». Выписала она здесь очень мало, а заняла её тогда своя собственная интересная мысль. Общество «традиционное» и общество современное, рыночное. Одна из любимых авторских тем. Кем же являлась она сама? Однозначно, она была продуктом традиционного общества и никогда не хотела становиться другой. Но, помнится, мама ещё замечала, и совершенно правильно: «Ты — человек совершенно не общественный. Тебе надо быть всегда самой. Хотя, вроде, и общительная...» Алёна вспомнила тогда за книгой времена своего изобилия дружеских и приятельских отношений, и всё стало ясно. «Традиционное» общество вышло из общины. Но от любого намёка на какую-либо общину она бежала, очертя голову. И сама же при этом чувствовала себя именно «традиционным» человеком, и не могла, не хотела становиться другой. Уж чем она точно не была — это рыночным, либералистическим «атомом». Оказывается, парадокса здесь не было.
Ещё в те времена сама же она и говорила: «Недостаток идеала, или качества, или просто соответствия лично мне — я добираю количеством». Она находила себе много разных «обществ», и на работе, кстати, и вне (и в виде личных дружб, и коллективов), но никакие из них не имели рыночного атомизированного характера, — каждое становилось именно общиной, но только при гораздо большей степени свободы, при возможности и оставаться собой (и наедине с собой), и в любое время менять круг — интересов, людей, увлечений, — ничуть не теряя старые связи... Кто знает, может, и здесь прорастала именно тенденция советского («традиционного») общества, которой так и не дали ни во что развиться, просто подломив у самого корня... Общинные по сути, но получившие уникальное образование в советской школе и советском вузе люди искали себя, искали пути и возможности СВОЕЙ жизни, своей тенденции развития... «А ты сам разве был не таким, разве не к этому стремился, пока оставалась возможность?» — спросила она у «Довлатова», — «Да, это очень похоже на правду, — что-то в этом действительно есть...» — ответил «он». А может быть, всё это было спонтанным бегством от той самой холодной войны, никому не известной, но до всех дотянувшейся, когда просто искусственно становилось невозможным сохранять какие-то ЕДИНСТВЕННЫЕ связи, в которые начинали вмешиваться неизбежно... И это тоже было похоже на правду. В конце концов, Алёна ещё вернулась когда-то именно в ту страну, в которую ехала (если, конечно, сама страна к тому времени ещё могла оставаться собой), а что-то катастрофическое стало происходить в начале 2000-х, и лично для неё абсолютным концом оказался Музей Музеев... До этого, едва её на короткое время оставляли в покое, она успевала начать успешно создавать свой собственный мир, такой, какой и был ей нужен...
Она ещё раз вернулась к своему конспекту, пролистывая выписки из Кара-Мурзы, «Россия не Запад» На с. 106-109 автор писал: «Трудов по систематическому сравнительному структурному анализу России и Запада пока нет. Но отдельных “мазков” этой картины в литературе можно собрать много. Вот, например, А. Безансон пишет: «“Европа” как целое — постепенно вызревший плод уникального исторического опыта. Но можно ли в таком случае сказать, что Россия — часть Европы? пройдёмся по списку главных признаков “европейскости”: средневековая церковь и империя? нет, ничего подобного Россия не знала. Феодализм и рыцарство? нет. Возрождение и Реформация? нет. Таким образом, нет никаких причин считать Россию частью Европы».
Кажется, он даёт убогий перечень элементов для сравнения. Но важна суть подхода. Прочитав этот перечень, человек задумается. Разве в России не было “средневековой церкви и империи”? Да, в западном понимании не было, потому что и церковь, и империя в России были настолько иными, чем на Западе, что вся цивилизационная конструкция оказывалась иной. Мы вспомним, какую роль в судьбе Европы сыграли религиозные ордены — тамплиеры и госпитальеры, францисканцы и иезуиты. Они создали финансовую систему Запада, всепроникающую инквизицию, всемирную тайную политическую сеть и систему образования элиты.
Не было этого в России, как не было и многолетних внутриимперских войн европейского типа [войны удельных князей при феодальной раздробленности — явление принципиально иное]. Столетняя война, война алой и Белой розы — можно себе представить такое в России? Не было походов Карла Великого, превративших Европу в “кладбище народов”, не было и крестовых походов.
Не было в России феодализма [в сугубо европейском проявлении] и рыцарства, а быстро установилось самодержавие. В России было немыслимо, чтобы какой-то рыцарский орден вроде Ливонского владел, скажем, половиной Сибири как независимым государством. Поэтому России и не требовалось “Возрождение”» от тёмного Средневековья, не надо было искать образцов в греческой античности. И такого “национального несчастья”, как Реформация, у нас не случилось — православие не породило в России религиозных войн, уносящих до двух третей населения. В этом смысле наш раскол не идёт ни в какое сравнение. Не было и костров, на которых в Европе в ходе Реформации сожгли около миллиона “ведьм”.
Не было варфоломеевских ночей, не было алхимии и масонства (если не считать мимолётных увлечений западнической элиты). Не было “огораживаний”, превративших большинство населения в пролетариев и бродяг. Не было очистки целых континентов от местного населения. Не было работорговли, которая опустошила западную Африку. Не было опиумных войн, поставивших на грань вымирания Китай. Не было русского Наполеона, не было и русского фашизма — колоссального по мощности “припадка” Запада. [Только такой “припадок” для него вполне естественен и органичен — для всей его цивилизационной схемы. Приплетать сюда сталинизм означает полное непонимание сущности явлений. Сталинизм являл собой социализм (вполне традиционно-общинный строй) с элементами классической восточной деспотии, что представляет собой принципиально другое явление и по проявлениям, и по последствиям. Хорошего в восточной деспотии, уж конечно, тоже ничего нет, особенно тоже на чужой цивилизационной почве, но если ещё кто-то хочет в чём-то разбираться и решать какие-то проблемы, а не продолжать огород городить, то без понимания сущности явлений ничего не выйдет. Кстати, если говорить о восточной деспотии, о принадлежности к ней России и о западном чёрном мифе Ивана Грозного (а не Сталина-Джугашвили), то в последнее время я не раз встречала сопоставления, не оправдывающие Грозного, но и не позволяющие очернять именно Россию с её цивилизационным устройством. Вот, чтобы долго не искать, пример из той же книги Кара-Мурзы, с. 29: «…за 37 лет царствования Грозного было казнено около 3-4 тысяч человек — гораздо меньше, чем за одну только Варфоломеевскую ночь в Париже тех же лет. <…> В тот же период в Нидерландах было казнено около 100 тысяч человек. В Англии как раз проводилось “огораживание” — сгон крестьян с земли и “приватизация” этой земли лендлордами (помещиками). Многие согнанные с земли крестьяне уходили бродяжничать. При Генрихе VIII без суда и следствия было казнено около 72 тысяч таких бродяг. Всё это известно, но многие не могут отказаться от образа России как “империи зла”. Такова сила чёрных мифов.»]
А ведь всё это — конституирующие элементы становления современного Запада. Много чего не было в России, и совокупность всего этого настолько весома, что нежелание видеть её принципиальных отличий от Запада трудно принять за искреннюю близорукость.
Системное описание того, чего не было, ещё предстоит, и это большая и важная работа. Здесь мы будем говорить о тех необходимых элементах, которые есть и на Западе, и в России, но устроены существенно по-разному. <…>
Была, например, у России своеобразная школа. Она складывалась в длительных поисках и притирке к социальным и культурным условиям страны, с внимательным изучением и зарубежного опыта. Результаты были не просто хорошими, а блестящими, что было подтверждено объективными показателями и отмечено множеством исследователей и Запада, и Востока. <…>
Сложилась в Росси за полвека до революции государственная пенсионная система, отличная и от немецкой, и от французской, [и от англосаксонской]. Потом, в СССР, она была распространена на всех граждан, включая колхозников. Система эта устоялась, была всем понятной и нормально выполняла свои явные и скрытые функции <…>.
Сложился в России, примерно за 300 лет, своеобразный тип армии, отличный от западных армий с их традицией наёмничества (само слово “солдат” происходит от латинского “soldado”, что значит “нанятый за определённую плату”). Никаких военных преимуществ контрактная армия не имеет, отечественные войны всегда выигрывает армия по призыву, которая выполняет свой священный долг. Такая армия стране и народу нужна и сейчас — но её сразу стали ломать и перестраивать по типу западной наёмной армии.
Наша система высшего образования складывалась почти 300 лет. Это — один из самых сложных и дорогих продуктов русской культуры, это и матрица, на которой наша культура воспроизводится. Уклад нашей высшей школы, организация учебного процесса и учебные программы — это инструменты создания определённого типа специалистов с высшим образованием, интеллигенции. Заменить все эти выработанные отечественной культурой инструменты на те, что предусмотрены Болонской конвенцией, — значит исковеркать механизмы воспроизводства культуры России. <…>
Известно, что копирование принципиально невозможно, оно ведёт к подавлению и разрушению культуры, которая пытается “перенять” чужой образец. При освоении чужих достижений необходим синтез, создание новой структуры, выращенной на собственной культурной почве. Так, например, была выращена в России наука, родившаяся в Западной Европе, так был создан “конфуцианский капитализм” в Японии.
Попытка заменять автохтонные системы в России на западные симулякры, очень много сказала нам и о России, и о Западе <…>».
И вот — он же, там же, на с. 20: «Россия выросла как альтернативная Западу христианская цивилизация. Она по главным вопросам бытия постоянно предлагала человечеству иные решения, нежели Запад, и стала не просто его конкурентом, но и экзистенциальным бытийным оппонентом — как бы ни пытались государство и элита России избежать такого положения. Политические декларации и Российского государства, и западных правительств нельзя принимать за признание реальной цивилизационной принадлежности большой сложной страны.
Попытка “встроить” Россию в Запад посредством реформ, начатых двадцать лет назад, увенчаться успехом не может. И дело не в экономических ошибках или недостатке средств — этой попытке противодействует массовое, никем не организованное самосознание большинства граждан России и, с другой стороны, организованное и осознанное сопротивление государств и населения самого Запада».
А вот — Самюэль Хантингтон, «Столкновение цивилизаций», — можно сказать, официальная точка зрения современного Запада как такового: «Например, статистический подход рассматривает отношения между Россией и Украиной как между цельными и самоопределяющимися объектами и выдвигает возможность российско-украинской войны. А полицивилизационный подход делает акцент на весьма тесных культурных и исторических связях между Россией и Украиной, а также на совместном проживании русских и украинцев в обеих странах, — т.е. он фокусируется на «линии разлома», которая проходит по Украине, деля её на православную восточную и западную униатскую часть. Полицивилизационный подход снижает возможность российско-украинской войны до минимума и подчёркивает возможность раскола Украины».
Читая, Алёна даже забыла на время обо всём остальном. Начала лихорадочно листать конспекты и нашла, что искала. Анатолий Терещенко, «Чистилище СМЕРШа»: <Военный контрразведчик Ю. В. Тараскин вспоминал>, «что в 1946 году <…> “службу безопасности, или на их языке “безпеку”, этих жесточайших палачей, нам добить толком не дали. Когда в 46-м мы вышли на уровень надрайонного руководства, следы потянулись в ЦК Украины во главе с Хрущёвым. Тут нас и остановили. Тогда и свернулась работа по борьбе с бандеровцами в Ровенской и Львовской областях…” <…> Сняли с должности генерала Трубникова, руководителя Ровенского управления, и генерала Асмолова в Львовской области. А из Киева во Львов перевели по указанию Хрущёва генерала Рясного, как оказалось после, в какой-то степени сочувствующего националистам. В результате чего служба “безпеки” учиняла расправы над нашими людьми вплоть до 50-х годов.
После смерти Сталина, по данным Тараскина, в результате амнистии, проведённой Хрущёвым, вышли на свободу все активные участники УПА — ОУН. В 1950-1960 годах происходило тихое восстановление ОУН. <…> Были случаи приёма проводников идей ОУН в комсомол с дальнейшим карьерным ростом (яркий пример — Леонид Кравчук). А тех, кто им мешал, или запугивали, шантажируя жизнью близких, или под видом несчастного случая или бытовой ссоры убивали. <…>
Например, в “сотне отважных юношей” начинал свою “трудовую деятельность” в качестве разведчика будущий президент Украины Леонид Кравчук. О том, насколько это была серьёзная организация, можно судить по тому, как они вели наблюдение за танковым резервом 1-го Украинского фронта, стоящего в Тучинском лесу в 1944 году, с последующим наведением на него немецкой авиации… <…>
Но есть правда, которая не даёт покоя ни коллаборационистам, ни участникам боевых действий против них. Бесславная полоса ющенковщены на Украине показала, что у “оранжевых” была своя правда, против которой восставали не только ветераны войны, но и все трезвомыслящие люди. Эксгуматоры Бандеры и Шухевича делали своё чёрное дело извращения истории. Воевать за “вильну Украину” в момент, когда наступил мир, Победа и суд в Нюрнберге, а Украина стала единой, соединившись с западными землями, было абсурдно. Красную Армию они понимали — одолеть невозможно, а вот пакостить людям, куражиться над селянами, стрелять в спины учителям, врачам, медсёстрам, библиотекаршам, подвергать изуверским казням невиновных граждан они были “вельми крутыми” мастерами. <…> Надо признать, что бандеровские банды действовали в западных областях Украины до конца 50-х годов».
Алёна, впервые об этом подумав, онемела: «Так значит, то, что Хрущёв подарил Крым Украине, не было ни глупостью, ни «волюнтаризмом»?.. Так может, и всё остальное — и кукуруза, и уничтожение российского нечерноземья, и бульдозеры на художественной выставке тоже были далеко не просто глупостью или не только ею?..» — какое-то время она посидела, переваривая новое соображение. Но мысли её, как и во всяком свободном размышлении, хоть и блуждали иногда, но всё же имели определённый стержень, направление, и она опять вернулась к Хантингтону, теперь с ещё большим интересом.
На с. 64-65 американец Хантингтон пишет: «На протяжении четырёхсот лет отношения между цивилизациями заключались в подчинении других обществ западной цивилизации. <…> “В значительной степени, — заметил Джофри Паркер, — подъём Запада обуславливался применением силы, тем фактом, что баланс между европейцами и их заокеанскими противниками постоянно склонялся в пользу завоевателей. <…> Ключом к успеху жителей Запада в создании первых по-настоящему глобальных империй послужила именно их способность вести войну, которую позже назвали термином «военная революция».”
Запад завоевал мир не из-за превосходства своих идей, ценностей или религии (в которую было обращено лишь небольшое количество других цивилизаций), но скорее превосходством в применении организованного насилия. Жители Запада часто забывают этот факт; жители не-Запада никогда этого не забудут».
Вот, опять Кара-Мурза, «Россия не Запад», с. 22: «Западная русофобия имеет примерно тысячелетнюю историю и глубокие корни. Это большая и сложная идеологическая концепция, составная часть евроцентризма — лежащей в основе западного мировоззрения доктрины, согласно которой в мире имеется одна цивилизация. Эта цивилизация — Запад (не в географическом, а в культурном смысле). Он берёт своё начало от Древней Греции и Рима (античности) и прошёл в своём историческом развитии единственно правильный путь (“столбовую дорогу цивилизации”). Остальные народы (“варвары”) отстали или уклонились с этого пути».
Он же, «Манипуляция сознанием»: «Беда в том, что всю историю видели мы через очки Запада — и изучали общество только западное. Мы учили перипетии споров в Сенате Рима и схваток между Дантоном и Робеспьером, но почти ничего не знаем о цивилизациях ацтеков, Китая и Индии, не говоря уж об Африке. И для осмысления нашей истории и бытия мы применяли аппарат евроцентризма, со всеми его понятиями, идеалами и мифами. Особенно когда господствовал истмат с идеей «правильной» смены общественных формаций. Беда разразилась, когда во время перестройки евроцентризм стал официальной догмой». Там же: «Вьетнам, как и Китай, будучи защищёнными от идей евроцентризма своей культурой, устояли. Самая радикальная ломка всех устоявшихся структур жизнеустройства происходит в России. Сегодня, имея опыт крушения, мы можем понять то, что было трудно даже увидеть всего десять лет назад. На изломе видно то, что скрыто от глаз в спокойное, стабильное время. Так в технике аварии и катастрофы — важнейший источник принципиально нового знания».
А вот что думает американец Хантингтон о возможности европеизации других народов. На с. 210-237 у него есть целый раздел, который называется «Разорванные страны: провал смены цивилизаций». Начинается этот раздел с России, где довольно толково описывается и петровская эпоха, а затем перечисляются и описываются, в частности, Турция, Мексика, Австралия, хотя, он сам же оговаривается, что в отличие от России, Турции, Мексики, Австралия с самого начала [!] была западной страной. И тут же подзаголовок: «Западный вирус и культурная шизофрения»: «В то время как лидеры Австралии в поисках решений обращаются в сторону Азии, руководители других разорванных стран — Турции, Мексики и России — попытались включить Запад в свои общества и включить свои общества в Запад. <…> Покуда оказывается невозможным отказаться от влияния Запада, то успешной будет кемалистская реакция. Но если не-западным обществам суждено модернизироваться, то они должны пойти своим, а не западным путём, и, подражая Японии, использовать всё и рассчитывать на свои собственные традиции, институты и ценности. Политических лидеров, которые надменно считают, что они могут кардинально перекроить культуру своих стран, неизбежно ждёт провал. Им удаётся заимствовать элементы западной культуры, но они не смогут вечно подавлять или навсегда удалить основные элементы своей местной культуры. <…> Политические лидеры могут творить историю, но не могут избежать истории. Они порождают разорванные страны, но не могут сотворить западные страны. Они могут заразить страну шизофренией [расщеплением] культуры, которая надолго останется её определяющей характеристикой».
Но теперь-то (думала Алёна) нынешние хозяева, как мира, так и России, меньше всего озабочены цивилизационным строительством. «Разорванные», «не разорванные» страны — всё это уже почти в прошлом, вместе со всевозможными цивилизациями, включая восточно-славянскую. Чтобы получить прибыль и больше ни о чём не думать, удобнее всего «мёртвый сезон», люди-функции без индивидуальных, цивилизационных и национальных характеристик. Кстати, «интересный» эксперимент искусственного создания общества в истории уже был проведен, и именно он, несколько видоизменённый, продолжается поныне. Это — немецкий «классический» фашизм.
Она опять схватилась за конспекты.
Опять Кара-Мурза, «Россия не запад», с. 159: «…фашизм — попытка искусственного превращения современного гражданского общества в традиционное (более того, архаическое). Это была попытка преодолеть индивидуализм и соединить людей обручами жёсткой идеологии в “сноп”, подчинённый единой воле. Противоестественная архаизация современного общества Германии потрясла весь мир, эмоции затруднили изучение самого явления. Но сегодня, когда страсти немного остыли, изучение фашизма расширяет наши знания об обоих типах общества и тех процессах, что происходят при их насильственной трансформации». С.126: «Очень красноречив тот факт, что весь проект немецкого фашизма, поставившего целью сплотить немцев в искусственно созданное, как в лаборатории, квазитрадиционное общество, с неизбежностью потребовал изменить и представления о времени. Воспользовались философией Ницше, который развил идею “вечного возвращения”, и представления о времени в фашизме опять сделали нелинейным. Идеология фашизма — постоянное возвращение к истокам, к природе (сельская мистика и идеологизм фашизма), к ариям, к Риму, построение “тысячелетнего Рейха”. Средствами идеологии было создано мессианское ощущение времени, внедрённое в мозг рационального, уже перетёртого механицизмом немца. Именно от этого и возникло химерическое, расщеплённое сознание (многие народы имели и имеют ощущение времени как циклического — без всяких проблем). Мессианизм фашизма с самого начала был окрашен культом смерти, разрушения».
Он же, «Манипуляция сознанием»: Считается, что утверждению психоанализа как основы доктрины манипуляции сознанием способствовали успехи ею применения в области рекламы. Но, по существу, на практике идеями психоанализа (не ссылаясь, конечно, на Фрейда) пользовались в своей очень эффективной пропаганде фашисты. Они обращались не к рассудку, а к инстинктам. Чтобы их мобилизовать, они с помощью целого ряда ритуалов превращали аудиторию, представляющую разные слои общества, в толпу - особую временно возникающую общность людей, охваченную общим влечением. Один из немногих близких к Гитлеру интеллектуалов, архитектор А. Шпеер пишет в своих воспоминаниях: «И Гитлер, и Геббельс знали, как разжигать массовые инстинкты на митингах, как играть на страстях, прячущихся за фасадом расхожей респектабельности. Опытные демагоги, они умело сплавляли заводских рабочих, мелких буржуа и студентов в однородную толпу, формируя по своей прихоти её суждения».
Фашисты исходили из фрейдистского сексуального образа: вождь-мужчина должен соблазнить женщину-массу, которой импонирует грубая и нежная сила. Это — идея-фикс фашизма, она обыгрывается непрерывно. Вся механика пропаганды представляется как соблазнение и доведение до исступления («фанатизация») женщины. Здесь — опора на первый главный в учении Фрейда сексуальный инстинкт, Эрос (в психоанализе слово инстинкт имеет иное, нежели в физиологии, смысл; это не безусловный рефлекс, а влечение). Кстати, сам Фрейд был, видимо, восхищён новаторством фашистской пропаганды и в 1933 г. подарил Муссолини свою книгу, назвав его в посвящении «Героем Культуры».
Второй блок приёмов, с помощью которых фашисты фанатизировали массы, обращаясь к подсознанию, опирается на другой главный в психоанализе Фрейда инстинкт - инстинкт смерти, Танатос. Культ смерти пронизывает всю риторику пропаганды фашистов. «Мы — женихи Смерти», - писали фашисты-поэты. Режиссёры массовых митингов-спектаклей возpодили дpевние культовые pитуалы, связанные со смеpтью и погp****ием. Цель была pазжечь, особенно в молодежи, самые аpхаические взгляды на смеpть, пpедложив, как способ ее «пpеодоления», самим стать служителями Смеpти (так удалось создать особый, небывалый тип нечеловечески хpабpой аpмии — СС).
И он же, там же: «Новаторская практика фашизма вообще сыграла очень большую роль в привлечении зрительных образов к манипуляции сознанием. Пеpешагнув чеpез pационализм Нового вpемени, фашизм «веpнулся» к дpевнему искусству соединять людей в экстазе чеpез огpомное шаманское действо — но уже со всей мощью совpеменной технологии. При соединении слов со зpительными обpазами возник язык, с помощью котоpого большой и pассудительный наpод был пpевpащен на вpемя в огpомную толпу визионеpов, как в pаннем Сpедневековье.
Сподвижник Гитлера А.Шпеер вспоминает, как он использовал зрительные образы при декорации съезда нацистской партии в 1934 г.: “Перед оргкомитетом съезда я развил свою идею. За высокими валами, ограничивающими поле, предполагалось выставить тысячи знамён всех местных организаций Германии, чтобы по команде они десятью колоннами хлынули по десяти проходам между шпалерами из низовых секретарей; при этом и знамёна, и сверкающих орлов на древках полагалось так подсветить сильными прожекторами, что уже благодаря этому достигалось весьма сильное воздействие. Но и этого, на мой взгляд, было недостаточно; как-то случайно мне довелось видеть наши новые зенитные прожектора, луч которых поднимался на высоту в несколько километров, и я выпросил у Гитлера 130 таких прожекторов. Эффект превзошёл полет моей фантазии. 130 резко очерченных световых столбов на расстоянии лишь двенадцати метров один от другого вокруг всего поля были видны на высоте от шести до восьми километров и сливались там, наверху, в сияющий небосвод, отчего возникало впечатление гигантского зала, в котором отдельные лучи выглядели словно огромные колонны вдоль бесконечно высоких наружных стен. Порой через этот световой венок проплывало облако, придавая и без того фантастическому зрелищу элемент сюрреалистически отображённого миража”.
Немцы действительно коллективно видели “явления”, от котоpых очнулись лишь в самом конце войны. Эти их объяснения (в том числе на Нюpнбеpгском пpоцессе) пpинимались за лицемеpие, но когда их читаешь вместе с комментаpиями культуpологов, начинаешь в них веpить. Напpимеp, всегда было непонятно, на что немцы могли надеяться в безумной авантюpе Гитлеpа. А они ни на что не надеялись, ни о каком pасчете и pечи не было, в них возникла коллективная воля, в котоpой и вопpоса такого не стояло. Немцы оказались в искусственной, созданной языком вселенной, где, как писал Геббельс, “ничто не имеет смысла — ни добpо, ни зло, ни вpемя и ни пpостpанство, в котоpой то, что дpугие люди зовут успехом, уже не может служить меpой”.
Фашисты эффективно использовали зрелища и кино. Они целенапpавленно создавали огромные спектакли, в котоpых pеальность теряла свой объективный характер, а становилась лишь сpедством, декоpацией. Режиссеpом таких спектаклей и стал аpхитектоp А.Шпееp, автоp тpуда “Теоpия воздействия pуин” (иногда его переводят как “Теория ценности руин”). Исходя из этой теоpии, пеpед войной был pазpушен центp Беpлина, а потом застpоен так, что планиpовался именно вид pуин, котоpые потом обpазуются из этих зданий. Вид pуин составлял важную часть документальных фильмов с pусского фpонта, pуины стали языком фашизма с огpомным воздействием на психику.
В 1934 г. фюpеp поpучил снять фильм о съезде паpтии нацистов. Были выделены невеpоятные сpедства. И весь съезд с его миллионом (!) участников готовился как съемка гpандиозного фильма, целью был именно фильм: “Суть этого гигантского пpедпpиятия заключалась в создании искусственного космоса, котоpый казался бы абсолютно pеальным. Результатом было создание пеpвого истинно документального фильма, котоpый описывал абсолютно фиктивное событие”, — пишет совpеменный исследователь того пpоекта.
В 1943 г., после pазгpома в Сталингpаде, Гитлеp для подъема духа pешает снять во фьоpде Наpвит супеpфильм о pеальном сpажении с англичанами — пpямо на месте событий. С фpонта снимаются боевые коpабли и сотни самолётов с тысячами паpашютистов. Англичане, узнав о сценаpии, pешают “участвовать” в фильме и повтоpить сpажение, в котоpом тpи года назад они были pазбиты. Поистине “натуpные съемки” (даже генеpал Дитль, котоpый командовал pеальной битвой, должен был игpать в фильме свою собственную pоль). Реальные военные дей-ствия, пpоводимые как спектакль! Вот как высоко ценились зрительные обpазы идеологами фашизма.
Тогда не удалось — началось бpожение сpеди солдат, котоpые не хотели умиpать pади фильма. И фюpеp пpиказывает начать съемки фильма о войне с Наполеоном. В условиях тотальной войны, уже пpи тяжёлой нехватке pесуpсов, с фpонта снимается для съемок двести тысяч солдат и шесть тысяч лошадей, завозятся целые составы соли, чтобы изобpазить снег, стpоится целый гоpод под Беpлином, котоpый должен быть pазpушен “пушками Наполеона” — в то вpемя как сам Беpлин гоpит от бомбежек. Стpоится сеpия каналов, чтобы снять затопление Кольбеpга.
Уpоки фашистов были тщательно изучены. Соединение слова со зpительным обpазом было взято на вооpужение пpопагандой Запада. Целая сеpия интеpесных исследований показывает, как Голливуд подготовил Амеpику к избpанию Рейана, “создал” pейганизм как мощный сдвиг умов сpеднего класса Запада впpаво. Очень поучительна pабота истоpика кино из США Д.Келлнеpа “Кино и идеология: Голливуд в 70-е годы”. Можно выpазить уважение к специалистам: они pаботали упоpно, смело, твоpчески. Опеpатоpы искали идеологический эффект угла съемки, специалисты по свету — свой эффект.
Сегодня главным сpедством закабаления стал язык телевидения c особым жанром — pекла-мой, главный смысл котоpой именно манипуляция сознанием. Но телевидение заслуживает отдельной главы».
Алёна посидела немного без мыслей, а потом подумала ещё раз: вот и из меня так же всю жизнь пытаются делать то, чем я не являюсь, и не дают быть собой. И развивают собственный садизм (наслаждение властью над другим живым существом), но других результатов нет. А ведь действительно, едва её на короткое время оставляли в покое, она успевала начать успешно создавать свой собственный мир, такой, какой и был ей нужен… Но об этом она собиралась говорить как раз завтра, которое уже потихонечку наступало.
В конце концов, она решила ждать ту самую неделю. (Как она любила говорить, «Будет день — будет пища. Или не будет»). И теперь уже ушла спать, о чём Вера сообщила «мальчикам», когда они все вместе решили, в конечном счёте, запланированные дела не переносить.
Часть 4. (Ранее: 2 - III).
Спала Алёна не так много и проснулась в такое время, которое вполне ещё можно было назвать утром. Умылась, оделась, прошла в зал и увидела... Анатолия, который непринуждённо болтал с Тасей.
— Привет всем... А про тебя какие-то ужасы рассказывают...
— Алёна, проснулась? Мы уж хотели пока не будить. Привет.
— Доброе утро, — поздоровалась заодно и Тася, — выглядишь ты, вроде, нормально.
— Засекли, что я не спала? Ерунда. Недосыпа у меня здесь ещё не случилось, и в ближайшую неделю не обещают... Ну, так какими ты судьбами-то? — обратилась она к Толе.
— А что мне сделается? Следить за мной никто сейчас не будет, своих дел по горло. Особенно со вчерашнего дня. Не такая уж я птица. А на выходной право имею. Вот я и поехал на своё подобие дачи. Оттуда же и вернусь. А что в промежутке — моё дело. Да и никому это не интересно.
— Так что, весь тот наш разговор кто-то слышал?
— Ещё чего. Мы тоже представление о чём-то имеем. Если бы слышали всё — мне бы уже точно впаяли какое-нибудь неполное служебное соответствие. Не известно, за что больше, за то, чего наслушались бы, или за то, что сумели всё прослушать... Нет, — да и не надо тебе этого, — это наши дела.
— Вообще-то, меня всегда кто-то слышит, и я это знаю. Но не так, не в микрофон... Слушай, Толя, а Димка сказал, что будет полностью в курсе. Он что, здесь? Или слушает по мобильнику?..
— Алёна, ты ещё, наверное, не проснулась. Завтракать-то будешь? Или всё-таки ещё поспишь?
— Да нет, не хочу я спать. Пойду, что-нибудь съем, а главное, горячего попью.
— Помощь нужна? — спросила Тася.
— Не-е-ет. Разберусь.
На кухне Алёна, даже что-то мурлыкая себе под нос, налила большую керамическую кружку чаю, сделала какой-то сложный горячий бутерброд. От ночной тревоги не осталось и следа. Видя перед собой этих людей, она как-то не брала в голову ничего дурного. Тем более что неожиданное толькино появление как будто развеивало какие-то страхи. (Она не знала, что ранним утром, после её ночных бдений, это специально решалось. Дима, занятый сегодня чем-то другим под завязку, но неплохо её понимавший, подсуетился о внеплановом появлении перед ней «пропащего», дабы не оставлять у неё хотя бы этих открытых тем, поскольку ситуация, в которой она оказалась, на самом деле не была простой. Действительно, хотя она прошлой ночью о нём и не вспомнила, но теперь всё как будто бы становилось на места.)
Позавтракав и помыв посуду, она отправилась обратно в зал. Хотела взять чайник, но вспомнила, что для чая и кофе там было всё и так изначально предусмотрено стараниями Веры. Толя был уже один и что-то листал, сидя в кресле. Она сразу спросила:
— Слушай, вы что-то там шифровать собираетесь. Это что, история моей жизни?
— Алёна, ты — явно не жаворонок. Спать точно не хочешь? Ну да ладно. Конечно, шифровать историю твоей жизни с твоих слов было бы верхом глупости. Из твоей истории мы возьмём лишь то, что интересно с профессиональной точки зрения. Хотя, у тебя там всё интересно... Но мы предельно сжато систематизируем это с совершенно определённой целью, о которой Дима тебе обязательно скажет. Основной же текст при этом будет, к сожалению, в десятки раз объёмнее того, что имеет отношение к тебе лично. Но не беги впереди паровоза.
— Ладно.
— В том минимуме, который тебя затронет (как и во всём остальном), мы хотим предельной точности либо самой-самой сути, её причинно-следственных построений, если уж невозможно что-либо точно установить. Но чьей-либо частной жизни это касается меньше всего. Хотя... С просьбами к тебе, конечно, обратятся все, кому не лень...
— Так, Толя, опять начинается какая-то ахинея. Ты, пожалуйста, или объясняй, о чём говоришь, или не говори этого пока. А то я начинаю чувствовать себя очень... некомфортно.
— Извини. На чём вы с Димкой остановились в прошлый раз? А, помню, — на начале твоего четвёртого класса. Рассказывай, пожалуйста, всё, что считаешь нужным. Если что — я спрошу.
— Договорились. Только начну я опять раньше.
На этот раз Алёна рассказала ему о целом ряде «мелочей», которые помнила из детства и которые, как она считала в последние годы, свидетельствовали о неслучайности, неестественности тех или иных событий жизни и черт её характера, об изначальной непредоставленности её в этом доме самой себе и родителям. Анатолий слушал внимательно, своего мнения не высказывал, иногда что-то уточнял, явно на запись. Был ли он согласен с её трактовками, он понять не давал.
— Ну вот, а потом начался мой самый неприятный период, 11-12 лет.
— То есть, это ещё не десять?
— Нет, именно с пятого класса, как раз с одиннадцати. В десять акселерация, конечно, уже начиналась, но ещё не так бурно. А 11 лет — самый страшный год, и по этой причине тоже. Мне собственное развитие было противно донельзя, и кстати, я старалась не переодеваться около зеркала, — всё казалось, что я не одна и лучший способ «маскировки» — не видеть себя самой... В школе я на тот период, конечно, превратилась в изгоя. Хотя, бывшая и последующая подруга была ещё выше меня и тоже тогда не утончённым существом. Но со мной, как мне казалось, происходило нечто, выходившее за все рамки. Начала гипертрофироваться и портиться фигура. А это вообще отдельная тема. У меня тогда выросла какая-то дикая нижняя часть, у одной девочки, с которой мы потом общались — невообразимый бюст, ещё у одной — чрезмерно развитые икры. Хотя, последнее было не столь дискредитирующим моментом, но ей, наверное, тоже доставило много неприятностей. Та девочка была отличницей «от бога», страшно умной, и кстати, к моменту принятия в пионеры — как раз ближайшей подругой Лены Одинцовой. Но всё это, кажется, касалось только нашего класса, а не параллельного... Между прочим, гораздо позднее, ближе к двадцати, у маминой племянницы, тонкой-звонкой, тоже что-то случилось с ногами, хотя, конституция у нас с ней была несхожей абсолютно. А к моменту её замужества (оставившего ей двоих детей, но тоже уже закончившегося трагически, если никто не врёт) всё у неё вошло в норму. Видимо, поскольку он изначально был нездоров, наметилась новая тенденция её уничтожения, а предварительно — моего, на что они тогда рассчитывали, а значит, испорченную фигуру следовало «отменить» и сделать её опять посимпатичнее... Её историю я ещё расскажу вкратце, — сейчас речь о другом. Кстати, позднее все тем или иным способом привели себя в некоторый порядок, — видимо, включая оперативное вмешательство... Но основная масса, конечно, и тогда была в порядке. «Простые люди» такого не поймут совсем (у них, по Кара-Мурзе, как будто отключена способность видеть очевидное), но тебе скажу. Вспомни ещё вопиюще перепорченные фигуры сразу у нескольких популярных актёров-мужчин позднесоветского времени (такая тенденция была даже у Андрея Миронова)... Я в этом тоже вижу искусственный элемент воздействия, возможность влиять на физиологическое состояние для создания определённых общественных настроений. Ведь и делается-то всё по максимуму именно так, чтобы об этом неудобно становилось говорить, чтобы никто не решался заострять проблему на происходящем, чтобы никто не начинал бороться с такими воздействиями как с явлением. Если помнишь, в позднесоветское время стало считаться, что Россия вообще отличается плохими фигурами (но раньше ТАК не было, процесс не оказывался таким уж взрывным, и тем более, это никогда, вроде, ранее не касалось мужчин, особенно, так массово и наглядно). А вообще, один мальчик и из параллельного класса, тоже умный и перспективный, но не в тамошнем явно американском ключе, тоже позднее уподобился в этом смысле ряду актёров, о которых я говорила (упомяну его позднее, в связи всё с тем же вечером встречи на 20-летие выпуска), и судя по происходившему, не удивлюсь, если с ним уже полностью расправились... Ещё кое у кого я замечала нечто, начинавшееся в том же роде, совсем не из школы.
— Рассказывай.
Она рассказала. И продолжила:
— Хотя, люди переживали тогда и пытались принимать меры ничуть не меньше, чем впоследствии, — никому это не было безразлично. И вспомни, как девочки «нового общества», особенно в столицах, вдруг выросли теперь все точёными, как по заказу, без таких диссонансов... Главное, что всё это имеет тот же механизм, что и многие «неприятности» со здоровьем, тем более псевдоестественные убийства. Что хочешь — вырастет (опухоль, например), что хочешь нарушится, лишь бы это со стороны продолжало производить впечатление «естественных процессов»...
— Не смотри на меня так испытующе, — я слушаю тебя по-прежнему внимательно. Продолжай.
— Ну вот, а тот год был страшен для меня отнюдь не только такими проблемами. Именно тогда умер дедушка в день рождения мамы.
— То есть, её отец?
— Да, конечно. Она почти на всю жизнь осталась без дня рождения. Тема дней рождения — вообще отдельная. В раннем детстве у меня самой это было ещё не так, а потом — началось. Позднее был некоторый перерыв в «поздравлениях», а в последние годы — опять по полной. В 40 лет, когда я объявляла голодовку, меня однозначно хотели в течение всего дня довести до суицида. Кстати, ещё расскажу о появлении в Москве в тот вечер передо мной «псевдомужа», — они тогда лоханулись, — видимо, им кто-то подбросил ложную информацию, так что на отчима мужа тот тип был действительно страшно похож, только гораздо моложе и светлый, — я сначала даже ничего не поняла (при чём здесь его отчим и кто-то слишком на отчима похожий), не побежала к нему, хотя топтался он вокруг меня долго. Потом, по прошествии времени, мне стало ясно, что имелся в виду, наверное, именно муж, на которого я должна была по их представлениям среагировать и о котором они могли не знать, что ЭТОТ отец — не родной. Но тогда мне даже в голову не пришло никакой ассоциации с мужем, — я просто осталась в недоумении. Отчим был по-человечески не очень приятный, толстый тип, на восемь лет моложе жены, с которым я всё время оказывалась немного на ножах, что совпадало с отношением мужа, имевшего причины несколько обижаться за мать. Настоящую фамилию мужа, с которой он родился, и место его рождения я всегда знала, фотографии родного отца я видела, — тот был худощавым и очень интересным парнем. Умер рано, в 34 года, когда сыновья были ещё маленькие. Тоже странная история. На родного отца мой муж был страшно похож. А с отчимом — ничего общего, разве что, широкое лицо как факт, но абсолютно другое, и тоже не понятно, в кого (отец-то его широколицым как раз не был)... Главное — довольно характерная походка мужа, которую невозможно было не узнать. А тот тип, которого мне довольно долго пытались навязать в вечер сорокалетия, имел выраженную походку его отчима, так что мне, конечно, даже среагировать было не на кого, особенно издали, — я лишь позднее стала задумываться, что это была за чушь... Но речь — о днях рождения. В позднешкольные времена у меня с этим началась ерунда: большинство из приглашённых, как заколдованные, не приходили. Были дружеские и приятельские отношения, с которыми ничего не случалось ни до, ни после, а в день рождения — приходили трое из десяти-пятнадцати приглашенных... После школы, а особенно в период замужества, это изменилось (уже невозможно стало иначе), и потом — опять невесть что. В Музее Музеев, помнится, в один из таких праздников я специально никого не приглашала, хотела посидеть с родителями, так под конец «сам» катастрофически потёк сортир. (Тема сортира в Музее Музеев, в том кругу программистов, где я работала, оказывалась одной из основных.) И я уже, кажется, рассказывала (или вспоминала?), как в самом Музее меня как-то однажды от «поздравления» кто-то спас... Но что касается мамы, то в день её семидесятилетия я как раз должна была лечь в больницу. Я тогда приехала из первой Москвы, и у меня происходили нехорошие странности с глазами (отчего и пришлось вернуться в Петербург, — тогда я ещё этого не знала, но больше такое у меня не повторится не из-за каких глаз, — я скорее умру, с проклятием, разумеется, чем туда ещё когда-нибудь вернусь). Так вот, ни о каком аутоиммунном диагнозе я тогда ещё не знала, но офтальмолог направила меня ложиться в больницу немедленно. Я наотрез отказалась делать это в день маминого семидесятилетия, сказала, что приду назавтра. Поскольку с тем диагнозом всё было «не так», и судя по срокам, которые я прогуляла со своими симптомами, я уже могла бы временно ослепнуть (но не ослепла), то офтальмолог сказала: «Ну, если с вами за такое время ничего не случилось, то может быть, и один день ничего не решит. Но — под вашу ответственность. Я вам этого не говорила». Так день маминого семидесятилетия я отметила дома. Это — мама. У папы тоже творилось неизвестно что. В день его семидесятилетия, когда я ещё жила в первой Москве и приезжала к родителям на выходные и некоторые праздники, но у него уже начались странности с его родственниками (впоследствии зомбированными напрочь, настолько, что к ним уже немыслимо было относиться как к каким-либо людям), — в день семидесятилетия страшный скандал за столом устроили его одиозный брат и мамина племянница, ещё более одиозная всю жизнь. Больше в той ругани не участвовал тогда никто, но почти все сразу ушли, и семидесятилетие этой грёбанной парочкой было испорчено. Не поделили они тогда, кстати, темы православия... О восьмидесятилетии я говорила уже сто раз. В общем, начинаю обо всём этом рассказывать — меня, наверное, и понять трудно, — сама слышу, что сбиваюсь, перескакиваю...
— Алёна, слушай, а твой день рождения не приходится на эти полгода у нас? Жаль... Всё бы было не так...
— Толя, о чём ты говоришь?!! Всё, все поезда ушли. Больше этого не будет. Не допущу. Ведь не будет же нового Нюрнберга!.. А больше мне не надо ничего. С чем меня хотят поздравить? С тем, что вся жизнь украдена, а теперь я состарилась? Ну да, ещё как у них водится, могут решить под занавес в качестве утешительного приза сунуть мне в зубы какого-нибудь убогого хренка как высшую награду... А даже если и не убогого... И ещё не факт, что захоти я только этого — опять непременно разразится какая-нибудь дрянь. Только хотеть уже больше некого, живых людей не осталось. Нет уж, всё. Если мне ещё предстоит сколько-то дней рождения, буду поминать родителей, которые, оказывается, не были виноваты вообще ни в чём, и буду проклинать действительных виновных со всем их потомством. После всего, что было, раз уж не состоится нового и более адекватного Нюрнберга и значит, у власти навсегда останутся только фашисты, то ничего другого теперь не будет, и пускай своими утешительными призами они сами подавятся от горла до задницы.
— Я, вообще-то, забыл, что тебе до главного разговора следует ждать ещё неделю... Уже шесть дней... Подожди, пожалуйста. Всё должно быть вообще не так. Жди.
— Ладно. Теперь ты, пожалуйста, подожди, — я чаю крепкого выпью на кухне. Потом продолжим.
— Договорились.
Алёна ушла на кухню и отсутствовала минут пятнадцать. Никто её не трогал. Потом она вернулась в зал и продолжила.
— Вообще-то, со смертью деда было нечисто. Был он, конечно, старым и больным, но «ускорить процесс» могли запросто. В больницу его положили «в очередной раз». Тётка, мамина сестра, уехала тогда с маленькой дочерью в командировку именно в Москву. Она, конечно, знать этого ничего не могла (не такой, всё же, была человек, особенно в те времена.) Услали. И в больнице, где она работала, её не было. Дед сначала находился в палате, а потом, в отсутствие тётки, его выставили с койкой в коридор, «потому что храпел». В общем, не было это всё случайным именно в тот день... Хотя, прямого, откровенного криминала могло, как водится, и не произойти. Всё те же психотехнологические штучки... О чём я говорила в целом?..
— О периоде 11-12 лет.
— Да. В школу я тогда ходить расхотела, но прогуливать просто так ещё не давали. Я грела градусник на батарее, брала справки и оставалась дома. Валялась в кровати. Читать начала тогда запоем. Правда, больше всего в тот год, в 11 лет — по очереди «Как закалялась сталь» и «Три мушкетёра». Наизусть выучила. Вот тогда-то я и начала фантазировать очень бурно. В реальной жизни все возможности были перекрыты. Но надо же было чем-то жить!.. А умение фантазировать тогда усовершенствовалось до предела. Я научилась создавать свои миры и жить в них. Вообще-то, научилась не тогда: эта способность была, видимо, врождённой. Но теперь, когда я оказалась предоставлена себе, ей больше не мешало вообще ничто, кроме периодических родительских скандалов, слушать которые из своей комнаты было невозможно, но которые меня не касались вообще никак. Позднее, когда я уже очевидно почувствовала, что всё это забирает жизнь, я справилась с этой своей способностью самым деструктивным образом. Я узнала, что в православии мечтательность, оказывается, считается грехом. По скором и недолгом размышлении я поняла, почему. Всё по той же причине: это крадёт массу реального времени, не принося реальных плодов. Если бы такая способность могла уходить в художественные произведения — было бы другое дело. А у меня не могла, и это — отдельный разговор, — здесь есть, о чём рассказать. Но тогда я ещё, живя и думая под диктовку, во всём, конечно, послушно винила себя. Я просто запретила себе мечтать, фантазировать, и долгое время жила под таким запретом. Естественно, такая ломка натуры ни к чему хорошему привести не могла. Но всё это было позднее. А тогда, в 11 лет, я окончательно нашла, куда можно убежать от этого мира. (Жить-то я хотела, очень хотела именно в нём, но вот этого-то методично и последовательно никто и не давал делать.)
Насколько непростой и неестественной была ситуация у родителей, я окончательно поняла только в последний год жизни отца. Накануне кражи большей части отцовских фотографий один полуродственник вдруг принёс пачечку других, которые раньше хранились, видимо, в деревне. Тогда-то папа и перебрал их все, разложил по пачкам, как раз перед тем, как бОльшую их часть и украли. Видимо, намечалась какая-то фальсификация и с фотографиями. Но маленькую пачечку я видела впервые. Там была как раз фотография его возлюбленной, к которой он уходил от матери. Раньше я знала о существовании той женщины, даже говорила по телефону, было дело (и даже хулиганила в юности, дав её телефонный номер однокласснику и сказав, что говорить можно, что угодно, — он что-то там пошлил, а мы с подругой хохотали), но я никогда её раньше не видела. В общем, было как-то всё равно. А тут увидела впервые. И многое для меня сразу стало ясно. Я, конечно, никому ничего не докажу, — это чувство. Вернее, ряд чувств, знакомых до боли...
— Алёна, тебе не нужно никому ничего доказывать, даже если мы до сих пор чего-нибудь не знаем. Просто говори.
— Короче, эта тётка была, конечно, отцу подсунута, — что-то было там просчитано. Дело в том, что это был абсолютный типаж матери, как на той университетской фотографии, которую он впервые отправлял своим родителям, — только явно красивее, чем мама. (В то время как мама на его первую жену не была похожа абсолютно, то есть искать соответствия такого рода было не в манере отца.) И тогда мне стало до нутра понятно, что происходило тогда с матерью. Раньше я ведь ничего подобного и предположить не могла, а позднее на подобные сценарии этой фашистской деятельности насмотрелась до зубной боли. Они очень любят «чудеса», «совпадения». Так, например, последняя (из известных мне) масонская жена моего мужа (масонская именно в смысле принадлежности к секте, к ложе) была старше его на год день-в-день. И т.д., и т.д., и т.д. И вот, глядя на ту фотографию, мне вдруг стало ясно (просто очень знакомо), почему мама во время той истории так сходила с ума. Вообще-то, она ведь могла и отпустить, могла и плюнуть, а могла и просто взять себя в руки, заставить себя отойти. А тут — нет. Да просто она ЧУВСТВОВАЛА, что её судьбой распоряжаются извне, и отнюдь не отец, не их житейский треугольник, не их отношения. А такое ощущение невыносимо. Она, ничего, конечно не понимая, нутром чувствовала (как и кричала тогда), что здесь — не просто роман отца, никогда не бывшего таким уж правильным, а именно интрига ПРОТИВ НЕЁ. Вот она и встала тогда скалой... Даже про меня забывала, пока не случалось что-нибудь экстраординарное, которое я любила иногда им устроить (тогда уже хваталась за голову и бежала ко мне со всех ног)... Вот она и говорила иногда дикие полемические вещи — наоборот, назло... Когда ТА деятельница со сцены исчезла, и папа захотел вернуться в семью, мама довольно спокойно сказала ему: «Мне всё равно. Как хочешь». Я это помню и меня это тогда удивило. Он всё же вернулся, а вскоре общая жизнь и мои выходки очень их сплотили... В общем, для меня тогда с той фотографией (кстати, не украденной, а как раз сохранившейся) всё стало на свои места. Но это было уже в последние годы и для этого нужно было уже оказаться способной предположить существование вот таких искусственных житейских конструкций по чьей-то чужой человеческой воле, а именно, в целях ведения психологической войны на уничтожение... Хочу только сказать, что всё это включало, конечно, и прямые вторжения, когда родителей «вели» к наихудшим вариантам, и что такие выводы я делаю отнюдь не только из родительских отношений.
А тогда, переходя из пятого в шестой классы, я получила двойку в году по английскому... В целом-то я отучилась тогда нормально: способностей и минимума посещений для этого хватало. Но в иностранном языке, хоть тресни, требуется зубрёжка слов или хотя бы постоянное посещение уроков, где бы они сами запоминались. Абсолютно ничего не делая, язык не выучишь. В общем, англичанка сказала, что ей всё это надоело, и поставила мне в году «два» (пустую клетку в журнале). Между прочим, это был пример реакции моих родителей: они просто нашли мне репетиторшу на летний месяц. Занудства в доме по этому поводу было, конечно, много, и я, конечно, считала, что родители выговаривают мне всё не так, не по делу (возможно, я была и права: они и сами с собой не могли тогда разобраться), но этим всё и исчерпывалось. Я отзанималась с репетиторшей, исправила двойку, и больше таких проблем с английским не было никогда, — с тех пор у меня всегда была четвёрка. Это я говорю по поводу одной из следующих впереди тем: как могло случиться, что моим родителям столько времени в девятом классе ничего не сообщали о другом тогдашнем моём завале, доведя ситуацию до последнего предела? Я уже недавно подумала: ведь все более поздние проблемы назревали и существовали в обществе уже тогда (только МЫ об этом не знали), и не исключено, что уже тогда, в 82-м году, кто-нибудь «умный и авторитетный», как водится, пустил о моих родителях какую-нибудь пакостную сплетню, дискредитировав их в глазах школы так, что учителя БОЯЛИСЬ обратиться в семью, чтобы не наломать дров?.. Если всё это не было сознательным уничтожением меня по принципу «школы двух коридоров», то ничем другим, кроме чьей-то состоявшейся, целенаправленной, дискредитирующей лжи о родителях, я объяснить тогдашнее происшествие не могу... (Один-единственный раз в жизни я получила оплеуху от отца, но это было уже по окончании школы, в Политехе, куда меня устроили по блату, где я не хотела учиться и из которого я уходила. Раз уж заговорила, то придётся сказать потом и об этом, поскольку, немедленно уйдя из дома и договорившись в студенческом общежитии, я потащилась тогда к былой классной руководительнице, математичке, где и столкнулась с искавшей меня мамой, — папа тогда ждал дома и сразу же просил прощения. Но это я забегаю далеко вперёд...)
— Про 11-12 лет ты рассказала всё?
— Нет ещё. Это был очень важный год, именно тогда.
— Понимаю, — потому и спрашиваю. А на самом деле, он для тебя ещё важнее, чем ты думаешь. Но это — тоже потом.
— После моих занятий с репетиторшей мы с мамой тогда на свою голову умудрились отправиться в отцовскую деревню. Она наверняка хотела таким образом быть поближе к отцу и приблизить меня. Вернее, я-то ничего не решала, а ей этого делать не следовало. (Но она в тогдашнем содоме и вообразить не могла, что это плохо кончится.) Бабушка, отцовская мать, когда-то в молодости решила, что будет любить своих невесток и никогда не станет их обижать. В результате, всех невесток она всю жизнь ела поедом, благо, никто из них не жил постоянно вместе с ней. (А невестки-то все, как одна, были у неё с высшим образованием...) В общем, приглашали в гости они, бабушка и её дочери, отцовские сёстры, всегда очень ласково и многообещающе, а кончалось тем, что невестки, схватив детей в охапку, убегали оттуда гораздо раньше намеченного срока. То же было и в тот раз. Мама взяла меня и уехала очень быстро. Но сейчас в связи с этим главное другое. И мне опять придётся теперь забежать далеко вперёд, аж в первую Москву. Дело в том, что работая там в фирме недвижимости «начальником отдела» рекламы, я жила в офисе той же фирмы и очень много писала по электронной почте... Гошке Бардашкову в Америку. А была я тогда как раз недавно напроходившейся курсов у «фиолетовых» аж до звания «ультрафиолетовой», мозги были совершенно законопачены психологией, и помимо вечного желания просто писать (хотя бы письма, поскольку возможность иного творчества оказывалась перекрытой, но об этом — потом), у меня держалась ещё сильнейшая потребность докопаться до чего-то в области своей психологии, а внешних причин я ещё не видела так, как впоследствии. И вот, рассудив, что Бардашков живёт в Америке и писать ему так далеко — это как себе самой («никто никогда ничего не узнает»), я и изливала ему целые скатерти писем, — всё, что в голову придёт. Он читал и отвечал (хотя и по-английски), и это было всё, чего мне хотелось. Иногда мы с ним ещё и разговаривали по международному телефону. Заподозрить в нём уже состоявшегося предателя я тогда ещё не могла никак. В отличие, как оказалось, от органов МВД РФ (если не врёт). Предательство я имею в виду, конечно, не политическое (он просто сменил гражданство, открыто и абсолютно легально с обоюдного согласия обеих сторон), а человеческое. Молодые директора той фирмы, где я работала, на мой рассказ о нём и на сообщение о его будущем приезде в Россию реагировали как-то негативно и немного нервно (далеко не по каким-то личным причинам). Когда я приезжала в тот год одновременно с ним в СПб, и он уже проводил меня на обратный поезд в Москву, то, как он сам потом рассказывал, едва мой поезд тронулся (то есть, мне дали уехать), его с платформы забрали в милицию и, хотя он там устроил истерику со своим американским паспортом, продержали час, устанавливая и проверяя личность, — потом отпустили. Но времена былой дружбы на мне сказывались очень сильно, — я даже тогда ничего особенного не подумала.
— Что ты там говоришь о предательстве? В том смысле, что уехал в Америку?
— Да бог с тобой. Кто куда хочет, тот туда и едет. Предателем можно быть, и никуда не уезжая.
— Это точно.
— И того, что он не любит Россию, я не имею в виду. Кто что хочет, тот то и любит. Или не любит. Хотя, так уж открыто он не высказывался, — соображал, что к чему. Я говорю о том, чтобы гробить людей, с которыми вырос. Особенно за деньги. Кроме меня, там был ещё ряд неприятных историй. Хотя, многих деталей я не знаю. Могу в чём-то ошибаться. Но не думаю, что по сути. Другое дело, что с определённого момента он мог оказаться просто зомбированным, просто начавшим выполнять команды, и из-за связи с Америкой — более зомбированным, чем другие, здесь жившие. Ещё накануне отъезда в Штаты он, помню, «отвлечённо» разглагольствовал о том, что понятия «продаться» не существует, ведь все продают свою рабочую силу, и вопрос — лишь в том, за сколько. По причине «отвлечённости» рассуждений, большого значения я им не придала. Но в Америке он сразу устроился блестяще. Я тогда с такой точки зрения ещё ни на что не смотрела, хотя он делал очень странные вещи. На излёте той интенсивной переписки он даже откровенно подставил меня перед директорами по интернету. Я ещё считала, что он просто сделал глупость, и высказалась ему, но и только. Позднее, с 2006-го года, я, как ты знаешь, жила во второй Москве и уехала отсюда с болезнью и смертью мамы. В день сорокалетия он, говорят, пытался меня поздравлять, но я с ним не разговаривала, уже живя здесь (неужели не знал?!!) и общаться больше не хотела. Через несколько месяцев после маминой смерти он позвонил мне в СПб. Я попросила его больше сюда не звонить и повесила трубку. Но это — уже самая концовка. А тогда, в 2000-м, ещё до основного потока тех моих писем, он даже приезжал в СПб из Америки сам, и я тоже приезжала, мы с ним виделись, — когда его и прихватила милиция на платформе. (Появлялся в России он и позже, но я иметь к этому отношения уже не желала.) Во время той обоюдной поездки в СПб он, помнится, восхитился тем, как я выгляжу, и философски заметил, что многие здесь тонут, а меня, похоже, «пожевало-пожевало, да выплюнуло». Это тогда и оказалось началом моего конца. Но это — отдельная тема, к которой я ещё вернусь. Сейчас важно другое: что в письмах 2000 года, зачумлённая тогда «фиолетовыми», я описывала ему ту детскую поездку в деревню и тех родственников, бабушку с дочерьми, с сёстрами отца, считая, что из Америки он никогда ни с какими моими родственниками не пересечётся и не будет иметь ни к кому отношения, так что писать можно без ограничений...
Тогда я ещё интенсивно искала виноватых и по «фиолетовой» привычке старательно разбирала, что мои родители сделали не так. (На тренингах они открыто к этому не призывали, но на деле у многих, кто прошёл их курсы, всё сводилось туда же.) Каких-то «психологических» разборок я тогда понаписала, возможно, много, но опять же, я писала в Штаты, «на другой конец света», и совершенно не могла себе представить, что мне и кому-то ещё всё это может сильно аукнуться... В общем, я, увлекаясь, подробно писала ему о той поездке с мамой в деревню. И сказала потрясающую вещь, которой тогда ещё сама даже не поняла.
В той деревне тогда, в мои 12 лет, с определённого момента (после перехода «критической» точки нашего с мамой и других «гостей» пребывания там по времени), действительно начинало происходить что-то аномальное, — травля бабушкиных невесток и их детей начинала зашкаливать. Всё, конечно, на почве, выеденного яйца не стоившей (у нас с мамой — из-за семечек, которые я, абсолютно городской ребёнок, учившийся в английской школе, действительно не умела тогда «лУзгать»).
Параллельно в тех письмах я, конечно, пыталась разбирать и всё более аномальную ситуацию в московской фирме, где тогда работала. Какие-то перипетии холодной войны мне ещё, конечно, и в дурном сне тогда не снились. Но в фирме у меня, после «большой дружбы», определился однозначный враг, Рябочёв, один из начальников отделов, которому я, «независимая», не подчинялась вообще (распоряжались моей деятельностью только сами директора), но которому было очень уж небезразлично, как у меня складываются дела, как относится ко мне руководство (ему очень хотелось, чтобы плохо), и которого я, видя какие-то его чрезмерные возможности, подозревала «в связях с КГБ», а мне кто-то, как я не однажды говорила и писала, усиленно подыгрывал, чтобы я винила именно ФСБ. То есть, как передо мной («никем») почему-то очевидно подставляли любимого директора, а не только меня перед ним (я уже тогда это заметила и описывала), так же и эту организацию (ФСБ), видимо, продолжали подставлять перед всеми и вся. В общем, в том, что тогда творилось, чёрт ногу сломит, но интриги Рябочёв вёл по-настоящему и всерьёз, и делать это он умел профессионально, великолепно зная психологию и вертя, как хотел, подчинёнными девчонками, их настроением и отношением к кому угодно, что сказывалось не только на мне.
Ещё раз напомню, что для меня это были совсем другие времена, совсем другое мировоззрение, да ещё и постперестроечное, постгерманское, когда я, наслушавшись пропаганды, чувствовала себя вовсю «демократкой».
В общем, я обо всём этом думала в меру тогдашних возможностей, и написала Бардашкову: «Вспоминая ту деревню и уже не зная, что ещё подумать, я была почти готова решить, что и там наследил, насворачивал всем мозги Рябочёв, — настолько ОДИН И ТОТ ЖЕ ПОЧЕРК, ОДНА РУКА. Но только... мне тогда исполнилось 12 лет, а Рябочёв, как я вдруг вспомнила на половине тех соображений, был младше меня на год...» В общем, неосознанная прозорливость моя в том письме оказалась великолепной, но это-то и могло насторожить Бардашкова и кого там ещё, и окончательно что-то решить... Ещё раньше, в СПб, я писала ему в Америку от руки о каком-то музее, вся в эмоциях, а он по телефону или в письме отвечал: «Потрясающее письмо. Юмор такой, что я не разгибался. Но и "душа из яво капает"»... Нельзя было такого делать, нельзя было писать в Штаты таких писем, ни от руки, ни, тем более, впоследствии электронных. Чревато чем угодно, а уж о вероятных фальсификациях я и не говорю. Но разве тогда, при полной ещё неискушённости и будучи только что обученной «фиолетовыми», что все кругом желают тебе только добра, поэтому ко всем надо относиться с любовью, — разве возможно было предположить что-нибудь подобное!.. Вот, забежав ещё и вперёд, об 11-12 годах, о пятом классе школы я, вроде, закончила...
— И хорошо. Пойду, скажу нашим дамам, что можно уже скоро пообедать. Это мы все вместе и проделаем, как только будет готово. Торопиться, насколько я понимаю, никому не нужно.
Толя вернулся почти сразу с обеими бабушками, которые обе несли по небольшому подносу. Вера сказала:
— Мы решили, что обедать ещё рано. Анатолий немного проголодался, так мы устроим что-то типа ланча. Здесь бутерброды, зелень и фрукты. Но если ты уже хочешь обедать — сейчас что-нибудь придумаем.
— Нет-нет, как раз очень хорошо. Мне тоже обедать ещё рано, а Толя пусть поест пока, сколько хочет.
На том и порешили, и все уселись за стол. Тася поинтересовалась:
— Алёна, ты не возражаешь, если мы у тебя тоже что-нибудь спросим?
— О, господи, какие проблемы! Спрашивайте, конечно. Тут уже «такая пьянка», что если вы вдруг не займётесь сейчас психологией, то думаю, проблем не возникнет.
Все рассмеялись, а Вера ввернула:
— «"Далась ей эта психология!.." — проворчал следователь»...
— Ну, да... Так спрашивайте, что там.
Тася начала:
— Не беспокойся, с тобой сейчас психологией заниматься никто не будет. Нам ты и так нравишься.
Алёна изобразила шутливо-утрированный благодарственный кивок, а та продолжила:
— Скажи, пожалуйста, а кто-нибудь тебе прямо говорил, что ты сделала, в чём виновата, почему так попала, как кур в ощип?
— В том-то всё и дело, что нет. Думаю, здесь, как с несуществующим папиным сыном: всё откладывалось на «после смерти», чтобы парить потом меня и всех остальных. Ему просто невозможно было об этом сказать, потому что никакого сына не было, и он бы эти домыслы опроверг, — да он бы просто задохнулся от негодования... Так же и здесь: мне нельзя ничего предъявить, нельзя ничего вытащить на свет и открыто предать огласке, просто потому что в действительности ничего нет. Другое дело — после смерти, когда опровергнуть уже никто ничего не сможет и не испытает потребности, и по большому счёту всем будет всё безразлично, лишь бы сплетни пособирать, чтобы скучно не было. А там уже могут и «документы понаходиться», — я сама видела некоторые «посмертные бумажки» сомнительного происхождения. И никто уже ничего никогда не выяснит. А общественный психологический эффект произведён будет. Так, например, та женщина (мы с ней вместе работали в Горьковке перед поступлением в университет, только я тогда уже ушла из Политеха и была старше), — женщина, у которой примерно с её совершеннолетия мать всю остальную жизнь лежит больная, почти совсем обездвиженная, но в полном сознании, а дочь кормит её через воронку в живот тёртой, специально приготовленной пищей, потому что, кроме прочих органов, удалён и пищевод. Диагноз матери был поставлен на основе весьма сомнительных обследований (сейчас такое заболевание диагностируется иначе), но в любом случае, диагноз этот никак не предполагает удаления половины внутренних органов несмотря ни на какие сопутствующие заболевания. Что же с ней случилось — никто по-настоящему так и не знает, а домой к ним ходит какой-то «свой врач». Но речь сейчас не о матери, а об отце.
— Алёна, я знаю, что Полковнику ты об этом писала, — вмешался Толя, — а ещё кому-нибудь говорила?
— На каждом углу. Когда в СПб я подавала заявление в ГУВД по поводу странных компьютерных «взломов» и была приглашена в отдел «К», я там тоже к слову поминала женщину, давно лежащую без половины органов. На этих словах оперативник (правда, оперативник не по профилю) поднял брови, но уточнять ничего не стал. А ведь никому давно уже ничем не поможешь и здоровья, как и угробленную жизнь дочери, всё равно не вернёшь. Дочь когда-то сама предпочла остаться с матерью, не бросить её, и сделала всё, чтобы та жила хоть как-нибудь. Телевизор к ней поставила, телефонный аппарат, поскольку трубку держать и номер набрать она могла... А произошло всё в позднеперестроечные времена, когда у меня самой были родственники врачи (я, как и она, очень уважительно относилась к людям этой профессии), и тогда ещё всем казалось, что если врач сказал — значит, всё так и есть. В принципе, они могли и не быть виноваты, — я не случайно всё время настаиваю на возможности внушения и вторжений в сознание. Но речь в данном случае о её отце... Я вам, наверное, спокойно поесть не даю?
— Алёна, как говорится, поживи с наше, — ответила Вера, — Для нас это — обычные будни, и благо, что ты вообще сама всё говоришь. Продолжай. Кто хочет есть — наестся за милую душу. Это уж точно не твоя забота.
— Ну, так вот. История смерти её отца — совсем уж странная и явно связана с их квартирой, в которой тоже «нечисто». Дочь тогда как раз работала на домашнем телефоне в фирме недвижимости, занимаясь арендой, но договорилась и об обмене их квартиры.
Надо сказать, что отец её, бывший инженер, спился, и как-то вообще «плохо кончил» к тому времени, был зол на перестройку (изначально) и на всю ту ситуацию с матерью, что-то в ней подозревая не то. В общем, дочь захотела его отселить (он был «за»), нашла фантастический вариант. Возможно, потому и нашла, что это была изначальная липа, и кто-то заранее знал, что обмен не состоится, трёхкомнатная квартира останется целой. В общем, она «нашла» такой вариант обмена, что они с матерью должны были ехать в двухкомнатную квартиру там же, в СПб, а отец — кажется, в подмосковный Чехов в однокомнатную, в соседнем подъезде от того, где жил его двоюродный брат или тоже кто-то столь же близкий... В общем, вариант какой-то запредельно удачный. (А у самой той женщины, годами сидевшей дома и, кроме телефона, непосредственно общавшейся почти только с интернетом и со «знакомым врачом», мозги тоже уже очевидно были припорошены, — «нехорошая квартира» там тоже могла играть свою роль.) Все всерьёз ждали обмена. И вот, её отец отправился за пивом и по дороге сломал... обе шейки бедра. Домой вернулся, как она рассказывает, сам. Всё последующее было историей его угасания. Та женщина в трёхкомнатной квартире получила в двух комнатах по лежачему инвалиду: маму и папу. Лежачий остаток жизни отец её провёл, естественно, злым и агрессивным. Она зачем-то, возможно, ради пенсии, хотела поставить его на психиатрический учёт, но это оказалось невозможной морокой (так и не смогла). Её отговаривали изо всех сил. Наверное, ещё и лишние свидетели были не нужны, а тратить дополнительные деньги, чтобы заткнуть им рот, никому не хотелось. Когда я, например, разок к ней заходила (а живут они в СПб очень далеко, на приличном удалении от метро, и тратить на поездку надо день), с мамой я, как обычно, шла здороваться, а к отцовской комнате она меня и близко не подпустила, так что я его тогда не видела и большего не знаю.
В конце концов, отец умер от инсульта. Она говорит, что умер страшно тяжело. Так вот, к чему я это рассказываю. После смерти отца, после всех посещений, она делала генеральную уборку и нашла... свёрнутую в трубочку какую-то его психиатрическую справку. Как она сокрушалась, что ничего не знала об этом раньше!.. Но конечно, никто уже больше не проверял ни подлинность той справки, ни что вообще это было такое. Только дочь окончательно успокоилась, что смерть отца была, значит, «закономерной и необходимой»...
— Когда он умер?
— Не столь давно, уже во времена Музея. Я тогда как раз думала, что кто-то всем этим занялся, и теперь всё нормализуется. Звоню ей — и такие новости...
А в 1995-м, когда я приехала из Германии и уже рассталась с тогдашним здешним любимым, была вся в раздрае, — тогда повесился гражданский (второй) муж той самой школьной подруги. Она, по её словам, как раз хотела возвращаться к первому, законному, от которого дети. Он приехал в отпуск, работая тогда в основном в Сибири за приличные деньги, куда его, когда у них в доме начались потасовки, устроил его тесть, тогда ещё живой, — но приезжал он вообще относительно часто. Разборка, кого из них она любит, продолжалась очень долго, а она могла им назначать свидания в одно время и в одном месте, что кончалось дракой. Как только тот повесился, она в течение короткого времени поняла, что любила-то как раз того, повесившегося. (Через пару-тройку лет там всё устаканилось.) Я не думаю, что это — её собственная натура. Скорее всего, обработкой школьных и послешкольных времён в ней были сознательно активизированы какие-то тёмные инстинкты, — она уже тогда плохо соображала или соображала частично не своим умом. Всеми нами вовсю уже кукловодили, так что если посмотреть на те истории целиком за долгие-долгие годы, закономерности и сценарии проявляются однозначные. И вероятно, я, уже расставшаяся с бардашковским однокурсником, вся тогда в несчастной любви, должна была сообразить, что как только сама повешусь, меня тоже сразу полюбят... (Эти психотехнологи, как я не раз замечала, любят многофункциональность, то есть одним ударом достигать нескольких целей. Но тогда ещё ничего этого в голове у меня не было, — я с ней возилась, как дурная мамка, и помнится, ночью «не давала прыгать в окно». Вернее, наоборот, когда она «собиралась», раскрывала окно пошире и говорила: «Прыгай!» — она: «А у меня де-е-ети...» — «Тогда не тренди». Наверное, ей было действительно со мной интересно, — потому и не хотела отпускать...) Разговаривать с милицией, встречать дома вместе с ней из командировки её собственного отца, участвовать в похоронах и несколько дней откачивать «вдовушку» на даче мне тогда вместе с её первым мужем пришлось. (Было лето.)
Тот её второй гражданский муж был человеком своеобразным. Утончённым, в отличие от первого, работяги. Инженер-химик. Пописывал стихи. На нервах у него играть, видимо, было одно удовольствие. И тоже происходила разборка, едет у него крыша или не едет. Вообще-то, не ехала, — просто очень был восприимчивый и актёрствующий, иногда заигрывавшийся. (Тоже, наверное, под прицелом соответствующих кругов.) Когда я увидела его впервые, начитавшаяся в Германии писем той подруги, глаза его мне показались несколько безумными. Но неадекватным я его не видела ни разу. На работе в женском коллективе химиков, откуда она и сама ушла вместе с ним, он был всеобщим любимцем, — тётки соперничали. Хотя, речь о самоубийстве шла там часто. Тем более никто не думал, что он это сделает. Перед их знакомством он хотел даже завербоваться в Югославию, где шла война. Может, это было бы и лучше: мертвей, чем в результате, не стал бы, а мозги бы, глядишь, и проветрились… Если только дело было в его мозгах, а не в чём-то другом. С её слов, как-то раз она отбирала у него на кухне серную кислоту, которой он обычно травил металл и которую теперь якобы собрался пить, чтобы покончить с собой, и случайно плеснула её на себя, — огромный ожог на теле остался навсегда. В общем, творилось там чёрти что.
Так вот, после суицида и через несколько месяцев перемалывания «что и почему», всё продолжавшегося, она вдруг показала мне «его стихи», которые он в последний год жизни написал от руки разборчивым почерком и которые якобы лежали у неё всё это время. Это совершенно однозначно были стихи психически больного человека, не неряшливые, не рассеянные, не на первом подвернувшемся клочке, но аккуратные и такие, что всё это было всерьёз, клинически, так, что он забыл, что вообще писал и зачем, — любой психиатр приложил бы это к истории болезни. Тогда я уже возмутилась: «Да ты что, всё время об этом знала? И продолжала так себя вести, как ни в чём не бывало? Да это же просто убийство! Ты должна была принять совсем другие меры, и во всяком случае, не играть в треугольник! Почему ты мне показала это только сейчас, а не тогда, пока он был ещё жив? Почему не показала просто раньше, когда всё уже стряслось, но было ещё свежо и все думали, как это случилось и что произошло?» Не помню, что она ответила. Началось, наверное, какое-нибудь перемалывание из пустого в порожнее. Но поразителен сам факт: все жареные новости она всегда старалась выдавать немедленно, а это показала лишь через несколько месяцев после его гибели, и действительно, так себя тогда повела... Его ли это были стихи, его ли почерк? Или кто-нибудь одолжил ей чужие, стрельнув из диспансера, чтобы показать «публике»? Никто никогда не узнает. Но вопрос с суицидом для знакомых оказывался как бы решённым... Не исключено, что когда я после всего этого уже очевидно не повесилась следом, кто-то просто решил, что историю теперь надо психологически «закрыть».
— 1995-й год?
— Да, лето, где-нибудь начало августа. В общем, это — два примера посмертных «разоблачений», которые приходят в голову сразу. Но подобный «заговор» молчания — это технология, применяемая не только посмертно. Подождите, где моё эссе?..
Она опять порылась в сумке, всё время пока остававшейся в зале, и вытащила книжку.
— Вот, я писала ещё в 2009-м, упоминая статью Станислава Лекарева, историка спецслужб. Слово «завербованные» здесь взято в кавычки, поскольку имеются в виду не те люди, кого явно вербовали, а те, кто различными способами, более всего ложью, приобщён к тем или иным преследованиям других, причём, так, чтобы считать себя правыми и испытывать некоторый азарт. Мне самой это очень хорошо знакомо по тому, что делал когда-то вокруг себя Рябочёв. Вот моя же цитата:
«Если о человеке "обоснованно" (или даже совсем необоснованно, — именно к такому выводу пришёл когда-то Геббельс) поведать, что он грустен и подавлен, потому что совершил некое грязное преступление, избежал правосудия, но продолжает пребывать в страхе, то "завербованные" могут почувствовать себя "судиями" и травля будет тем более жестокой, — а сам объект травли даже знать не будет её причин: до него эти слухи не дойдут, ему никто ничего не скажет, предполагая, что поскольку он всё это, конечно, скрывает, то заведи подобный разговор, "начнёт только врать и оправдываться"».
Я-то всё время пытаюсь добиться открытого разговора, но это не делается ни в какую. Кому-то не выгодно. С другой стороны, какую ещё фальсификацию они могут устроить при таких возможностях — никогда не знаешь...
А вот ещё интересно, к той же теме. Эти цитаты взяты из последних записей, из книги Лисичкина и Шелепина «АнтиРоссия»:
«Один из эффективных методов — метод большой лжи, успешно применённый и обоснованный Гитлером, который писал: "Если уж врать, так врать нагло: в большую ложь охотнее верят, чем в малую... Люди сами иногда врут в мелочах, однако большой лжи они стесняются. Следовательно, им и в голову не придёт, что их так бессовестно обманывают..."»
Так что, никто мне, конечно, ничего не говорит, и уже давно. А со времён «СРусИнформ» я заставила себя перестать об этом беспокоиться в ходе повседневной жизни: пока ситуация не изменилась кардинально, это просто бесполезно. Тебе всё равно никто ничего не скажет и ты всё равно никогда ни в чём не оправдаешься, поскольку море лжи будет только увеличиваться и топить, а под следующую ложь тебя будут ещё и непосредственно подставлять. В насквозь прогнившей системе бессмысленно что-то ремонтировать.
Вот Бардашков, например, как со временем выяснилось, мечтал видеть меня клинической сумасшедшей, причём, он не просто чему-то там верил, а собирался СДЕЛАТЬ это, поспособствовать лично. Судя по ряду его неосторожных или просто наглых телефонных высказываний, он сознательно вёл интригу. Только он был не первым, и не с него это началось. Возможно, именно это и являлось частью общего сценария изначально. А Барбисовин, вероятно, рад бы обвинить меня в чём-нибудь в связи с московской фирмой недвижимости. Только сделать это открыто невозможно: не в чем. О других не скажу (конечно, там не так всё просто), но я сама как раз и была жертвой во всей той истории. Кроме факта начала компьютерного дизайна (если «фиолетовые» к этому не вели меня изначально, чтобы отвлечь) и не слишком высокой зарплаты, выгод я не получила никаких. А фирма существует поныне, с тем же руководящим составом... Кстати, я думаю, что и здесь могла крыться причина «исчезновения» письма, написанного Барбисовину в 2005 году, его последующей просьбы («Больше не пишите. Вообще ничего») и упорного его молчания по этому поводу: то письмо содержало слишком явное противоречие интриге, которую пытались плести вокруг меня именно в связи с той фирмой. Но я уже не буду забегать далеко вперёд. Ты, Тася, задала один вопрос, а я вот развела тебе ответ минут на сорок...
— Зато, исчерпывающе. Ну, что, забрать поднос, проживёте до обеда, или оставить пока?
— Ой, Тася, Вера, спасибо вам большое. Толя, ты как?
— Я так же.
Бабушки ушли, а Толя спросил:
— Ну что, последовательный рассказ ты закончила твоим пятым классом. Продолжишь?
— Естественно. Пережила я как-то эти 11-12 лет. В 13, между прочим, стала ездить верхом. Потихоньку взрослела, немножко хорошела, изживала кое-какие проблемы. В 11-12 мечтала стать следователем уголовного розыска. Как я позже догадалась, я имела в виду оперативника. Но насмотрелась «Знатоков», ничего не поняла, увидела, что Знаменский главнее, и решила, что буду следователем. Наверное, я чувствовала преступление, которым никто другой не занимался и не будет... А может, и не в этом дело, не знаю. Папа мне тогда говорил: «Нет, в милиции ты работать не будешь. Там грязи много», — я, наивно: «Так я ведь и собираюсь с этой грязью бороться!» — он: «Нет, я другую грязь имею в виду. Ты ещё маленькая и не понимаешь»...
— Молодец, папа.
— Ну, как бы ни было. Лет в 13 интересы у меня стали немного меняться. Снова появились стихи, но ещё мало. Выглядеть я стала гораздо лучше. Приближались те самые 15 лет, а им предшествовали, само собой разумеется, 14. С 11-ти включительно прошло лишь четыре года, но они казались эпохой, долгой-долгой, нескончаемой, в которой произошло и изменилось очень много всего... Шёл как раз 80-й год, середина. Лето, Олимпиада. Впечатление помню, — оно было довольно ярким и светлым. В предыдущую-то Олимпиаду мне только исполнилось десять, — этого я совсем не помню и ничем таким не интересовалась. Так что из осознанных это была, собственно, первая. Родители телевизор всегда смотрели, что-то из предшествующего в памяти осталось, но не так дифференцированно. Разве что, из зимних видов было позднее увлечение фигурным катанием, которое уже не имело ко мне отношения. Особенно я увлеклась, помню, Черкасовой и Шахраем. Ещё, конечно, был хоккей, Третьяк, победы над НХЛ. Впечатление тоже сохранилось. Но тут — «настоящая» Олимпиада, столько шума, весь мир — в Москве, молодость, начало жизни, музыка, олимпийская группа Стаса Намина (всякие «Smokie», «Bony M», «ABBA», «Машина Времени», «Аквариум» и прочие были уже известны)...
В спорте в моём кругу все болели, конечно, за наших. И вообще ощущение некоторого патриотизма оставалось однозначно, хотя оно и несколько изменилось. В целом же появлялось ощущение тяги ко всему западному, как мотылька к огню. Этим сменялась пионерская романтика, этим было пропитано уже многое. В школе у нас уже, кажется, поучились по полгода девочки-американки, дипломатические дочки, чуть младше нас. Из фильмов у меня появилось увлечение американскими «Каскадёрами», — в кино я смотрела его раз шесть. В подростковом кругу «заграничные вещи» стали цениться ощутимо, хотя основной темой разговоров они не были, и делать ради них что-то существенное не хотелось. Ещё помню, что от сколько-нибудь основательного общения с фарцовщиками (ничем подобным я сама не занималась, но пересекаться доводилось), — от этого мира меня мутило, как от какой-то жизненной бессмыслицы, а точнее говоря, как от тесной-тесной безвыходной узкой колеи. Слова такие в лексиконе ещё не употреблялись, но чувство — было. Так же я никогда в жизни не увлеклась торговлей, даже когда прежние рамки оказались сломанными и общественные приоритеты изменились. Заниматься этим впоследствии я могла, но тогда всё время усиливалась потребность, зарабатывая деньги (если это удавалось), что-то найти себе самой параллельно, чтобы этим заняться НА САМОМ ДЕЛЕ. А в принципе, зациклить меня на чём-то одном оказывалось трудно, — всё время хотелось какой-то универсальности, чтобы и то, и это, и всё вместе.
Можно вспомнить, что ещё в мои лет девять этажом выше поселилась семья, где было две дочери, младшей исполнилось, соответственно, лет восемь. Старшая вскоре поступила в Мухинское. Семья оказалась баптистской. Мы с той девочкой не то, чтобы очень дружили, но общались. Классе в 4-5-м она попыталась затянуть меня в баптизм, приобщить к вере. На какое-то время я поддалась, в основном испугавшись её рассказов, потом сказала ей, что больше в эти игры я играть не буду. Годам к 13 она опять ко мне приблизилась (а была она вся западная-перезападная, — потом обе сестры вышли замуж за финнов и уехали), я снова поддалась «на религиозную пропаганду» и поинтересовалась молодёжной общиной баптистской церкви. Но снова отошла от них почти сразу. В общем, что-то во мне всё время бродило, что-то я искала, и сама чувствовала, что мне не хватает внутреннего содержания, смысла, не хватает наполнения золотистому фантику.
Тот месяц, когда проходила Олимпиада, я провела как раз в городе. Микрорайон всегда был зелёным, с парками и лесопарками, можно было купаться, а также не возникало проблем, чтобы съездить за город. Кое-кто из наших тоже проводил часть летнего времени там, и совсем уж скучать не приходилось. Мама работала, ждала отпуска в августе. Папа тогда постоянно дома не жил, но случалось всякое. В общем, помню удивительное событие.
Родители иногда (что было почти само собой разумеющимся в те времена), слушали по радио «Голос Америки», насколько позволяли глушилки. Когда дед, мамин отец, был ещё жив, он тоже приходил к нам от второй дочери слушать по нашему приёмнику «БиБиСи». Но это не мешало ему слушать и программу «Время», и что-то ещё другое. Когда о нём вспоминали впоследствии, говорили, что у него всегда существовало своё собственное мнение обо всём, от соседнего гастронома до правительства Великобритании. То есть «БиБиСи» он слушал не как некую безоговорочно авторитетную инстанцию, не как руководство, а как дополнительный источник информации, который он проанализирует как-то по-своему. В принципе, подобным образом слушали «голоса» и родители — заодно поинтересоваться, что говорят ТАМ. Хотя, звук в радиоприёмнике сквозь глушилки чистым не бывал вообще никогда, но что-то они, как правило, умудрялись вылавливать. Из своей комнаты я иногда что-нибудь слышала, но сильного впечатления не помню.
В тот вечер папа был дома и приёмник, как ни странно, включил именно он. Кстати говоря, было тогда совершенно точно не 25-е июля и не 26-е, — после трагической даты прошло как минимум несколько дней (это я помнила из родительских разговоров, из их выяснений, когда же всё произошло). И ещё я запомнила удивительную вещь: звук в приёмнике, настроенном на «Голос Америки», в тот вечер был абсолютно чистым, безо всяких глушилок. Это в первую очередь и привлекло тогда моё внимание.
Впоследствии я сталкивалась с отвратительнейшими фальсификациями и с попытками психологического подавления (часто удачными) по телевидению и по радио, по «первой кнопке», прежде всего — в родительском доме. После маминой смерти «первую кнопку» я уже не включала больше вообще, чтобы не «отравиться» лишний раз. А приёмник к тому времени уже и так не включался много лет. Но вспоминая всю историю позднее, я предположила, что включив «Голос Америки», все мы услышали просто аудиозапись, транслировавшуюся откуда-то неподалёку ради осуществления заведомого сценария. В этот сценарий, скорее всего, уже входил ряд событий разного рода и в разных местах, произошедших и будущих («многофункциональность»).
Никакого интереса я к нему тогда ещё не испытывала просто потому, что ничего не знала, кроме, разве что, пары простеньких фильмов, которые в детстве не произвели никакого впечатления, одной маленькой пластинки «Мелодия», поставленной маминой сестрой и приговаривавшей: «Что-то в нём всё-таки есть тюремное», — да воплей в рекреации 11-12-летнего мальчишки-одноклассника: «Е-е-е-трали-вали», которые я, впрочем, ни с кем тогда ещё не ассоциировала, считая, что «сам дурак». Впрочем, даже впоследствии, даже после шума, поднятого на весь мир, я с удивлением встречала людей, которые ничего о нём не слышали...
В тот вечер или в ту ночь все в доме впервые узнали по приёмнику о его смерти. Имя, всё-таки, уже было на слуху, папа его где-то уже наслушался и собирался, если купим магнитофон, переписать (но руки так и не дошли), так что то сообщение произвело впечатление, особенно учитывая молодой возраст погибшего. Потом поставили знаменитую песню, и папа сделал погромче, что обычно в отношении «Голоса Америки» делать было бессмысленно из-за треска глушилок. На этот раз песня шла в чистой записи безо всяких радиопомех, от и до. В общем, по-настоящему я его слышала просто впервые. К тому времени я уже легла спать, а тут, потрясённая, в одной рубашке прокралась к родительской двери и, не заходя за косяк, прослушала до конца. Потом помню острую досаду: «Ну как же так! Почему я ЭТО слышу именно тогда, когда он умер!..»
Потом я стала интересоваться этими песнями, добилась, чтобы мне купили магнитофон и стала их собирать. Юношеская влюблённость оформилась, конечно, довольно быстро, потому что во что влюбиться — было, и более чем. Но в той любви не было абсолютно ничего страшного. Напротив, она оказалась жизнеутверждающей и очень продуктивной. Не говоря о собственных стихах, старт которым был дан, вообще-то, значительно раньше, у меня появился собственный круг интересов, я начала читать серьёзную литературу (испытывать к ней совсем другой уже интерес), кругозор расширился необычайно, просто потому, что я испытала такую потребность.
Мысленно играла я, конечно, во что угодно, и во всякие страшилки по поводу несчастной любви — тоже. Но при этом оставалась абсолютно открыта реальной жизни, и того, что у меня может не состояться ничего серьёзного и своего в реальности, мне не могло присниться и в дурном сне. Не однажды бывало такое, что я увлекалась, было, кем-то из окружающей жизни, и «самая главная любовь» немедленно уходила в тень, уступая место. Только всерьёз соперничать с ним ни по каким параметрам тогда ещё не удавалось никому, тем более, что я не собиралась допускать в школьном возрасте никаких запретных плодов. В конце концов, когда мне был на первом курсе подсунут бардашковский одноклассник в качестве первой любви (это целая история, но скучная), предыдущее виртуальное увлечение было немедленно забыто на несколько лет.
Абсолютно никакого замогильного оттенка та любовь не имела в отличие от того, что про меня, похоже, наплели. Более того, будь он жив, песнями бы я, конечно, увлеклась точно так же, но никакой влюблённости могло бы и не случиться, поскольку я видела бы его (по телевизору, например) настоящим, живым, и ощущала бы, что для меня, 14-17-летней, он элементарно стар. А так, смерть (несуществование в реальности) как бы уничтожила возрастные категории. Теперь ему было и 20, и 40 лет одновременно, — выбирай, что хочешь (и себе выдумывай любой возраст). Я всё это воспринимала в основном не как жизнь и смерть, а как несовпадение во времени («Ну почему, почему мои 15 лет не пришлись хотя бы на его 25?..») Единственное, чего действительно хотелось из заведомо неосуществимого, это «подправить» время жизни кого-то из нас, чтобы врменнЫе шкалы совпали или хотя бы совместились гораздо лучше. Всем, в конце концов, когда-нибудь бывает по 20 лет, и это у обоих могло бы не так разлететься во времени, а оказаться поближе...
То, что, скорее всего, ничего бы у нас всё равно не вышло («нашла бы коса на камень»), я осознала довольно рано. Но, поскольку к жизни это всё равно уже не имело отношения, то фантазировать, тем не менее, можно было продолжать сколько угодно. Кстати, говоря, эти фантазии были достаточно целомудренными (я как бы не позволяла себе лезть к человеку без спроса, в отличие от нынешних зарвавшихся психотехнологических уголовников из разных стран), так что если требовалось что-нибудь пофривольнее, то на это время просто выдумывался другой персонаж. Никакой «ментальной верности» я, естественно, не хранила.
Честно говоря, если бы очень серьёзные филологи наконец-то решились бы написать о нём научную работу, то скорее всего, таким образом он бы или проиграл, или оказался бы далеко не в первом литературном ряду. Это, вроде бы, «всем понятно» (если только эти «все» со временем сами не окажутся проигравшими), но вот, проходят годы, интерес к этой поэзии под гитару по-прежнему держится, а судя по количеству попыток дискредитировать и уничтожить его образ в памяти людей, он продолжает мешать каким-то распространителям человеческой гнильцы ничуть не меньше. Сколько бы они ни маскировали эту свою гнильцу призывами к «человеческой правильности» в отличие от ТАКИХ, как он, «неправильных», они всё не могут взять в толк, что такое ЖИВАЯ (вне времени) жизнь и ЖИВАЯ мысль, и почему они до сих пор не добились своего. Или — некоторые как раз могут взять это в толк, но настоящие цели у них такие, что их просто опасно раскрыть людям, — оттого и звереют...
Для меня он всегда приносил с собой потрясающую жизненную энергию, энергетику, иногда исчезая из души, иногда появляясь опять, когда давно уже перестал ассоциироваться с моей собственной потребностью в любви и вызывать какие-то девичьи чувства, являя собой совсем другой смысл. И даже когда во второй Москве у меня не было никаких записей, я пела все эти песни мысленно или иногда шёпотом, и они выносили из таких жизненных (смертных) передряг, что ценность их утвердило однозначно. А ещё суть его — как бы я сейчас сказала, консциентальная. Это мощнейший проводник НАШИХ ценностей и создатель нашей ментальности. (Прошу заметить, что уж к чему, к чему, а к какой-нибудь водке всё это не пристрастило меня ничуть, и «не понимать», что дело в другом, что он сам был здесь жертвой «вируса», а уж точно не источником — это или недостаток ума, или признак ведущийся МАНИПУЛЯЦИИ, которая (манипуляция, а не водка) уничтожила и его, и ещё многих.)
В общем, мне было 14-15 лет. Влюбляться в кого-нибудь было уже нужно, но реализация какой угодно любви в те времена относилась к разряду того, что в таком возрасте «нельзя», и это было не правилом, а чем-то таким, что в крови. Пробудить раннюю сексуальность, как я теперь поняла, во мне пытались изо всех сил, и в конечном счёте успешно, но поскольку это явление было искусственным, а не органическим, отнюдь не свойственным мне по природе, то и выливалось всё это невесть во что (совсем не туда, куда им хотелось). Так я нашла выход в том, что теперь называется «фанатеть». Даже по нынешним протезоустойчивым временам такое подростковое явление считается вполне обычным. Просто всё, происходящее лично со мной пытались и пытаются оболгать или хотя бы представить в каком-нибудь диком свете. Зато, в сегодняшние времена категорически «нельзя» быть полноценно творческим человеком, что тогда считалось вполне естественным. Сейчас даже не знают естественных и неизбежных психологических (прошу прощения за нецензурщину) проявлений творческой личности, в отличие от современных, «правильных», живущих на деньгах и на инстинктах, что усиленно вдалбливается в головы как жизненный идеал, делая тем самым людей абсолютно пригодными для страны — сырьевого придатка. Причём, всем им, конечно, внушается, что они уникальные, посвящённые, «не как все», и конечно, сыграть у многих на откровенно антироссийских настроениях не очень просто, так что все они — в основном за Россию: и крайние либералы (я не оговорилась), и крайние националисты, и пятые, и десятые, но все одинаковые, — лишь в одном иногда не сходятся: бить противников физически или потихоньку уничтожать их сознание... Способ же «послужить России» — универсальный: ещё кого-нибудь грохнуть, убрать, откровенным или скрытым способом (про кого хорошо объяснили, что «надо»). Причём, заметь: я-то, например, никому не мешаю жить, как хочет (если хочет чего-нибудь, кроме уничтожения других), а мне (именно мне) с рождения и особенно последние десять с лишним лет вообще не дают проходу, и все их «предложения» жить так или этак — мало того, что даром не нужны, но они полностью лживы, поскольку цель одна: любыми манёврами заставить меня («саму») умереть в Петербурге под контролем и по сценарию тамошней фашистской клоаки. Конечно, убийца, преступник, меркантильный человек, тиран им гораздо выгоднее, поскольку им можно манипулировать и ставить перед ним свои цели так, что он будет их выполнять. А тот, кто всего лишь хочет жить своей жизнью и предоставляет другим делать, что хотят, если сами никому не мешают, как раз невыгоден: с него нечего взять.
Ну вот, сейчас я оказалась в вашей структуре, и вроде не похоже, что вы ведёте к тому же, к Петербургу и «естественной» смерти. Уж не знаю, что там будет через полгода, но если вы меня отпустите, а потом меня вычислят, то ничего другого всё равно не состоится, ни через полгода, и никогда. А я этого сценария, насколько сумею, не допущу. У меня нет цели жить (в таком мире) и тем более нет цели жить хорошо. Не будет никакого Петербурга (любой ценой, — они никак понять не могут, что ЛЮБОЙ) и после всего, что было, я не окажусь НИ У КАКОГО убийцы-врача, любого пола, возраста и даже степени родства, не доставлю этого удовольствия — безнаказанно убить, поскольку, если вдруг попадётся другой по сути врач, то ему или ей всё равно быстро свернут мозги. Но всё можно сделать быстрее и проще, не развивая ценой собственной жизни чьи-то садистские поползновения. Я ещё до ФСБ, году в 2005-м (или ещё раньше) говорила, что единственное, что они могут со мной сделать — это убить. Дурацкое дело нехитрое. Но больше не смогут ничего.
— Алёна, я всё понял, я всё знаю. Пожалуйста, подожди, — тебе ещё ничего не сообщили. И очень тебя прошу, давай сейчас продолжим, а то так мы никогда не закончим. Ты говорила о возрасте в 14-15 лет.
— Ладно. В общем, в 14 лет, сообщив таким образом о смерти знаменитости, меня спровоцировали (хотя и вполне жизнеутверждающе, согласно собственной натуре) влюбиться, «зафанатеть», и с этим я ещё плодотворнее продолжала жить своей жизнью. Судя по тому, что произошло дальше, можно, конечно, предположить, что вообще всё было сделано специально и по сценарию. Но вероятно, что наоборот, моя сдержанная, хоть тресни, реакция была нарушением их планов и они искали способ «разобраться». На самом деле, не так это важно, — сути оно не меняет.
После восьмого класса экзаменационное сочинение на свободную тему о животных я написала в стихах, за что получила, естественно, «отлично». Но в жизни уже чувствовалась какая-то непрошибаемая стенка, а никакие скрытые внешние причины в голову ещё, естественно, не приходили.
Все эти деятели продолжающейся психологической войны пытались и пытаются, конечно, всё свалить на «естественные обстоятельства», только бы отвести подозрения от себя самих. У меня валят на родителей (котороые были, разумеется, тоже ни сном, ни духом), на «неправильную» любовь, на что угодно. Мне никогда в жизни этого не говорилось (уже со временем пришлось о чём-то догадываться в связи с невообразимой ахинеей и нестыковками), и мне в голову не приходило, чему нужно сопротивляться, где следует повести себя иначе. А вот, в параллельном классе внучка известного и уважаемого гуманитарного академика, очень яркая натура, под такой сценарий не попала, но жизнь прожила тоже далеко не такую, как должна была и могла, хотя, родила свою дочь. Пытаясь в этом разбираться, она, говорят, жаловалась, что «дед подавил авторитетом». Ага, я могу себе представить, кто и чем её подавил. Никакому деду, тем более умному и мирному, это оказалось бы не под силу (не тот у неё был характер), а психотехнологом он отродясь не был. Кстати, она рано лишилась матери, что общеизвестно. Её мать, дочь того академика, что тоже общеизвестно, погибла, между прочим, в автомобильной катастрофе, и это нанесло ему страшную рану, никогда не зажившую... (В одном из телеинтервью он говорил: «Когда рассказывают о стариках, обычно всё пытаются свести к некоему хэппи-энду. Но хэппи-энда не получилось: во-первых, погибла дочь...» Слухов об этом не было или до меня они не доходили, так что обстоятельств я не знаю. Кстати, та девочка, что любопытно и не так уж характерно, испытывала ко мне в старших классах какой-то открытый яростный негатив. Не исключено, что он искусственно подогревался, ведь не одна я выглядела «не так» и писала плохие с её точки зрения стихи... Но скрывать реальные чувства, чем бы ни вызванные, она, видимо, не могла, не умела и не находила смысла, сама не будучи посвящённой в цель тех многочисленных сценариев. Вспоминая кое-что из её дружб, я даже представляю себе, откуда это шло. (Кстати, она много дружила с Ланой Позенковой, речь о которой будет заходить ещё много, включая описание послешкольных времён. Но сделать из неё во всём виноватую фурию было бы наивно.) В общем, факт тот, что та девчонка, внучка академика, ИСКАЛА, кто её подавил. Значит, что-то чувствовала. И, как обычно, настоящей причины несостоявшейся жизни найти не могла.
В этой связи не могу не вспомнить гениальную девочку Нику Турбину, не имевшую к нам никакого отношения. Изучением её истории я отдельно не занималась, но есть ряд причин, по которым я убеждена, что девчонку уничтожили просто с малолетства. Я знала о её существовании, молодая видела её ранние стихи (а была она порядочно младше нас), немножко даже приревновала. Году где-то в 1998-м случайно увидела её телевизионное интервью. (Хотя, в последние годы в такие случайности я не очень верю, — включить телевизор, который я никогда не смотрю постоянно, могли «скомандовать».) Выглядела она плохо, была в каком-то халате, похожим на рабочий, синий. Говорила, что теперь обязательно вылечится (от зависимостей). Меня тогда эти слова пронзили, — была в них какая-то гибельность. На всю жизнь запомнилось, что мне тогда захотелось её найти, что-то сделать. В тех её «жизнеутверждающих» словах как будто сквозило: человек на грани. Честно горя, я, дурочка, появилась тогда у «фиолетовых» и мне ещё искренне казалось, что это может оказаться панацеей, что они «вытаскивали и не таких». (Тогда я ещё далека была от осознания, что убийц у неё и без «фиолетовых» было достаточно). Но во-первых, найти её и появиться вряд ли было возможно, во-вторых, как я подумала, ей кто-то серьёзно занимался, на телевидении снимал, так что пропасть не дадут. Через короткое время я узнала о её самоубийстве.
Не из какого-то даже особого интереса, а больше в силу жизненных обстоятельств я узнавала кое-что о её жизни. И вот, я была потрясена, когда оказалось, что детские стихи, поражавшие невесть откуда взявшимся взрослым трагическим мировоззрением и взрослыми познаниями, ей, оказывается... снились ночью во сне. Лет в пять она будила кого-то из родителей и просила записывать. После того, как я насмотрелась фальшивых снов, очевидно отличавшихся от настоящих, а также когда после моей письменной истерики по этому поводу в ФСБ мне их кто-то через некоторое время «закрыл» (не только фальшивые, а любые сны ночью, — не факт, что именно они это сделали, но снов я больше не вижу никаких в течение вот уже многих лет, чему несказанно рада), — после собственных фальшивых снов мне, кажется, что-то стало ясно о Нике. Методики наведения фальшивых снов я не знаю. Может быть, что-то внушается предварительно в состоянии бодрствования. Может, делается что-то другое. Это, наверное, лучше бы у Вячеслава Прокофьева спросить, или у Расторгуева. Но вероятно, эти снившиеся ей взрослые стихи в пять лет, которым все поражались и иногда поражались со страхом (православные, утверждая, что такого не может быть, кричали и писали о дьявольщине), — вероятно, эти стихи были не её, а просто действительно взрослые, чужие. Тогда начало её уничтожения может выглядеть так: была обнаружена действительно очень талантливая девочка, и одним ударом были достигнуты две цели. Ей стали «присылать» невероятные взрослые стихи просто во сне, тем самым приучив её к большой и лёгкой славе, и отучив от поэтической РАБОТЫ. Когда сновидения со стихами «иссякли», она, обретя уже определённые привычки, просто не знала, что ей делать.
Долгое время с ней общался Евтушенко. Потом, как он говорил, с ней началось что-то такое, с чем вообще никто не мог справиться. (Но если ей снились фальшивые сны, то больше тут уже ни о чём думать не надо. Причина совсем не обязательно была в её характере и психическом состоянии.) Она получила венецианского «Золотого льва», а потом в некоей последовательности её «увели» в какие-то хиппи и там укатали окончательно. Большой российский талант был уничтожен на корню, подтверждая тем самым, что «общество деградирует». Младше меня она была лет на десять, так что к моменту телеинтервью ей далеко ещё не исполнилось и тридцати...
И безо всякого геноцида Карл Поппер в своём знаменитом двухтомнике «Открытое общество и его враги» (а также некоторые его последователи, среди которых был, например, Джордж Сорос) призывал людей, в частности, оказаться вообще от всяких авторитетов — исторических, политических, литературных и прочих. От всех, кроме, видимо, одного — Карла Поппера. Так или иначе, и не сегодня, избавляться от них научились с их младенчества. Чем-то подобным занимаются саентологи, стараясь отслеживать таланты как можно раньше, вплоть до того, что с рождения, но лишь малую часть из них — для вербовки в ряды своих сторонников ради рекламы... Ты, Толя, реагируй хоть как-нибудь, а то я как будто в пустоту говорю...
— Не приставай. Дай ты мне в комплексах посидеть.
— Вот, язва!
— Да ладно, Алёна, я тебя внимательно слушаю. Продолжай, продолжай. В твоих рассказах ты перешла из восьмого в девятый класс.
— Ну, да. Той англичанки, которая поставила мне «пару» в пятом классе и вынудила тогда родителей мной заняться, в школе уже не было (случайно ли)? Она меня недолюбливала (или просто возмущалась происходящим), пыталась задевать меня и родителей, собиралась, вероятно, устроить сложности с переходом в девятый класс, что в те времена и в такой школе оказывалось серьёзной угрозой. (Кого-то из детей, говорят, милицией пугали, а у меня всё детство была своя страшилка: «в ПТУ пойдёшь».) Интересно, куда именно делась та англичанка. По слухам, она увела из семьи отца ученика, того самого Калешко (впоследствии Кашкалова), и вынуждена была уйти из школы. Так-то оно так, но я недавно подумала, что если в принципе слухи не лгут, то не известно, кто кого откуда увёл. В ту историю я особо не посвящена, что выросло из Калешко представляю, но судить о чём-то можно было бы, только зная, что там было дальше и где она сейчас, а я не знаю. Восьмой класс я закончила по оценкам нормально.
В те экзамены, в пятнадцать лет, я начала курить. Без компаний, без влияний. Просто однажды пошла, купила пачку сигарет и с тех пор курю. В школе у нас многие строили из себя голливудских звёзд и курили уже в девятом классе. Но я начала сама. Научила затягиваться меня уже в те же 11 лет взрослая девочка у тётки на даче, куда я иногда приезжала, но тогда, конечно, и речи не было ни о каком курении, я отдала ей купленную пачку и сказала, что курить не буду. А тут — выстрелило. (Если раньше не приучили потихоньку к этой мысли и потребности в тех же снах...) Перестала сгрызать концы ручек и карандашей, которые до этого грызла. (Не было ли и это как раз чьей-то неявной подготовкой?..) Осенью, в 15 лет, я пришла, конечно, в девятый класс.
С одной стороны, это было длившееся ощущение начинавшейся жизни, с другой — со мной происходило явно что-то «не то». Я в этом убеждена, но сейчас уже много говорить не буду (и так пока достаточно), главное — то, что мне тогда абсолютно всё начало сходить с рук. В школе я училась, но очень выборочно: у меня были интеллектуальные дела, «гораздо интереснее» школьной учёбы. Я собралась тогда именно в театральный, но играть пыталась мало, а больше читала. Актёры интересовали в основном наши, возможно более содержательные, преимущественно театральные, а не киношные. Делала я это как попало, непосредственно ни у кого ничему не учась. Соображение, в отличие от пятого класса, я уже имела, в школу ходила, по гуманитарным предметам оценки были очень хорошие, и множество пятёрок, но оказалось, что теперь можно было много прогуливать и посещать уроки почти по своему выбору. К математикам душа не лежала, хотя, если вдруг я начинала этим заниматься, то алгебру понимала неплохо. Просто часто не сходился ответ. Как я говорила, с математикой у меня всё хорошо, — плохо с арифметикой. Но заниматься этим было лень, а возможностей не заниматься оказывалось сколько угодно. За контрольные по алгебре я нахватывала двойку за двойкой (вместе с той самой школьной подругой), и когда их набралось по пять штук, учитель числил нас среди «кандидатов на медаль». Я, вообще-то, боялась затягивать ситуацию, но поскольку за это, кроме периодических и мягких словесных выговоров, ничего всё равно мне не было, то я каким-то образом всё время решала, что разберусь «потом», — а мои родители каким-то чудесным образом НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ. Как-то раз я увидела в нашем микрорайоне нашу новую классную руководительницу, Надежду Викторовну, Надьку, как мы называли её между собой, когда она шла домой к каким-то родителям с классным журналом под мышкой, — но не к моим. Поразительно, что в школе были все родительские телефоны, оба рабочих и домашний (а это была не сегодняшняя, это была советская школа, где и дело, по идее, было поставлено совсем по-другому, и отвечали за учеников ещё, вроде, иначе, в частности, перед РОНО), — у них были все телефоны, а родители продолжали получать обо мне информацию из моего вранья и из моего подмухлёвывания с дневником... Мама, при всей её правильности и обязательности, в школу ходить не любила (а мне верила), — видимо, кто-то старался, чтобы правды она не узнала, но и чтобы она чувствовала себя там очень уж неприятно. Меня ниоткуда не выгоняли, мне даже редко что-нибудь выговаривали, — мне просто почему-то предоставлялась возможность заниматься чем попало, «звездить» в гуманитарной области (к непонятному мне озлобленному раздражению внучки академика) и попросту игнорировать точные науки. Разумеется, в 15 лет я всё брала на себя, и на душе становилось всё хуже. Заканчивалась вторая четверть, полугодие, с оценками по математикам был завал, я готова была уже лопнуть, как перетянутая струна, но заниматься этим почему-то «не могла», а родители продолжали не знать вообще ничего.
Кстати, ещё в середине первого полугодия на математике (геометрии) произошёл забавный эпизод. Мы чертили пирамиды, а уж это-то я со своим пространственным воображением, что называется, щёлкала, как семечки (если бы я семечки тогда, опять же, щёлкала). Как-то раз математик объяснял очередную задачу, новую тему, начал рисовать условие на доске, ещё не закончил, стал прохаживаться по классу, что-то рассказывая, а я в это время вальяжно отвалилась от тетради. Он, продолжая рассказывать, подошёл, наклонился над партой и ошарашенно посмотрел на меня, приподняв рукой очки: условие задачи было не только логически додумано, но сама задача была уже решена. У него только вырвалось: «Ну, ты даёшь!.. А я уж думал, ты совсем ничего не соображаешь...» Однако, в геометрии сменилась тема, пошла тригонометрия, которая мне была «уже не интересна», и в остальном всё тогда осталось по-старому, ни изменений, ни выводов, ни родительской посвящённости. Я тогда, дурочка, считала, что меня просто настолько ценят как гуманитария и поэта, что не трогают в остальном. Но на самом деле, конечно, это была программа если не уничтожения, то сильнейшего первого удара. Что думали учителя, были ли они в это посвящены, не знаю. Уже приближалась, оказывается, «перестройка», мы встречали периодических американских гостей в нашей школе, хором «диссидентствовали», и мозги У ВСЕХ, по всей вероятности, были уже давно в обработке.
Как-то раз к нам «на урок по английскому» приезжала преподавательница частного американского колледжа, показывала слайды, мы обтекались слюной. Поразительно, что это было ещё при Брежневе, а то и при Андропове в самом начале его короткого правления. Каким образом такое происходило — не знаю. Надо сказать, что если не половина, то по крайней мере треть параллельного класса, видимо, тогда уже намыливалась в США, о чём если не они, то их родители наверняка знали. Впоследствии все они туда и уехали. А наш класс числился преимущественно в «недоделках», и всё это, кроме самОй их будущей эмиграции, было заметно, понятно уже в те времена.
Был ещё один, позднее осознанный приём моего, как и всей страны, уничтожения — отсутствие обратной связи. Я просто НЕ ЗНАЛА не только о том, что творилось по большому счёту, но и о своей собственной ситуации. (А мне исполнилось 15 лет...) Очень многое было наврано уже тогда, очень многое не говорилось. Так я искренне (возможно, с неосознанной посторонней помощью) объясняла себе бесчисленные поблажки в ничегонеделании своими «достижениями» в гуманитарной области, где меня по-прежнему никто ничему, кроме школьной программы, не учил (а замахивалась я гораздо на большее), и я оставалась не очень старательной самоучкой (зато, «не такой, как все»), просто НЕ ЗНАЯ, какова цена тех «достижений», как меня воспринимают посвящённые. Не зная и не имея возможности это понять, поскольку нашёптывались почти исключительно убаюкивающие присказки. Со мной даже в параллельном классе вполне общались, мы иногда вместе курили, но что могло быть за глаза — начинаю догадываться только теперь. В общем, я очень хорошо думала о себе и о своей ситуации (мне абсолютно предоставляли такую возможность), только внутренняя паника почему-то нарастала до критического состояния.
Ближе к Новому году произошло совсем уж странное событие. Человека три из класса заполняли индивидуальные ведомости по итогам полугодия (где за оценку по своему предмету должны были расписываться все учителя, каждый в отдельности, — этим заменили былые табели, где расписывался только классный руководитель), и в числе трёх человек (избранных, ответственных и доверенных, — а вообще, интересно, почему это делали ученики, а не учителя?..), — в числе трёх человек «по комсомольской линии» посадили... меня, с моим завалом по математике, с тем, что я только что устроила комедию из «ленинского зачёта». Бланки ведомостей были без печатей, неучтённые по количеству (просто пачкой), и я в своей панике прихватила, конечно, несколько штук. В общем, всё, что произошло дальше, кем-то готовилось заранее и очень тщательно. Не знаю, посвятили ли в это учителей, или у них, как почти у всего народа в ту «перестройку», было частично отключено сознание...
...Недавно в газете я читала высказывание одного из руководящих лиц государства (самого высокого, соответственно, уровня). Он говорил, противореча своим прежним высказываниям, что Россия — страна уникальная и требует, конечно, своих собственных методов управления и путей развития. Так-то оно так, но что он имел в виду? Ведь Россия не столько уникальна (в мире), сколько просто, наряду со многими другими, не относится к западной цивилизации, которая вовсе не универсальна. Но это — отдельный разговор. Но не являются ли этими заявленными уникальными путями для России — какие-нибудь лагеря и резервации?.. Если вдруг да, то совсем уж она не уникальная (как и любые другие неугодные народы и страны), и через такой же «путь развития» когда-то уже протащили, например, американских индейцев. (Этим восхищался Гитлер, — потом найду цитату.) Если, конечно, наше высказавшееся «руководящее лицо» имело в виду именно это. Во всяком случае, в той недавней статье ничего конкретнее сказано не было...
Но здесь — речь вовсе не о восточно-славянской цивилизации, которую отличают, уж конечно, не кокошники, даже не «гуманитарная направленность» (в космос-то кто первый полетел?..), а другая ментальность, другие (до недавнего времени) приоритеты, хотя, никто не отрицает взаимопроникновения и не исключает его. Речь здесь — как раз об агрессии западной цивилизации. Она очень бурно и успешно развивается, быстро заглатывая весь мир — именно как раковая опухоль, которая несёт с собой планете не жизнь, а смерть (сами же говорят о конце истории). Эта мысль не моя и тема — отдельная, так что не буду пока уходить в сторону.
А полугодие тогда закончилось. По обеим математикам в журнале у меня стояли пустые клетки (двойки). Бланки у меня с чьей-то услужливой подачи были уже заготовлены. Естественно, я, поставив себе в пустом бланке желаемые оценки, благополучно нарисовала все подписи учителей, дав его на подпись маме. Нарисовать в настоящей ведомости мамину подпись труда не составило, поскольку в этом я уже поднаторела, «заполняя» дневники. Родители такую ведомость «проглотили», — на связь с ними так никто и не вышел. (Все телефоны, ещё раз, в школе и в школьном журнале в наличии имелись, а времена тогда были далеко не нынешние, да и школа — высокого уровня, так что подобная последовательность событий выглядит более чем странной.)
«Срочная афера» тогда прокатила, по гуманитарным предметам у меня и так были в основном пятёрки, но на душе становилось всё хуже и тревожнее. Родителей боялась страшно, но именно морально. Может быть, они всё делали «не так», но в данном случае чувство собственной вины давило однозначно. Я чувствовала, что всё это неизбежно должно чем-то кончиться. Вот (вспоминала я), совсем недавно хотела быть следователем, а теперь сама — преступница... А «режим благоприятствования» чему угодно всё продолжался. Почему я (как и та школьная подруга, в журнале у которой было, насколько я знала, то же самое, и кто-то ещё) так и не смогла этим заняться — этого я сейчас не понимаю. Почему-то я впадала в какой-то ступор в отношении математики, совершенно не могла к учителю просто пойти, хотя, сидеть у него на уроках в состоянии была вполне спокойно. Позднее, например, перед контрольной по химии (а вот химичку я не могла просто видеть, одна из её коронных фраз на родительском собрании была, например, «у меня в заду сидят два очень умных мальчика», — к ней я старалась не ходить и впоследствии), — пред той контрольной я попросила позаниматься со мной другую одноклассницу, и мы с ней всё нагнали такими темпами, что получила я тогда СВОЮ твёрдую четвёрку (хотя, после контрольной и выкинув снова всё из головы). То есть, в принципе такое навёрстывание было вполне возможно. (Правда, у той одноклассницы, почти отличницы, после школы было не всё в порядке, и между прочим, оказалось, что детей не будет, — её тоже покидало... Как и ещё одну тогдашнюю подружку. Потом обе жили в Европе.) А упомянутая школьная подруга, вроде как завалившаяся вместе со мной, впоследствии с тем учителем всё-таки ЗАНИМАЛАСЬ, — но у неё, в отличие от меня, всё узнали родители. У меня же — так и не узнали, хотя, на выпускном экзамене я чуть не получила по алгебре пятёрку, — учитель даже признался (мне или кому-то другому, кто передал), что не будет ставить в итоге четыре, так что ради итоговой тройки снизил экзаменационную оценку до четырёх... Но он был однозначно прав: мы тогда подозрительно хорошо сдали экзамен, и на самом деле — действительно смухлевали, только все вместе, всем выпуском. Одному новенькому из параллельного класса, имевшему каких-то серьёзно-партийных родителей, из ГорОНО или откуда-то в этом роде за пару дней до экзамена скинули все возможные варианты контрольных работ. Какой вариант выпадет, во всех школах узнавали, только публично вскрывая конверт в начале экзамена. Возможно, на класс приходилось варианта три, не помню. В общем, всего их было много, но все они были известны нам заранее. И мы, перезваниваясь, все их прорешали. Запомнить их можно было, конечно, только хорошо поняв, но именно в тот раз я в течение двух дней этим занялась основательно, и в конечном счёте, написала экзаменационную контрольную идеально. Не знаю, что уж предпринял обалдевший математик, чтобы не поставить мне «пять», но он был прав, и я не осталась в претензии.
Перед тем, как рассказать про тогдашний кульминационный момент, который был наполнен совсем уж невообразимыми «чудесами», я хочу вспомнить ещё одно. В параллельном классе была такая девочка, уже упомянутая Лана Позенкова. Уникальная красавица. Та моя школьная подруга даже ревновала её и к такой заметной красоте, и ко мне, потому что я с ней как раз общалась, — иногда вместе покуривали перед уроками, бывала я и у неё дома. Относилась я к ней «душа нараспашку», и что-то «не то» заподозрила очень поздно, уже после Германии.
Ни в каких «заговорах» дети тогда участвовать, конечно, не могли, а что там со стороны тогдашних взрослых — не знаю, — я и сейчас-то не всегда понимаю, что с ними происходит... Но однажды, не помню точно, когда это было, ДО моего кульминационного события, произошедшего в третьей четверти девятого класса, в феврале, или ПОСЛЕ него, — но однажды мне домой позвонил её отец, весь в раздрае.
Был он сам, кажется, музыкантом, дома у Ланы я его тогда видела раз или два. (Все они, кстати, в семье выглядели очень породистыми, а вид у него был нормальным, без длинных волос и пр., но каким-то образом совершенно богемным). Тогда, позвонив мне единственный раз в жизни, он попросил сесть к нему в машину и поехать вместе с ним... к моему папе в ГАИ, поскольку вчера по пьянке влетел его коллега, который всегда возит в машине музыкальные инструменты, и у которого отобрали права. Права должны уже были отправляться в ГорГАИ, так что действовать нужно было срочно, сегодня. По поводу папиного ГАИ ко мне кто-либо обратился тогда впервые. Было как-то само собой разумеющимся, что к его работе я не прикасаюсь, никакое ГАИ не имею в голове вообще. Кто-то из учителей, насколько я знаю, к нему обращался, но связывались с ним сами и никто никогда меня в это не впутывал, — даже мысли такой не возникало. То, о чём просил меня ланин папа, было чем-то совершенно невозможным, — примерно тем же самым, что признаться отцу в подделанных ведомостях. Ведь просил меня об этом даже не отец той моей школьной подруги, которому мой папа был, собственно, и не нужен в силу куда более высокого положения, но которого я сама хорошо знала лично всю жизнь, которого не однажды мой папа видел сам и хорошо знал о его существовании, — звонил не кто-то из учителей или родственников, не даже сосед по дому, а человек, которого я к тому времени видела лишь разок-другой и которого папа не видел вообще никогда, ничего не зная о его существовании. И вот, он хотел, чтобы я СЕЛА К НЕМУ В МАШИНУ (за одно только это мой папа, образно выражаясь, меня, пятнадцати-шестнадцатилетнюю, убил бы), заявилась бы к нему, к моему отцу, начальнику ГАИ, прямо на работу, чтобы тот неведомый ланин отец просил за кого-то, у кого отобрали права в нетрезвом состоянии... Я чуть не плакала от бессилия, я готова была немедленно позвонить в ГАИ и подтвердить, что сейчас приедет именно папа Ланы, а не кто-то другой, я предлагала ему самому все телефоны, я предлагала даже с ним поехать, но только предварительно спросить разрешения у моего отца... Нет, он хотел, чтобы я просто поехала и явилась в ГАИ вместе с ним. Я объясняла ему, что папы может не оказаться на месте, что в любом случае, от такого появления будет только хуже, и тогда он, взбешённый, уже точно ничего не станет делать... Он спросил у меня в последний раз. Я, заикаясь, отказалась. Он наговорил каких-то гадостей, в чём-то меня обвинил и повесил трубку. Я осталась, что называется, обтекать, но я ни секунды не подумала, что могла поступить иначе: кроме всего прочего, я чувствовала в этом звонке что-то нехорошее.
Возможно, конечно, что ланин отец был просто совсем из другого круга, где по-другому общались с детьми. Но мне вообще никогда не приходило в голову просто приехать к отцу на работу по собственной инициативе, тем более с кем-то, тем более на чужой, неизвестной машине.
Да, однажды у отца в ГАИ я даже проходила практику по делопроизводству, машинописи (школьный УПК). Но на эту практику он меня устроил, чтобы я проходила её даже не у него (не мог он столько времени на работе на меня тратить), а у секретаря ГАИ, немолодой, очень хорошо разобравшейся в жизни женщины, да там ещё была и опытная сотрудница помоложе. Всё это было в течение недели-двух официально оформлено, а к отцу в кабинет я вообще заходила далеко не каждый день. Но и после практики, — не то, чтобы это было каким-то правилом, а просто даже в голову такое не приходило, — я ни разу не появилась в ГАИ сама, по каким-то своим соображениям. Я не могу себе представить, чтобы и школьная подруга взяла и, не договариваясь, появилась у своего отца на работе, тем более с кем-то. Более того, я уверена, что если бы к ланиному отцу кто-то обратился с личной просьбой, использовав его дочь-школьницу, то он и сам бы никого за это не похвалил.
Так что тогда я такого представить себе ещё не могла, только почувствовала нехорошее, а теперь думаю, что там готовилась именно какая-то подстава. Ведь если бы ланиного отца действительно в первую очередь так волновал его коллега, то он бы не швырял трубку, а согласился бы хоть на одно моё предложение о предварительном звонке, хотя бы попробовал... (А он ещё, кажется, ввернул что-то о том, что мне лень прокатиться на машине, а не сидеть дома. Я дар речи потеряла. Когда это мне было ЛЕНЬ не сидеть дома, а прокатиться на машине!.. Нет, он или перестал видеть очевидное, или всё как раз прекрасно понимал, но ему нужно было именно осознанно чем-то подставить меня и отца.)
Не знаю, я сама смутно понимаю, почему сейчас это вспомнила. Но непосредственно в той истории, которая впереди, Ланка мелькнула не один раз.
Вообще, здесь опять попахивает давно замеченной технологией подавления и массового сворачивания мозгов. Возможно, «там у них» уже считалось, что если я в состоянии вдруг сорваться с места и отправиться, «куда вздумается», то значит, я вообще не понимаю, что делаю, совсем уж не различаю жизненных ситуаций. А может, наоборот, они планировали сами развить во мне эту черту до идиотизма, заодно показав другим, на что «я способна». Эти деятели очень любят выбить человека из колеи, «испортить», например, его собственные привычки, а потом, ни о чём, естественно, не рассказав следующим деятелям, представить готовый испорченный «продукт» новой психотехнологической своре, которая начнёт теперь его доканывать или «исправлять».
Это замечено далеко не только на моём примере и давно. Но о себе рассказывать проще (больше знаешь). Так, например, была ты всегда человеком, любившим поплескаться в ванне, нормально и часто мывшимся. Потом к тебе начинают цепляться, и поди это кому-нибудь расскажи, особенно когда делается это таким способом, что начинаешь искать у себя микрофоны и камеры, в уверенности, что ты кому-то абсолютно и грязно подконтрольна. (Особенно этим прославился когда-то Музей Музеев с его программистами.) Но микрофонов и камер дома не находишь. Муж папиной дочки что-то однажды вворачивает в машине (когда по твоей и отцовской просьбе везёт тебя вместе с компьютером в петербургский отдел «К»), — он вворачивает: «Современные технологии таковы, что никто никогда ничего не докажет, и остаётся только подчиниться». В результате, поскольку ты действительно ничего больше пока не можешь, начинаешь мыться по меньшей мере «аккуратнее», чтобы в крайнем случае лишний раз никому ничего не демонстрировать, если каким-то образом наблюдают. Потом уходишь из Музея, устраиваешься «всем на зло» работать «младшим дворником». (Правда, удаётся устроиться только в элитный бизнес-центр, когда, отчаявшись, приходишь в клининговую фирму и попадаешь только в бизнес-центр). Так там однажды «старший дворник» за чаем вдруг рассказывает тебе, как ты подмываешься. Рассказывает как бы и не о тебе, а о чём-то постороннем, и не столь непристойно на первый взгляд, а так, что вопроса не задашь, претензий не предъявишь и морду не набьёшь, — но рассказывает предельно точно, чтобы сомнений «в слежке» у тебя не оставалось, поскольку подмываешься ты действительно давно уже «нестандартно». Целый ряд явных применений психотехнологий и последняя история с неразбитой иномаркой, о которой я и рассказывала, и писала не однажды, окончательно убеждают тебя и в наличии «контроля» (т.е. подлой слежки какими-то, естественно, предельно морально грязными личностями). А рассказать толком никому ничего нельзя, особенно когда тебя уже объявляли сумасшедшей. Потом приезжаешь во вторую Москву, в Подмосковье, там тебя дразнят туалетной бумагой, история с которой примерно такая же. А потом (после всего!) в какой-нибудь общаге новая психотехнологическая свора определяет: «О, она не моется. Надо приучить». Интересно, что, по-твоему, будет дальше с человеком, с «человеческими отношениями», и зачем В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ всё это делается, в отличие от того, что объяснили этим придуркам?!
— Это понятно. Надеюсь, нам ты таких претензий предъявить не можешь?
— Нет пока. Я внимание обращала, — пока ничего подобного не заметила. Иначе бы я уже... Ладно. Но я хочу договорить.
— Естественно. И какого рассказа я жду особенно — понимаешь. Но я не вмешиваюсь, — продолжай.
— Продолжаю. Но ты, думаю, представляешь себе, как «стал» агрессивным и как «превратился» в алкоголика, например, Владислав Галкин, даже если у него это не связано непосредственно ни с какой, скажем, ванной, а с чем-то другим, но по аналогичной технологии!..
— Да всё я на самом деле представляю. Продолжай.
— Я вот в связи с чем об этом подумала. Что-то, возможно, и Полковник пытался (по заказу) сделать с моими заявлениями в инстанции и с посещением приёмных, чтобы впредь я «расхотела» принимать подобные меры. (Когда-то я действительно отличалась тем, что чувствуя какую-то жизненную непрошибаемую стенку, могла начинать действовать, узнавать адреса, правда, не такие официальные, и появляться в неожиданных местах. Но ведь, например, в шестнадцать лет я умудрилась разыскать адреса и попыталась сунуться к известным московским поэтам не на пустом месте, а начитавшись Вознесенского о том, как сам он в молодости явился к Пастернаку и тот принял его, начал заниматься с ним... Потребовался небольшой опыт, чтобы понять, что истории эти, моя и его — РАЗНЫЕ в силу МНОГИХ причин... Так что здесь была не внезапная глупость, а отсутствие определённого опыта. И т.д. Но часто человек вдруг принимает странные решения, совершает непонятные для других поступки не в силу стечения жизненных обстоятельств, не известных другим, а именно в силу манипулирования его сознанием.) Думаю, относительно этих «отучить-приучить», дело в том же, о чём я говорю вообще. А именно, дело в заведомом сценарии уничтожения, реализуя который тебя вынуждают прожить никчёмную жизнь, выбросив бешеную энергию в пустоту, дело в заведомой дискредитации твоей личности и поступков и дело в отсутствии у тебя обратной связи. С папой, например, обратная связь у меня была, даже если она не всегда нравилась, — так я и знала, что стоит делать, а что не стоит, и что чем может кончиться. А в школьной и во многих других ситуациях у меня её не было (где-то что-то умалчивали, где-то врали и пускали пыль в глаза). Вот и Полковник, за исключением последнего времени, вёл себя совсем не так, чтобы я туда больше не приходила, — разве что, мурыжил иногда в приёмной, пока сможет пригласить. Но появляться он часто призывал сам. Возможно, в целях безопасности оно какое-то время действительно имело смысл, я за это и держалась. Вот, когда во второй Москве ФСБ со мной «поссорилось», я долго оставалась один на один со всем происходившим и в какой-то момент, уже отчаявшись, пыталась обратиться куда-то ещё, тогда в приёмной МВД меня просто мягко послали. Тот офицер положил моё заявление на стол и прихлопнул сверху ладонью, явно тем самым поставив точку на нём (что-то вроде «обратной связи»), но вообще-то, к дальнейшему устному разговору был как бы подготовлен, поскольку знал, конечно, обо мне и ожидал разглагольствований, объяснений, желания приходить снова, и не знаю, чего там ещё. А я тогда просто резко забрала своё заявление, встала и молча ушла, больше там не появляясь. В приёмной ФСБ от меня, очевидно, нужно было что-то другое, вот я по-другому себя и вела. Я-то бежала во все эти инстанции в панике, в ужасе, к как к последней надежде, — но если я, оказывается, вдруг прибегала в результате как раз к тем, из кого и сделали идиотов, кого и научили подобным «всеобщим» «методам управления», то им, конечно, было гораздо легче сказать человеку, что ему (в мягком варианте) «всё показалось» и отфутболить его, нежели признавать отвратительную правду о себе самих... В общем, ничего про этого Полковника не знаю, — ведь когда-то он говорил совсем не то, что начал говорить в последнее время... Или надеялся, что я к нему «привыкну» и с лёгкостью начну принимать от него прямо противоположное тому, что сама же недавно думала и говорила, — что просто всё забуду?.. Всё, что он устроил, было так откровенно нелепо, что мне иногда и казалось: не специально ли он всё это сделал, ведя действительно двойную игру, и вовсе не против меня, поскольку отвёл не однажды от края пропасти (хотя, возможности полноценно жить всё равно не предоставил) и САМ вынудил МЕНЯ в определённый момент всё прекратить, чтобы не оказаться вынужденным добивать меня, как от него требовали?.. Но в последнее время воспоминания, правда, всё больше говорят об обратном... Ладно, хрен с ним.
— Действительно.
— Но всё это — день сегодняшний. А тогда шло начало 1982 года. Позенкова иногда меня привечала, а я иногда с ней откровенничала, вернее, говорила ей то, о чём не сообщала многим другим. И с ней, такой красавицей, конечно, хотелось играть (искренне) в какую-нибудь любовь, которая, тем более, действительно была. Вот я от всей души и входила в образ. Помню, как-то раз я к ней заходила. Проводили они с её матерью меня уже в дверях. Дали мне на прощание какое-то невероятное по тем временам (где только взяли, — я такое видела тогда впервые) огромное и красное яблоко. Сладкое, спелое. По дороге домой я его как раз доела. И пока доедала... расхотела жить. (Всё бы ничего, но ситуация с теми школьными оценками была такой завальной, что это давило круглосуточно). Придя домой я решила что-то с собой сделать и уселась писать пространную прощальную записку. Но я с ней тогда зашилась, а тут пришла с работы мама и я протрезвела. С облегчением выкинула всё из головы. (Но подделанную ведомость-то было не выкинуть...)
И вот, заканчивалась ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ. Родители так ничего и не знали. Я как раз «окончательно собралась садиться исправлять двойки», хотя, объём того, что нужно было освоить, казался в глубине души неподъёмным. В огромной школьной столовой, превращавшейся в актовый зал, в тот день проводилось общешкольное комсомольское собрание. Когда оно закончилось, ко мне подошла Надька (Надежда Викторовна, наша классная руководительница в девятом и десятом классах, тоже англичанка, которую мы совсем уж не любили, в отличие от предыдущей, математички) и... велела моим родителям завтра прийти в школу. Я сразу тогда решила, что это конец. Что бы про меня потом ни говорили, но окончательное решение я приняла именно тогда, после того комсомольского собрания и короткого разговора с Надькой. И сию секунду взялась осуществлять.
Дальше начались сплошные «чудеса». Надо заметить, что мамина сестра лежала в больнице и мама жила пока с её дочерью. Мне, как и её дочери, никто тогда не сказал, что у неё был рак и тяжёлая операция, — я узнала об этом лишь годы спустя. За мной присматривал папа и ночевать приходил, конечно, каждый день. Раньше девяти вечера никто из моих родителей, как правило, с работы не появлялся.
Никому, разумеется, не сказав ни слова, я запланировала добраться до дома, наесться таблеток и лечь в кровать. К девяти часам уже бы всё было кончено. (Таблетки, и те, и другие, хранились дома. Одно название я знала, второе, помнится, как-то уточняла из любопытства, звонила другой двоюродной сестре, мама у которой тоже имела отношение к медицине. Это было сильное успокоительное. Целая упаковка, баночка. Позднее какая-то врач пыталась выяснять, откуда таблетки. Никто в доме их не покупал. Мне бы такие не продали. Мама предположила, что они остались от деда. В общем, однозначного ответа не нашлось. Но об их существовании я знала.) Я отправилась домой и... не нашла в портфеле ключа. Позднее стало ясно, что ключ из портфеля вытащили, а потом подкинули, значит, кто-то уже заранее всё знал. Но мне такое в голову не приходило, поэтому я спустилась на пол этажа к окну и стала искать. Связка ключей была тяжёлая и звонкая, — просто не заметить её было невозможно. Я совершенно спокойно вытащила из портфеля на подоконник всё, что там было, и потрясла портфель, — ключа не оказалось нигде. Тогда я пошла звонить к каким-то соседям. Тёткина дочь, у которой хранился дубликат, по телефону не отвечала. У мамы на работе сказали, что она сейчас отсутствует. Папа в ГАИ просто не брал трубку. Что-то невероятное.
По логике вещей соседи должны были предложить подождать у них. Не помню. У меня были свои планы. Я отправилась на квартиру к тётке. Видимо, доехала на транспорте, хотя, можно было за час-полтора дойти вдоль лесопарка, если бы я не торопилась. Но у меня уходило время, и тогда всё теряло смысл. Дверь тёткиной квартиры никто не открыл, собака лаяла. Я болталась ещё какое-то время, надеясь дождаться тёткину дочь. Она училась со мной в одной школе (я подходила по микрорайону, а её как-то устроили через знакомую), но туда я уже не поехала. Периодически звонила из автомата по всем номерам с тем же результатом. Возможно, в ГАИ трубку уже брали, но папы не было. Проболтавшись неизвестно сколько, поняв, что время ушло, я решила дождаться папу и втихаря всё сделать ночью. Другого выхода, кроме таблеток, я так и не увидела, поскольку позор, если узнают про ведомость, был бы непереносимым. (Да я ещё я представляла себе, что уже никогда не поступлю в институт, ни в театральный и ни в какой, и останусь на всю жизнь с клеймом этих подделок, а сказать на это мне будет нечего. Фантазировать о том знаменитом возлюбленном больше права иметь не буду.)
Не помню уже, как я дождалась отца. Но я была спокойная, деловая, и он ничего не заподозрил. Мама позвонила ему от своей племянницы, и он сказал, что всё в порядке. Как я объяснилась по поводу ключа — не запомнила. Возможно, я просто сидела у соседей, и всё обошлось. Никакого возбуждённого состояния, никакой истерики или заметной подавленности у меня не было, — я просто делала дело, и в голову ему ничего не пришло. Не знаю, насколько осознанно я действовала в то время, а насколько моё спокойствие было результатом возможного внушения.
Поужинали, и я стала готовиться в своей комнате к предстоящему. Запасла молочные бутылки с водой, чтобы запивать таблетки. Посчитала, сколько их было.
— И сколько?
Алёна назвала два вида таблеток и две цифры.
— Да, широкая натура...
— Правда, потом мне рассказывали, что какие-то из них просыпались, когда я их ела горстями. Но это — потом. Знаешь, когда-то в детстве я смотрела эпопею «Освобождение», кажется, и не могла понять, что это Гитлер не может выпить яд, если уж принял решение. Теперь я пила эти таблетки точно так же, как там было показано: не с первого раза и совершая над собой какое-то бешеное усилие. Видимо, включался инстинкт самосохранения, мощнейший. Однако, я выпила. Но это было позднее.
Тогда я написала дикую записку: «В моей смерти прошу никого не винить» с припиской: «Ланка, никому ничего не говори. Пусть разберутся сами». Приготовила таблетки. После этого приготовила фотографии любимой знаменитости, попрощалась с ним, положила их у подушки. Потом выключила свет и просто посидела, дожидаясь более позднего времени. Помню острую мысль, которая, собственно, и явилась главной причиной суицидной попытки: «Какая там знаменитость, кто бы на меня посмотрел, кем бы я работала, что бы я вообще смогла, если я даже уроки сделать не в состоянии! В жизни всё равно ничего не будет. Вообще ничего».
Ещё я умудрилась помолиться. Получилось это у меня примерно такими словами: «Господи, как хочешь. Спаси или забери меня. Если заберёшь — отдай мою жизнь, мои силы кому-нибудь, у кого с этого выйдет больше толка. Присмотри, пожалуйста, за родителями».
Тогда нащупала таблетки, воду и начала, насколько хватало сил, глотать их и запивать. Отключилась довольно быстро, не успев как следует испугаться.
Один раз я ещё очнулась и собралась в туалет. Ноги уже не держали. Я добралась, держась руками за стенки. Там пришла в голову мысль разбудить папу и попросить вызвать скорую. Но я тут же сказала себе, что это малодушие, и добралась обратно до кровати. Вообще-то, все таблетки, которых я наелась, были успокоительными...
Потом, неизвестно когда, приоткрыла глаза — свет горел. Надо мной сидел врач в белом колпаке и очень грубо (а может, просто резко, чтобы на секунду очнулась и ответила на вопрос) спрашивал: «Что ты пила»? Я ответила заплетающимся языком и немедленно отключилась. Следующий эпизод был по логике на больничной койке. Папин голос спрашивал: «Ты маму видишь»? — и надо мной наклонилось мамино лицо. Я ответила: «Да...» Прошло ещё сколько-то времени.
И только потом я проснулась. Как оказалось, через двое-трое суток реанимации.
Выяснилось, что мой организм отреагировал очень редким для такой дозы образом, а именно, я начала без сознания бродить по квартире и разбудила тем самым отца. Сначала он ничего не понял и стал звонить маме, выяснять, не была ли я лунатиком. Потом они дозвонились до кого-то из знакомых врачей и та им сказала, что надо вызывать скорую, что бы это ни было. И только потом папа потащил меня в мою комнату и увидел там упаковки из-под таблеток, — всё стало ясно.
О ведомости родители так ничего и не узнали: в школе ни про какие оценки им не говорили. Я рассказала им это уже только совсем в последние годы. Моя бедная мама, говорят, спорила с физиком: «У неё по физике четыре», — «Ну, как же четыре, когда я ставил ей три»! — «Да нет, вы забыли, а я точно знаю, что у неё четыре»! — физик не стал спорить и закончил разговор... В конечном счёте к моменту выпуска по физике у меня действительно стояла четвёрка, потому что физика, всё же, «поинтереснее».
Причиной суицида я назвала несчастную любовь. Я не увидела в этом ничего особенного, начитавшись о творческих личностях. По поводу ответной реакции решила, что меня просто не поняли. Об оценках никому не заикнулась.
Маму у племянницы уже кто-то подменил, и она, конечно, жила дома. Я им сразу же призналась, что потеряла ключ, а они мне удивлённо ответили: «Нет, он лежит у тебя в портфеле...» В тот же вечер, когда я вернулась, между родителями проскочила разборка: папа ругался, что мама ленится закрывать дверь ключом, а только захлопывает, а она оправдывалась, что закрывает ключом всегда. Он отвечал ей, что как же, он приходил, а дверь только захлопнута. Она спорила, что такого не может быть. Всё это вместе взятое по поводу ключа запомнилось, как ахинея (но запомнилось), и лишь впоследствии стало понятно: поскольку один замок захлопывался, то значит, ключ был действительно украден в школе, потом этим же ключом кто-то открыл дверь, подбросил его в портфель, и уходя, просто захлопнул её на тот единственный замок, который удавалось захлопнуть. Произошло всё, видимо, строго по сценарию: меня хотели вовсе не убить, а только необратимо ославить. Тогда что-то вырисовывается и с происхождением таблеток в доме, которые никто не покупал...
Любопытно, что произошло всё именно тогда (не раньше, ни позже), когда тётка лежала в больнице, мама жила у племянницы, а дома со мной был папа... Ещё раз уточню, что дату выбрала (в кавычках или без), пропустив все нормальные и мыслимые сроки не я, а тогдашняя классная руководительница Надежда Викторовна. Уж она-то хорошо знала, в какой именно день всё случилось... А это, оказывается, перечеркнуло почти всю мою последующую жизнь. Хотя, конечно, не только тот эпизод: вся эта действующая фашистская система, оказывается, не так элементарна и проста.
Учиться с тех пор я стала внимательнее, хотя, не намного: мне всё опять сошло с рук. Но всё же, таких острых ситуаций больше не допускалось. А с любовью до окончания школы не изменилось вообще ничего, поскольку дело было тогда абсолютно не в ней. Жизнь тогда продолжилась, но мне следовало ожидать дальнейших нехороших сюрпризов. Был и такой, где мне подсунули на площади Искусств настоящего взрослого молодого американца, но «у них» с этим не вышло просто вообще ничего. Вспоминать ту историю весело.
В этот момент в комнату заглянула Вера, Анатолий к ней подошёл, они переговорили. Тогда он сообщил Алёне, что ещё немножко, и будет обед, только они все решили дать ей спокойно поесть, чтобы не говорила беспрерывно, — в общем, поест она одна. Возражений не было. Тогда Алёна пока продолжила:
— В десятом классе я, как уже сказала, собиралась в театральный. Но сообщить об этом родителям казалось лишним, чтобы не было длинных и долгих попыток отговорить. По-первости, я для родителей (а также в качестве запасного варианта) собралась на филфак, на русское отделение. Мама тут же нашла репетиторшу, поскольку школа школой, а поступление в университет — это нечто гораздо серьёзнее. Несколько раз я к ней сходила, изошлась зевотой и сообщила маме, что на филфак поступать не буду. Дело в том, что атмосфера мне всегда значительно больше нравилась у физиков. Эти люди казались понятнее, ближе, ярче. Тем более, видимо, что физиков я всегда видела довольно высокого уровня, а филологов — школьного. Заниматься литературой мне нравилось, но тогда — в основном самой (читая), а к точным наукам как таковым душа не лежала совсем. Ну в общем, «я-то знала», что поступать всё равно буду в театральный (я тогда, конечно, и представить себе не могла, что мне этого просто не дадут сделать, эта история впереди), поэтому, «чтобы родители не приставали», я сказала маме, что пойду на физфак. Как бы не так, — мама тут же наняла репетитора по физике. Потом был ещё математик, который вообще не понял, что со мной делать: это был репетитор не для отстающих, а для продвинутых, не для тех, кто ничего не делает, а для тех, кто уже заведомо знает больше школьной программы. Он, как и тот репетитор-физик, пытался разговаривать со мной УЖЕ не на школьном, а на университетском уровне, — тем было хуже. Но вообще-то, учитывая вообще всё, что происходило, я теперь предполагаю, что и это могло быть не просто так: мне могли просто подкидывать таких «учителей», чтобы я заведомо не могла ничего понять и не могла ничем этим заниматься. Ведь в школе то, что говорили физик и математик, казалось мне вполне понятным (доступными для понимания), только слишком уж велик был объём того, чем заниматься «не хотелось». Кроме того, я помню и те занятия по химии с неназванной одноклассницей-«пятёрочницей» (а химия ничем не лучше), когда мы слёту повторили и проштудировали почти всю школьную программу с прекрасным результатом. А ещё я помню пару подобных (хотя и не столь основательных), гораздо более поздних эпизодов, связанных с университетской физикой и математикой. Сейчас я об этом расскажу, но в целом теперь не исключаю, что все мои индивидуальные занятия такого рода (независимо от психологической посвящённости-непросвещённости преподавателей) заведомо были построены так, чтобы ни к чему не вести.
В первом случае я уже «училась» в Политехе на РФФ, куда меня заткнули по блату, «чтобы не пропадал год», и где сама я оставаться не собиралась, чувствуя бессмысленность такой учёбы, когда есть вещи, которые действительно интересуют и способности к которым у меня были очевидны и признаны. (Папа, как оказалось через два с половиной года, просто не знал, что на филфаке, например, нет никакой математики (кроме матлингвистики, о которой можно было не думать и на которую был свой отдельный конкурс), — что никакой математики там нет и в помине так же, как у него в институте не было никакой литературы, старославянского и латыни.) В общем, тогда я ещё торчала в Политехе, пропуская занятия напропалую, зашивалась, и пришла позаниматься с дочерью маминой коллеги, закончившей матмех университета и уже, кажется, где-то преподававшей. Занятия эти, насколько я помню, результата не давали. Но в тот раз она куда-то ушла, а кроме самой маминой коллеги дома был муж её дочери, тоже закончивший матмех. Он, совершенно «левый» для меня человек, «просто так» согласился поговорить со мной, посмотреть задачи. И он так мне всё объяснил, что в голове просто рассеялся какой-то туман, всё вдруг стало ясно с той завальной темой контрольной... Моя мама даже в самое последнее время вспоминала, как я тогда хвалила зятя её коллеги и как сокрушалась, что он — не наш преподаватель.
Ещё один эпизод запомнился из тех уже времён, когда я давно училась в университете на филфаке на заочном и жила замужем в Германии. Я тогда попросила у мамы немецкие адреса каких-нибудь физиков, работавших там же (таких оказывалось в те времена уже немало), она дала мне, договорившись, два адреса, и мы с мужем ездили — просто пообщаться с нормальными русскими, а заодно прокатиться по Германии по интересным местам. Один из них был «гений и сын гения».
Алёна назвала фамилию.
— Нормальные у тебя были компании.
— Да нет, компании там как раз не было, просто съездили один раз, и для меня при этом не очень удачно. Парень был как раз отвергнут той самой дочерью маминой коллеги ради того её мужа, с которым я однажды занималась и которого потом нахваливала. Не знаю, повлияло ли тогда именно это знакомство, но «гений» принял нас не очень приветливо, и общения как такового, тем более интересного, тогда не состоялось. А может быть, кстати, его тогда как раз «гасили», и он был заморочен чем-то своим. Я ничего не могу об этом сказать, ничего не знаю. Просто мы очевидно оказались для него неожиданной обузой, он вежливо «отстрелялся», хотя, мы тогда втроём даже погуляли по старому немецкому парку, и он даже пытался рассказать что-нибудь о физике в художественных образах (и неплохо, но особого впечатления это как-то не произвело), — мы уехали. А вот в другой раз... Слушай, а ведь второй адрес дала мне не мама, — я нашла его сама, поскольку раньше немного поучилась и поработала в Политехе и давно знала того парня лично... Он был преподавателем и научным сотрудником на РФФ. В Политехе мы немного общались на кафедре во время посиделок, на которых всё было довольно весело и по-человечески свободно (как я всегда и представляла себе физиков), а в Германии он был вполне рад русским гостям, несмотря на то, что дружб между нами никаких не было. По телефону он пригласил нас свободно, дружелюбно, без напряжения и подтекстов. Моего мужа он тоже встретил приветливо, без каких-то заведомых восприятий. Был он в то время женат первым браком, его жены я раньше не знала, а русская компания у него собиралась часто, как и в тот раз. Я тогда как раз, начитавшись Александра Меня, Тейяра де Шардена и прочих, интересовалась философским содержанием формулы E = mc2 и близкими темами, и попросила кое-что мне объяснить «на пальцах, для идиотов», что он немедленно и сделал, и даже очень увлечённо, — я опять всё поняла с потрясающей ясностью. К студентам-то он привык к каким угодно... Это тоже запомнилось (не сами объяснения из области физики, а больше факт, впечатление). О той поездке я потом тоже рассказывала часто. Но он вскоре, через несколько лет, неожиданно для меня женился во второй раз на одной из моих относительно дальних знакомых, одновременно филологической и политеховской, причём, брак лично мне казался странным, неожиданным. За границей он не жил, а периодически работал, куда к нему позднее приезжала и вторая семья. Кого-то он ещё родил, до какой-то степени вырастил, но потом сам стал каким-то очень странным и в конечном счёте, говорят, совсем спился. Страшно жаль. Преподаватель был от бога.
Но всё это происходило позднее, а тогда, весной, в десятом выпускном классе я довольно безрезультатно занималась с репетитором по физике «для поступления на физфак». Каждый раз после тех занятий нужно было по дороге домой пересаживаться с автобуса на метро на Невском, и я заходила посидеть на скамейке, покурить на площади Искусств, благо, вовсю наступала уже тёплая весна.
Однажды ко мне подсел и заговорил американец, самый настоящий. Не говоря о чистейшем американском английском, у него был характернейший дурацкий вид, какого здесь не бывает. Как бы это сказать... Взгляд — в духе Пола Маккартни, только всё будто утрированно. Высокий, совсем тощий, в светлых штанах и каком-то свитере. Сказал, что ему 29 лет. Я заканчивала английскую школу, так что язык знала очень прилично, к тому же, у меня самой не было психологического языкового барьера, — я начинала свободно общаться хоть на пальцах, лишь бы это был не урок, а свободное общение.
Впоследствии я много думала, что это было вообще за знакомство. В том, что оно не могло быть случайным, сомнения уже не возникало. Кончилось всё хорошо, никаких напрягающих моментов не произошло, воспоминания о тех двух днях прогулки по Ленинграду (мы с ним встретились ещё назавтра после школы) долго оставались очень светлыми. И всё же, что-то было не так. Додумалась я значительно позднее: дело в том, что у них тогда просто ничего не вышло. Но это надо рассказывать. Вообще-то, я уже об этом писала, — будешь слушать? Или времени мало?..
— Времени мало, но слушать буду. Даже жалко, что я уже всё знаю, что не появится неожиданностей... Но ты — рассказывай, рассказывай, как будто впервые. Ты выдаёшь иногда сюрпризы... Да-да, бывает... Но в любом случае, это интересно. Давай.
— В общем, мы разговорились, прогулялись по Невскому и договорились на завтра, — я назначила ему встречу там же после уроков. Для меня это казалось чем-то потрясающим: не в школе под присмотром учителей, а вот так, свободно!.. ПРОСТО американец, «СВОЙ» американец. Год это был 1983-й, первый год Андропова. В принципе, то знакомство для меня оказывалось чем-то вроде школьного клуба интернациональной дружбы, только без какого-либо контроля. Но я отдавала себе отчёт в том, что некоторая осторожность необходима: могут, чего доброго, не так понять.
Вёл он себя совершенно нормально, по-дружески. Я рассказала, что собираюсь в театральный, а он попытался мне объяснить, что такое «менеджер», — но тогда я бы этого даже по-русски не поняла. Его интерес и готовность к общению я объясняла себе своим достаточным знанием языка. В общем, мы договорились на завтра и распрощались. В Ленинграде он собирался пробыть как раз ещё один день, завтрашний (из трёх), а потом уезжал на несколько дней в Тбилиси (sic!), и я, конечно, в 16 лет ни разу не задалась вопросом, почему он, турист, из нескольких коротких дней два совершенно спокойно тратит на меня. (Никакого мужского интереса он не демонстрировал совсем, иначе бы я сама не согласилась общаться с ним так свободно. Но опасность, о которой я тогда почти не подумала, исходила, действительно, совершенно с другой стороны.)
По дороге домой я почувствовала себя перед дилеммой. С одной стороны, я наслаждалась теми прогулками по городу как необычайным приключением, так что никто третий мне был там совершенно не нужен. С другой стороны, я понимала, что просто так мне никто не поверит (а похвастаться в классе хотелось ужасно), значит, нужен был кто-нибудь в качестве свидетеля. Долго обдумывая этот момент, я всё-таки решила пригласить подругу, но попозже, чтобы и наговориться по-английски спокойно успеть, и обеспечить себе свидетельницу такого знакомства. (Того, что он, договорившись, может просто не появиться, в голову не пришло ни разу.)
Назавтра я рассказала всё школьной подруге и мы с ней договорились встретиться в определённое время у выхода с эскалатора в метро на Невском. Если бы она не согласилась пойти, я могла бы позвать другую подружку или кого-нибудь ещё. Кстати, ещё раз подчеркну, что никаких родительских должностей мы ввиду не имели (у нас почти все были «не просто так»), даже в голове не держали, и у второй подружки, которая тогда могла бы пойти вместо первой, родители были «никто». Лишь спустя десятилетия я поняла, КАКУЮ на самом деле это сыграло роль. Со второй подружкой мы просто могли бы засЫпаться вместе и нажить таких неприятностей, что «ни в сказке сказать». Но тогда — глаза были голубые, «деревья большие», подруга согласилась, так что нужно было только дождаться конца уроков. ...Увы, меня назначили убирать класс и выкрутиться не получилось.
Я опоздала к нему больше, чем на час. Я, правда, уже и не летела, смирившись с мыслью, что он уйдёт. Но он... ждал. Ждал на той же скамейке БОЛЬШЕ ЧАСА. Тогда я просто очень рада была, что дождался. Мне даже и в голову не пришло задаться каким-либо вопросом. Это уже позже, когда мне было 20 лет, я познакомилась с будущим мужем, ВОСТОЧНЫМ немцем, мы как-то раз поначалу договорились о встрече, я опоздала на 20 минут и его там не было. Я тогда обиделась, а он, говорят, сокрушался: «Ну почему, почему она не пришла!..» — ужасно расстроился, но даже не подумал, что можно так опаздывать. Это потом ему, бедняге, пришлось представить себе, что такое и 20 минут, и побольше... А тут — почти незнакомый американец, три дня в городе, никакой большой и малой любви не возникало ни на секунду, и ждёт больше часа... На самом деле, вероятно, ему сообщили, что хоть я и опаздываю, но еду. Однако, кому бы такое могло прийти в голову в то время и в 16 лет!..
Того, что я притащу подругу, не мог вообразить, видимо, никто. (Тогдашние психотехнологи, как и нынешние, в своём амёбном примитиве вообще, наверное, забыли, что человек существует и выше пояса, что человеческие проявления в десятки раз шире сексуальных, даже у кого последние изрядно развиты. Правда, чтобы убить — амёбного примитивизма достаточно абсолютно.) Но мне вот с такой точки зрения он элементарно не нравился. Мне ужасно нравилось говорить по-английски не ради оценки, а ради общения, мне нравилось свободно общаться с человеком из другой, далёкой страны, тем более из Америки... Но гораздо важнее, чем что-либо другое, мне было притащить свидетельницу знакомства, чтобы потом свободно рассказывать об этом в классе.
Он спросил у меня про родителей и удивился: «Учёный и полицейский?.. Это странно, очень странно...» — «Почему?» — «Тебе так не кажется?» — «Ну... Ну, да... Наверное, странно...»
Дважды он спрашивал у меня, не хочу ли я есть. Я, во-первых, не хотела, во вторых, вот тут-то я хорошо понимала, что в кафе или ресторане с западным иностранцем оказаться никак нельзя, — этот вопрос был закрыт для меня безоговорочно. (Жила-то я, как-никак, в этой стране, и некоторые вещи сидели в крови.) Мы нагулялись, наговорились, и тогда только я сказала ему, что нужно идти к станции метро «Невский проспект», потому что сейчас приедет подруга. Ошарашенности он особо не выдал, но в метро сразу спросил меня, какими монетами здесь нужно звонить, и отлучился.
Подруга приехала, а он отсутствовал довольно долго. Позднее я поняла, что они там лихорадочно что-то решали. Она уже хотела уехать, но мне было неудобно: он столько ждал, а мы не дождёмся... В конце концов он появился и сказал, что сегодня вечером ему нужно на концерт в консерваторию. Консерватория, как известно, в шаговой доступности от метро «Невский проспект» никогда не была. Видимо, посовещавшись, они решили отменить «операцию», и он просто пытался отвязаться. Но не тут-то было. Времени у нас оставалось навалом, а в голове ничего дурного как раз не возникало, так что мы никак не могли отпустить гостя, не проводив. Дальше вспоминать уже только смешно, поскольку дальше (как мне позже стало понятно, когда высветился смысл его появления на моём горизонте), — дальше он уже пытался вежливо отвязаться, но мы всё-таки завезли его в эту консерваторию (к чёрту на рога), а он только разевал рот от того, как мы снесли все препятствия на пути. Тогда мы с подругой всё принимали за чистую монету, смешным ничего не казалось, а только было ужасно интересно и необычно. Гостеприимство мы оказали ему такое, что в эту консерваторию, абсолютно ему не нужную, мы его, несмотря ни на что, запихнули «с запасом времени». Интересно, как он потом оттуда выбирался?.. В общем, последний день в Ленинграде он наверняка запомнил.
Общался он в основном со мной. И потому, видимо, что "операция" была изначально рассчитана только на меня, и потому, что у подруги как раз существовал языковой барьер: ей, наверное, было легче общаться на оценку с русской учительницей, которая в крайнем случае её поймёт, чем с настоящим иностранцем, который если уж не поймёт, так совсем.
Сначала я объяснила ему, что пешком дойти невозможно (по крайней мере, очень далеко). Он ответил, что он не может тратить деньги на автобус. Я от всей души выгребла из кармана горсть мелочи и предложила бедному американскому менеджеру пятачки, туда, обратно и про запас. Он отказался. В общем, получалось, что пешком ему идти далеко (а от нас он никак не мог принять такой жертвы, чтобы мы провожали его туда пешком, — одному же ему идти, как я считала, нельзя: долго и заблудится), брать мелочь на автобус он не хотел (а свою тратить по каким-то там американским привычкам рука не поднималась), оставалось... Оставалось такси.
Как назло, ни одной свободной машины нигде не было (в советское время, «в Ленинграде-городе»). Стоянок вокруг не наблюдалось или они оказывались пусты, а ждать — означало бы сказать ему, что мы собрались предпринять. Он нам, конечно, «не оказывал открытого сопротивления», сохранял лицо, и даже очень приветливое — тем больше мы старались. Осторожно и с улыбкой он спрашивал у нас, что мы задумали, — я отмахивалась. В поисках стоянки, поскольку времени оставалось ещё много, мы вернулись в сторону площади Искусств, и там я увидела, что какой-то водитель такси копается в моторе. Я кинулась к нему, объяснила ситуацию и он согласился везти. Перед иностранцем распахнулась дверца и он, ничего не понимая, сел. Видимо, не мог себе представить, что это — за деньги (кто его, этот Советский Союз, разберёт), — я ведь о чём-то договаривалась... В машине всё допытывался: «Что ты ему сказала?» — «Я сказала, что с нами — американский гость, которому очень нужно в консерваторию». Таксист, пришедший в приподнятое настроение, тоже всё просил по дороге что-то перевести и спросить.
Ехали мы не долго (пробок тогда не возникало), и на счётчике выскочило 70 копеек (бешеные деньги). Американец разинул было рот, но когда я дала таксисту рубль и барски отмахнулась от сдачи, то он просто уже смотрел на всё это квадратными глазами. Но мы приехали и нужно было выйти. Запас времени оказался огромным, а консерватория — вот она, так что мы зашли внутрь показать ему двери и входы внутри, чтобы потом не блудил. Служители сию секунду молча зажгли в фойе свет. (Западных иностранцев, туристов, хотя и не так свободно болтающихся, в то время в центре города встречалось гораздо больше, чем теперь, а уж по «нашему подопечному» тем более всё было видно за километр. Когда мы ещё гуляли по Невскому, его пытались дёргать сзади за зонтик под мышкой, кто-то несколько раз порывался остановить и худо-бедно заговорить...) Потом мы пошли напоследок гулять вокруг консерватории, на какой-то скамейке ещё посидели.
Накануне я уже спрашивала у него о безработице, — он ответил, что это не так страшно, как думают здесь. Теперь подруга наморщила лоб, долго вспоминая, и выдала всё-таки слово «unemployment». Он уже просто расхохотался, ответил, что об этом его спрашивают все до единого. (В голову не приходило, что ответ на этот вопрос мы очень скоро получим исчерпывающий...) Он спрашивал у нас об Афганистане, и мы наперебой убеждали его, что введение войск — это просто братская помощь афганскому народу, — никто никого не убивает. Он спорил. Мы продолжали убеждать. В конце концов, спросили его: «Ты нам веришь?» — он, коротко задумавшись, ответил: «Вам — верю». (С ударением и кивком в нужном месте: «I believe YOU».) И потом он говорил безо всякого пафоса, а наоборот, задумчиво и, ОБРАЗНО ВЫРАЖАЯСЬ, держась руками за голову, — он очень тепло говорил о том, что Земля — одна, одинаковое солнце, одинаковые комары (он был из Бостона), и простые люди, не имеющие отношения к политике, живут одинаковой человеческой жизнью, — этой светлой встречи он никогда не забудет. Он был искренен.
Вскоре мы распрощались, — он остался «ждать концерта», а мы, как пьяные, пошли к метро уже действительно пешком в избытке чувств. По дороге подруга после некоторого молчания периодически делала над собой усилие и что-то начинала говорить мне по-английски, потом кто-нибудь из нас опоминался, и мы смеялись, весело и от души.
Он даже оставил мне адрес, и я даже дважды писала: из России, когда началась перестройка, и из Германии после падения Берлинской стены. Никто не отвечал.
Конечно, тот «случайный» знакомый был ЦРУ-шником, — в этом теперь нет сомнений, особенно, судя по чудовищной разветвлённости, как выяснилось, этой организации. И даже если он тогда расчувствовался, то его эмоциональный настрой потом, скорее всего, быстро «поправили», — теперь я давно представляю себе, как это делается. Но не решил ли он в тот момент действительно «всё прекратить» — этого я просто не знаю... Помня те события, кажется, что, по крайней мере, он должен был отойти от этого сам. Может быть, он был в той истории просто «посторонним» ЦРУ-шником, которого попросили ЗАОДНО «сделать дело», — дело сорвалось, и он не пожалел об этом... С другой стороны, вспоминаются и сюжеты, в которых западники, наобщавшись с милыми и добрыми русскими, делали всё же конечный вывод, что помогать или просто давать им жить не надо, пусть загибаются... Но это всё уже — из области гаданий. А в моей жизни просто ничего тогда не изменилось. Злоключения были впереди. Хотя, вероятно, что и такой промежуточный результат оказывался положительным, поскольку иначе резко измениться в худшую сторону всё как раз должно было и могло, «если бы не...»
Чуть менее десяти лет назад, припоминая тот случай снова, я уже чувствовала, что подоплёка здесь должна быть, но всё же, относительно долго я не могла понять, в чём она. Всё стало на свои места, когда я вспомнила, как классе в четвёртом мы исключали из пионеров одного мальчика (о втором из них я даже не помню), который якобы выпрашивал жевачки у иностранцев. («Жвачка» — это у коров, а наша резинка — это «жЕвачка», жЕвательная резинка.) Парни оба были, вообще-то, не из тех, кто мог бы всерьёз этим увлекаться, но если вдруг выпрашивали — то скорее просто из детского хулиганства. Но сигнал пришёл тогда из милиции, которая якобы их двоих поймала. Не говоря о том, какая это ерунда (единственное — что такие делали себя дурачками перед иностранцами), это могло быть и просто подставой. (Могло, поскольку обоих этих мальчишек (умнейших, технического склада ума) «притопили» потом по полной.) Позднее нам сообщили, что в школу якобы пришёл милиционер и сказал, что всё оказалось ошибкой, — так что в пионерах их потом восстановили. Но процесс исключения был.
В общем, когда я вспомнила то исключение из пионеров одноклассника, у меня в мыслях как-то сразу всё «срослось» и о «своём» американце. Конечно, всё было просто, а американец как раз и нужен был самый настоящий. Если бы я «захотела есть», то в любом заведении (а деньги бы сразу нашлись) к нам бы быстро подошёл какой-нибудь милиционер (или КГБ-шник, или дежурный «комсомольский бог»), и было бы не отмазаться: больше не видать бы мне никакого института (после исключения из комсомола), а с работы бы сразу полетел ещё и отец, — и ещё не известно, что было бы с матерью с её третьей степенью секретности. Однако заходить куда-либо я отказалась именно ввиду последнего, о чём имела представление. Тогда нас могли бы, конечно, прихватить и на улице (хотя, это уже казалось бы слишком демонстративно: вид-то у меня тогда был совершенно обычный, советский, — нас и не трогали) или придумали бы ещё что-нибудь. Но я приволокла подругу, да не абы какую. Если это было связано со школой, то пока американец «звонил», очень быстро выяснилось, с кем я пришла. «Завалить» же в те времена отца подруги — это не какого-то там начальника РайГАИ. Дома у нас бы в этом случае получилось у каждой по разборке, и объясняться пришлось бы долго, но и только. Однако, как-либо связываться с её отцом и привлекать внимание, чтобы американец был отправлен домой безо всякого Тбилиси, в то время не хотели. Вот и дали отбой. Остальное я рассказала...
Кстати, тот мальчик, которого исключали из пионеров и о котором я это запомнила, был ярко выраженным евреем, — это я к тому, что дело здесь вообще не в национальностях. Разумеется, межнациональную рознь как сеяли, так и сеют, и бьют всегда по больному, — если больное в национальном вопросе, то бьют сюда. У нас, и не только в школе, разделались очень со многими русскими, и могло бы сложиться впечатление, что в «квартале еврейской бедноты» уничтожали нас. Но и это не верно. У евреев вполне могло сложиться впечатление, что удар наносится по ним. (А моя былая яркая университетская подружка, узбекская татарка, болезненно считала, что современный фашизм — это явление чуть ли ни исключительно со стороны славян против «чёрных».) Тот парень, которого исключали из пионеров, потом эмигрировал в Израиль, но жизнь у него всё равно не сложилась, таланты пропали, и судя по доносившимся слухам, затёрли его основательно и там. О втором, «белобрысом», речь ещё пойдёт. Кстати, та моя детсадовская одногруппница, которая умерла в родах (или беременная) вместе с ребёнком, тоже была еврейкой с более чем колоритной фамилией. Там история про женскую консультацию вообще выглядела насквозь детективной, и врач, кстати, была матерью одного ученика из параллельного класса (не нашего! — по определённым причинам это существенно, — я тоже как-то раз оказалось у неё на приёме перед замужеством, и она поставила мне диагноз несуществующей болячки, не слишком, правда, серьёзный, но и не подтверждённый больше ни одним врачом, ни в Германии, ни здесь)... Таким образом, у меня есть причины считать, что хотя всё это периодически и выглядит тем или иным национальным фашизмом, но в действительности досталось тут всем. Современный фашизм в самом своём источнике не может быть национальным, поскольку Америка — страна, не имеющая коренной, доминирующей нации, но стремится к мировому господству на других основах, — тем более наднациональны какая-нибудь «трёхсторонняя комиссия» или Бельведерский клуб...
Более того, я уверена в искусственно создаваемом впечатлении межнациональных причин различных проблем и трагедий. Кстати, тот же Барбисовин... Он был абсолютно уверен, что причины его прессинга до 1991 года кроются исключительно в антисемитизме. Проблема антисемитизма действительно существовала, сказывалась на многих она очень серьёзно, но её ещё и очевидно подогревали. По крайней мере, в связи с моим нервным срывом, желая настроить меня самостоятельно справиться со «своей» проблемой, Барбисовин рассказывал, что сам дошёл когда-то буквально до мании преследования, «с которой справился сам». У него «мания преследования», по крайней мере, как он обо всём это говорил, развивалась именно на почве антисемитизма. В университет по национальным причинам его не взяли, пришлось закончить филфак в педагогическом. Пока он работал в маленьких музеях, он часто шёл на работу и не знал, что ему ещё сегодня устроят, какую ещё неприятность. Мне, однако, русской, «русее некуда», такое было очень и очень знакомо. Хотя, не столько в связи с работой в маленьких музеях, — но не важно. В общем, это знакомо, это коснулось, но совсем по другим видимым причинам. Потом он делился со мной, как эту «манию» он «сам преодолел». Он рассказал при этом о ТАКОМ балагане, что мне потом оставалось только поразиться, как это он с таким интеллектом не разглядел там очевидной режиссуры... А именно, когда он как раз «преодолевал манию», на улице к нему подошёл работяга-амбал, с другой стороны — поляк (которые, по его же словам, как раз нередко отличаются антисемитизмом) и кто-то ещё. Барбисовин подумал, что «вот и начинается». Но амбал сказал ему что-то тёплое и дружеское, поляк обнял за плечи, и что-то ещё в том же роде третий. «Мания преследования» была исчерпана, а Барбисовин, как раз примерно к 1991-му году, когда он «перестал быть рабом», окончательно превратился в «пламенного борца за демократию», для чего, как я считаю, вся история, от начала и до конца, и была нужна. Конечно, я догадываюсь, во что такое непонимание очевидного может упираться у того же Барбисовина: в то, что эти люди вряд ли могли быть кем-то наняты (возможно, что и не были, и что никто с ними даже просто не договаривался), — да и «кому он нужен!..» — и уж в любом случае, никто не мог знать, о чём он тогда думал (его мысли-то ему не цитировали)... Ответ на вопрос, «кому он нужен», очень прост: нужен в основном не он сам, а страна, земля с ресурсами, условия для приобретения которой подготавливаются заранее, в частности, при помощи социальной инженерии, и здесь Барбисовин с его интеллектом и авторитетом в определённых кругах очень интересен для дальнейшей обработки сознания окружающих индивидов. А то, что никто не мог знать, о чём он думал... Если смотреть с такой точки зрения и не допускать возможности прямых вторжений в сознание тем или иным способом, то действительно не понятно, откуда вдруг берутся такие «наймиты» или «доброжелатели», отыгравшие представление по преодолению «мании», сколько ни говори о неуловимой «пятой колонне». А также — откуда эти толпы дур в шалях и отливающих мужиков, и откуда взялся Горбачёв, предавший и продавший вообще всё, и сам до сих пор толком не понимающий, что сделал...
Я обращала внимание на эпизод о Рейкьявике у Широнина, в книге «КГБ - ЦРУ; секретные пружины перестройки», а недавно почитала книгу Рэма Красильникова, «ЦРУ и "перестройка"», где вскользь говорится о более раннем влиянии на Горбачёва Маргарет Тэтчер и, в конечном счёте, Раисы Максимовны (что есть вещи вполне известные), и поняла, что всё произошло, видимо, гораздо раньше Рейкьявика и Тэтчер. Действуют-то в основном через тёток, которые более зависимы, восприимчивы и внушаемы... Ну, в общем, тем или иным способом, раньше или позже, но Горбачёв, скорее всего, был заранее «выращен», — это тот же ЦРУ-шный психологический гомункул, какого сделали из Евсюкова, психологически «натренировав» его заранее и задолго, какого пытались сделать и из меня, тем более — из моего возможного ребёнка, которого я бы уже не контролировала... (Вот почему, вероятно, нужны были манипуляции со всей нашей семьёй, с фотографиями и пр.) Горбачёв был заранее заготовлен, выпестован с нужными психологическими и интеллектуальными характеристиками, а Рейган получил благословение папы Римского на «крестовый поход против СССР» именно тогда, когда ему сообщили, что будущий лидер, которому предназначено угробить страну, «практически готов». (А может, ему этого прямо и не сообщали, а подали какой-то другой сигнал, ведь насколько мне известно, ни в «трёхсторонней комиссии», ни в Бельведерском клубе Рейган допущенным и посвящённым не являлся)... Короче, пока ФСБ не примет как факт возможность тем или иным способом прямо вторгаться в сознание ключевых и второстепенных фигур, оно уж точно будет проигрывать психологическую войну (или индивидуально «выигрывать», если кому-то платят за это деньги)... Только мне кажется, в ФСБ об этом давно знают, и всё обстоит ещё хуже: вовсе это уже не война, а ВСЕ государства пытаются теперь делать из нас (своих граждан) безмозглых и довольных рабов... Война — это, конечно, плохо, но если моё предположение верно, то такое положение вещей — не совместимо с жизнью, и тогда уж точно лучше или война (пусть информационная, но ВОЙНА), или всё, чего заслуживает этот бессмысленный, ненужный мир... Правда, ещё до моего появления у вас на объекте у меня по некоторым причинам оставалась надежда, что мои худшие предположения не вполне верны...
Подожди, подожди, я ещё кое-что хочу сказать, раз уж затронула еврейскую тему. Секунду, сейчас найду. Вот. У Лисичкина и Шелепина в книге «Третья мировая (информационно-психологическая) война»... У них там, вообще-то, немало сказано о педалировании еврейской темы в СССР в ходе такой войны, о подогревании антисемитских настроений в обществе и желания евреев выехать за рубеж, но тогда я увидела во всём этом некоторую натяжку (что-то не понравилось) и подробно не конспектировала, хотя в основном их мысль вполне принимала. Но в связи с планированием ядерных бомбардировок Советского Союза вот о чём они пишут на с. 146-147: «<Готовя ядерные удары,> США фактически готовились к <автоматическому> уничтожению еврейского населения СССР <...>. И любой еврейский националист должен был бы препятствовать массовой гибели евреев. Джулиус и Этель Розенберги, посаженные в то время в США на электрический стул, были евреями-великомучениками, отдавшими свою жизнь на алтарь спасения еврейского народа — евреев в СССР от уничтожения Соединёнными Штатами. Они осуществляли свою деятельность, зная, что она может оттянуть срок атомного удара < что было особенно актуально до появления атомной бомбы в СССР>, что они ценой своей жизни могут внести свой вклад в предотвращение нового, вслед за Гитлером, массового уничтожения евреев». Вот, возможно, одна из причин, по которой антисемитизм и массовое стремление еврейского населения к эмиграции усиленно педалировались извне. Если в России резко уменьшится количество проживающих в ней евреев, то уменьшится и вероятный международный протест против уничтожения этой страны.
Конечно, это не дело, чтобы один народ оказывался заложником сохранения какого-либо другого. Но причина, вызвавшая массовую эмиграцию евреев из России (и поломавшая немало судеб) была, похоже, вызвана посторонними силами. И вот, например, Хлобустов в книге «Доктрина Даллеса в действии» на с. 78-79, упоминая шестидневную войну Египта с Израилем 1967 года, называет «скоропалительным решением» последовавший разрыв дипломатических отношений СССР с Израилем, которые были восстановлены только в октябре 1991 года. Как знать, возможно, такое «скоропалительное решение» тоже было тем или иным способом «подброшено» для осложнения еврейской проблемы... Всё это — так, к слову, раз уж затронула эти моменты в рассказе о неслучайном знакомстве с американцем весной 1983 года. Но я ушла далеко от темы.
— Что ж, высокая блондинка в жёлтом ботинке, давай теперь обедать. Здесь у нас «комсомольские боги» попадаются только из прошлого, а американцы просто не заглядывают сюда по неведению...
— Ну, давай обедать...
— Только вот что я хотел тебе ещё сказать. Если впредь ещё когда-нибудь пересечёшься, а тем более, если у тебя будут приключения, о которых тебе ещё ничего не сказали и ради которых ты сейчас находишься здесь, то держись-ка ты подальше от этой вашей математички.
— От какой?
— От вашей классной руководительницы с четвёртого по восьмой.
— Лидии Гавриловны?
— Ага. Делать тебе ничего уже больше не надо (не твоя это теперь забота), но просто старайся больше не лезть туда совсем. Наверное, относительно скоро тебе придётся, особенно первое время, все решения принимать самой, а потом прикрывать других от соответствующих неприятностей будешь уже не ты, а профессионалы. Если, конечно, сумеют и успеют. В общем, в любом случае, туда ты уже больше не суйся.
— Ну, честно говоря, относительно математички, это для меня — не такая уже и новость. За последнее время столько всего передумано... Кстати, мама моя очень нервничала, когда я порывалась дружить с Лидией после школы. Но дело не только в мамином мнении, а в том, что я вообще навспоминала, одно к одному. Даже странно, что я не видела этого сразу. Восприятие и система приоритетов у меня были, видимо, всё-таки частично нарушены. Искусственно, конечно. Вот так же, наверное, после школы и с любовями теми паршивыми, на которые жизнь украдена. Я же замечала, что что-то не так, пыталась же сопротивляться «собственным чувствам», отметала их, в конце концов... Из-за всех жизненных «нестыковок» вместе взятых я и к «фиолетовым» тогда побежала радостно... И чужой сценарий по большому счёту я НЕ отыграла, завалила, поскольку он и был липовым, — таким, который мне не органичен... У меня сыграла свою роль очень сильная собственная природа, оказавшаяся, в конце концов, сильнее внушений и воздействий. Только слишком поздно, когда жизнь прошла. В общем, о Лидии я уже успела подумать много, — там есть, о чём. Но только дело всё равно не в ней.
— Да-да, всё правильно. Но тему сейчас лучше сменить. Кстати, ты же говорила, что если где-нибудь отдавало общиной, ты неслась оттуда очертя голову. Как же ты задержалась у «фиолетовых»?
— Но они и не имели никаких признаков общины. Вместе не жили уж точно, лицензию от министерства образования получили, а кроме самих курсов, которые долгое время воспринимались просто как обучение, учёба (собственно тренинг), и которые можно было посещать или не посещать, общение выглядело сугубо индивидуальным и добровольным...
— Ну, ладно. Теперь я предлагаю тебе, пока обедаешь, прикинуть вот что. Было бы здорово, если бы ты об этом ещё сказала. Понимаешь, ненавистью и проклятиями жить, конечно, можно, — это очень сильные эмоции. Но ЖИВЁШЬ-то ты не ими... По тебе просто ВИДНО, что живёшь ты чем-то другим. Вот ЧТО это? Что конкретно даёт тебе силы так фантастически выживать и жить? Или, если тебе так легче, то скажи, в каком именно мире ты хотела бы оказаться? Почему так безоговорочно отметаешь этот и что бы предпочла взамен?
— Ну, только не жди от меня, что я сейчас нарисую тебе картину мира, идеального или вообще своего...
— Что ты, такой примитивной тебя здесь никто не воспринимает. Но что-нибудь ты ведь можешь об этом сказать?
— Могу, конечно, и даже сию секунду.
— Нет-нет, не нужно. Сейчас пора обедать. Отдохни, и пойдём к нашим женщинам.
На этот раз, как и собирались, Алёну оставили одну. Сначала они с Толей помогли Вере разнести обеды, пока Тася ещё хозяйничала на кухне, и затем Алёна закрыла за собой дверь в «конференц-зал», — остальные разместились за столом в общем зале, где был побольше свободный стол.
Думать ей ни о чём не пришлось: всё сразу было настолько ясно, что она тут же и хотела ответить, да Анатолий не дал. Единственное, что она решила сделать — в двух словах изложить вначале свой взгляд на мир, сформировавшийся с тех пор, как она отошла от религии. Это нужно было сделать, поскольку отсюда казалось легче объяснить остальное. Ничего уникального в своём мировоззрении она не видела, но в сегодняшней вакханалии взглядов и информации стоило очертить свои границы. Думать об этом заранее тоже не требовалось, чётко формулировать что-либо сейчас не хотелось, и Алёна начала почти безмысленно уплетать потрясающе вкусный обед. Других здесь, в общем-то, и не бывало... «Что это я в спортзал не хожу? — подумала она, Растолстею ещё до безобразия... Но в принципе, получается, что и времени действительно нет. Как только освобожусь — наведаюсь». Ей казалось, что на объекте она находится целую вечность, а это был всего лишь её третий день в сознании, после того, как она в парке взялась ладонью за ствол и отключилась... «Вообще бы никуда отсюда не уходила», — мелькнуло у неё, и ей пришлось тут же себя одёрнуть, поскольку не знала она ещё ни цели, ни чего-либо другого, о чём ей обещали сказать позднее. Но всё же, по этому поводу ей как-то не переживалось. Её, хоть тресни, устраивали люди, и она даже не испытывала потребности что-либо в этом себе объяснять. Все они были как бы не из сегодняшнего мира, а из той, далёкой жизни... Или она сама хотела их такими видеть? Она остановила эти мысли, встряхнулась и с аппетитом принялась за фруктовый десерт.
Она доела, перебралась обратно в общий зал, рассмотрев предварительно какую-то не очень понятную аппаратуру, и уселась обратно, где уже привыкла сидеть — на удобный, катающийся рабочий стул с регулируемыми параметрами, у небольшого стола, выполнявшего функции и журнального, и рабочего.
— Ну что, отдохнула от нас? Что-нибудь сообразила?
— А чего там соображать, — всё и так понятно.
— Ну, тогда давай, ответь что-нибудь на мой вопрос.
— Я хочу начать от обратного: почему я, как ты выразился, так безоговорочно отметаю этот мир. А что, его можно принять? Чем-то здесь заниматься, чего-то хотеть? И не то, чтобы лично мне, а вообще всем, имеющим представление хоть о чём-то другом (вот сейчас методично и выбивают, уже почти выбили, всех, кто такое представление имел). Я не имею в виду тебя, ещё каких-то оставшихся или даже умудрившихся ещё вырасти людей, до которых я всё равно не допущена, — их очень мало и они, как и все мы, прости, не вечны. А целенаправленная и технологичная обработка сознания ориентирована именно на то, чтобы их не осталось совсем, кроме, разве что, международной так называемой элиты. Но дело в том, что им даже ничего не объяснишь, особенно молодому поколению, которое не видело ничего другого и не может разобраться в потоке вранья. Для них вот это — норма, и больше они себе ничего просто не могут представить. Я не умею объяснять слепорождённым, чем зелёный отличается от красного. Тем более что сознание старшего поколения обрабатывалось постепенно, долгие годы, менялись они и сами не так резко, и вошли уже плавненько совсем в другую систему координат. Я думаю, что в этом мире уже просто действительно всё кончено, как у Замятина в фантастической антиутопии «Мы»: вселенная «проинтегрирована», и больше ничего уже не будет никогда, потому что выжжены почти все живые ростки, дотаптываются последние семена, и вырасти живой жизни уже будет не из чего.
— Ну, вообще-то, если уж ты хочешь природных аналогий, то живая природа растёт, чёрт её знает, откуда... Правда, конечно, в основном чертополох, а не розы и не окультуренная пшеница. А сознание (не просто разум, рассудок, а во всей подлинной совокупности) — это действительно нечто другое, так что если уж среди выжившего биологического вида оно и прорастёт опять, то пройти должно будет такое необозримое время, что нас, наших современников и ближайших потомков это действительно не коснётся ни в каком виде и никоем образом. Вообще, ты ещё ничего не сказала конкретнее, не определила, но я уже немножко чувствую твою мысль и могу, к несчастью, только подтвердить её со своей точки зрения: да, кроме биологической возможности продолжения вида, даже разумного, но и не более того, здесь уже действительно всё кончено, развитию происходить не от чего. Но именно поэтому все мы здесь находимся и привезли сюда тебя. Оказывается, ты способна будешь единственная прорваться через эту «мёртвую петлю» (да, «мёртвую петлю») времени и попытаться что-то сделать, чтобы мир не мог становиться таким, как сегодня есть. Если, конечно, что-нибудь получится. Нужно, чтобы он не пошёл больше по пути этой «мёртвой петли», только уже не по «петле», а прямо, как положено и действительно навсегда. К сожалению, что-то уточнять сию секунду я не уполномочен. До серьёзного разговора на эту тему тебе осталось не так уж много. Но я тут навыражался слишком образно, а на деле получится всё куда прозаичнее и даже более трудоёмко, — не физически как раз, а интеллектуально. Кстати, «мёртвая петля» времени — это тоже всего лишь образ, и не очень точный.
— Но эмоционально хорошо выражающий суть явления?
— Да, да, да. Лишь бы не получилось совсем не так, как показывают расчёты.
— И мне придётся куда-то прорываться?
— Нет. От нас ни от кого это не будет зависеть, ни от каких усилий. Всё произойдёт само и помимо нашего желания. Но ты, хоть и вынуждена будешь повторить то же, что все... Впрочем, меня теперь ещё и Димка убьёт за эти разговоры раньше времени. Забудь пока. До объяснений осталось немного. Ты говорила о том, что здесь всё кончено.
— Ну да, даже в очень простых вещах. Когда-то, когда ещё было, с кем поговорить, я пыталась что-то о ком-то объяснить Светлане, одной из двоюродных сестёр, старшей (не помню даже, как я там оказалась, но раз в несколько лет такое бывало), — что-то о разнице между какими-то конкретными людьми. А она мне в ответ: «Да, вот так думаешь о человеке, что хороший, положительный, а он тебе такую козью морду состроит!..» То есть, для неё не существовало других категорий, кроме «хорошо-плохо», она даже вообще не понимала, о чём речь. Но с неё-то и взять было нечего, кроме анализов, а сменить при желании собеседника тогда ещё проблемы не возникало. Теперь же к подобной возможности и способности оценивать явления и людей приближается просто всё общество. То же — с категорией «умный-глупый», как будто бы не существует целой палитры нюансов, очень многое определяющих помимо ума как такового, способности соображать. И так далее.
Помню, в одном из общежитий одна довольно молодая девушка собиралась назавтра увидеться с весьма симпатичным ей парнем, и она задумчиво поделилась с одной из тёток: «Я никак не могу выработать алгоритм завтрашней встречи». Но такая встреча — зачем она нужна вообще, какая в ней радость, какой интерес? Если только, конечно, это не была издёвка лично надо мной... Но вроде, все они были вполне серьёзны и на меня не очень-то даже смотрели...
— Нет, я не думаю, что это было издёвкой, — многие люди сейчас действительно так и живут.
— Вот-вот, об этом я и говорю. И кстати, не только у нас, в бывшей России. Лучшие, самые человеческие французские комедии были сняты примерно в 70-е годы. На Западе ещё вовсю существовали глубокие писатели-интеллектуалы, хотя, творчество их куда-то потихоньку уже катилось. И кстати, в США в 1957-м, по-моему, году, тоже попадались очень живые люди: одни могли снять фильм «Римские каникулы», другие — посмотреть и понять (почувствовать!), о чём он вообще. Но недавно я уже слышала в анонсе: «приключения принцессы и журналиста». А я ещё помню те времена, когда человек, сказавший такое всерьёз, был бы вынужден сгореть со стыда.
— Теперь не сгорел?
— Не-а...
— Кажется, я начинаю тебя понимать, а то я уж боялся, что ты начнёшь заумничать и не сумеешь (или не захочешь) объясниться доходчиво... Но — продолжай, — теперь уже совсем интересно.
— В общем, главное — что за всем этим стоят вовсе не какие-то естественные жизненные процессы, не тенденции общества, а трезвый расчёт тех международных элит, которые имеют власть над сегодняшним миром, — расчёт с совершенно определённой практической целью. Людям, особенно молодым, очень умело внушается, что они, в отличие от остальных, крайне современны, находятся в русле самых передовых течений и не заморачиваются устаревшим хламом, а на самом деле за такой вывеской скрывается направляемая тенденция к элементарной деградации, примитивизации, к тому, что я назвала целенаправленным оскотиниванием человека, его сущности. Из остающегося населения земли готовят банальных и низкоразвитых рабов, лишённых настоящих творческих способностей, но при этом не восстающих, а вполне довольных.
Действительно, ни одному хозяину не нужно стадо мыслящих, философствующих, творящих коров, но хочется, чтобы они были просто дойными и послушными, и такое поголовье желательно сохранить. В тех, конечно, рамках, которые не потребуют от хозяев чрезмерного напряжения сил. Очень прилично о таких вещах пишет Ваджра. Ну как, разве можно такой мир не «отметать так безоговорочно»? Всё идёт семимильными шагами просто к частично наднациональному фашизму и к новому рабовладельческому строю, такому, чтобы на серьёзное противостояние у рабов нового типа просто не хватало мозгов, да и в голову бы не приходило чему-то противостоять, потому что, как ёрнически говорила одна соседка, «тепло, сухо и в корыте плещется, — что ещё нужно?..».
Этот мир проворонили, и ничего другого в нём уже не выйдет. Разве что, как ты сказал, в необозримо далёком будущем, когда человечество, если сумеет сохраниться, проснётся и начнёт всё с начала, с того же освободительного движения...
— Отлично. Но ты ведь скажешь что-то ещё?
— Скажу, но подожди, — это пока не всё. Уже какое-то время назад я перестала праздновать день Победы и больше не планирую, поскольку до действительной победы над фашизмом, если вдруг она когда-нибудь состоится, мне не дожить уж точно. Кстати, насколько мне известно, в сталинские, то есть именно послевоенные времена этот праздник не отмечали, кроме самогО того дня, того периода, когда победа непосредственно была одержана, — разве что, просто вспоминали о годовщине. Да и вообще, какой был день Победы, когда в США уже существовала атомная бомба и сразу планировались ядерные бомбардировки СССР, а здесь её ещё не создали, и противопоставить ей было нечего — что можно было праздновать? До того ли? Это было бы просто даже в некотором роде неуважение к фронтовикам. Во всяком случае, не проводилось ежегодных парадов, и парадом ограничились тогда одним, тем самым. Возможно, они были правы, — так было достойнее, — хотя, не знаю. Но теперь я сама как ПРАЗДНИК этот день больше не отмечаю и не буду, хотя, когда-то он казался священным. Можно вспомнить о тех, кто эту победу тогда одержал, и обо всём, что и как тогда происходило. Но, по меньшей мере, не этично праздновать победу над фашизмом в полностью завоёванной, разгромленной, наголову разбитой фашизмом стране (да и мире). День победы над фашизмом в абсолютно, почти стопроцентно фашистской стране — это нелепо. Даже и если власти «этого не хотели», — «так получилось». Если этот день будет праздником, то пусть уж гитлер-югенд скачет с георгиевскими ленточками на всех потребных и непотребных местах, — измываться надо всем и вся (особенно надо всеми) их научили отменно, а думать — очень мало кого.
Но только знаешь, я бы сейчас хотела построить разговор несколько иначе: сначала расскажу одну историю, о чём уже упоминала вскользь, потом отвечу до конца на твой вопрос, а потом — ещё две темы, касающиеся только меня, чтобы уже закончить со школой. Не возражаешь?
— Давай.
— Я имею в виду того мальчика, которого тоже «поймали» на выпрашивании жевачек и о котором я сказала «белобрысый». Он действительно всегда был светлым, — Ник Савицкий (так его у нас называли, сокращая имя Николай). Для детей-первоклассников перед поступлением в школу у нас проводилось что-то вроде собеседования, чтобы определить, выдержит ли ученик повышенную нагрузку. Так вот, Ник перед первым классом знал что-то около сотни-другой японских иероглифов. В общем, «головастик». Был он левша, и в начальной школе, как водилось в те времена, его жёстко переучили на правую руку. Я знаю, что мама его бегала ругаться, но ничего не добилась. Но это уж просто времена были такие. Ничего не знаю о его жизни, ничего не могу сказать, но хотя он всегда оставался умным, учился очень прилично, но вырос каким-то скисшим, странноватым. А парень-то был, видимо, хороший, — плохого я с его стороны не запомнила ничего. Жил он как-то немножко «в сторонке», дружил с тем мальчиком, с которым и «попался» на жевачках, но от него, честно говоря, многие молчаливо ждали, что из «тихого омута» поднимется какой-нибудь лауреат, если не Нобелевской, то, скажем, Государственной премии. Впрочем, у нас ничего не поднялось, кажется, ни из кого, — разве что, некоторые живут в материальном достатке, в частности, в Америке и в Европе.
Закончился десятый класс, начинались выпускные экзамены, первым было сочинение. Писали мы, оба класса, кажется, в столовой, где убрали столы и поставили парты, по одной на человека, чтобы не сидели рядом и не списывали, не общались. В столовой или в спортзале, — это почти одно и то же. Всем было ни до кого, и никто, по-моему, не заметил, что Ник не пришёл. (Друг его не мог не заметить, но, вероятно, знал, в чём дело, как и учителя, и промолчал.)
Теперь я уже давно хорошо знаю, что когда человека уничтожают «современным способом», то если ему в отношении чего-то очень больно, стараются сделать ещё больнее, ударить именно сюда. Например, когда я укладывала папу в предпоследнюю больницу, из которой он уже не должен был выйти, но я его тогда забрала под свою ответственность, что позволило ему прожить ещё год, — так вот, тогда он мог ещё сам спуститься к «скорой», что и сделал со мной под руку, — а вокруг нарезАл круги неизвестно откуда взявшийся старый дед с ярко-красной коляской, которую он ещё и безостановочно тряс. (Папа очень переживал, что ему не довелось понянчить внуков — моих детей.) Тогда я всё это уже понимала, особенно после дикой истории с маленькой девочкой на лестнице в ярко-красном, — но сейчас не буду отвлекаться. А когда мы заканчивали школу, я таких вещей, конечно, ещё не замечала, не отследила. Ник, уж конечно, тоже. В голову никому не могла прийти такая дичь.
Так вот, сели мы все писать, в какой-то момент двери распахнулись и в зал заехали ресторанные тележки, которые катили несколько фотомодельных мамаш из родительского комитета. Пока мы писали, нам всем с понтом развозили чай или кофе и бутерброды. Ни до, ни после ничего такого больше не бывало. (Мамаши эти вполне могли и не знать подоплёки, — утверждать ничего не могу.) У Ника мать, кстати, тоже была очень стройной и со вкусом.
И в какой-то момент Ник вдруг появился с огромным опозданием. Совершенно никакой, а если и что-то читалось на лице, то — «надо же, какая невероятная ахинея!..» К нему быстренько подошла какая-то учительница, отвела в сторонку, усадила, и что-то он там написал. Большинству было не до него. Наверное, учителя договорились с отцом, чтобы Ник явился в любом случае, — выпускной экзамен был делом не шуточным.
Дня через три «испорченный телефон» сообщил, что накануне выпускного экзамена у Ника покончила с собой мать, перерезав вены в ванной, где утром её и нашли. Причин самоубийства так и не выяснилось. То есть, как-то это, конечно, объяснили, в основном, разумеется, её собственной неадекватностью (которой никто никогда и не видел).
Не знаю, пытался ли он поступать куда-то ещё или уже не стал, но закончил он в результате «Лесопилку», то есть, высшее образование получил и в результате работал по специальности, но никакого взлёта не случилось. Планировал ли он что-нибудь, стремился ли к чему-то — я не в курсе.
Всё на том же двадцатилетии выпуска он снова сидел никакой: говорили, что не очень давно жена его умерла от рака, оставив двоих детей.
— Так, теперь, пожалуйста (будь добра), про какую-то маленькую девочку в красном, — что-то у тебя такое мелькнуло.
— Ну, хорошо... Только ведь Полковнику я, кажется, писала и это...
— И всё же.
— Ладно... Только это — из гораздо более поздних времён, из Музея Музеев. По-моему, 2005-й год или 2004-й, начало лета. История была вроде деда с красной коляской, только цель там преследовалась немного другая: не просто подавление психологической болью, а уничтожение как таковое. Опять это касалось папы, но через меня. Он был ещё здоров, носился вовсю, но что-то, наверное, готовил, а мама, конечно, ушла уже на работу. (Сама пошла, что случалось уже редко, или он её, как обычно, проводил — не суть.) Я уходила поздно, но не помню уже, на работу в Музей или куда-нибудь в выходной день. В то время меня как раз интенсивно доводили красным цветом, и вообще, усиленно пытались устроить ещё один нервный срыв, — Барбисовин всё не мог понять, почему этого не происходит. Я, конечно, была постоянно на взводе, но уже внутренне «поднакачалась» (как мне всё время казалось, не без чьей-то помощи, и я всё упорно и тихо («тс-с-с!..») надеялась на Барбисовина), так что справляться со всем этим мне удавалось уже прилично. Тем не менее, в тот период невротизировали и доводили с особенной силой. Может быть, какая-то особенная дрянь мелькнула по телевизору (я об этом ещё толком не рассказывала), но из квартиры я выходила совсем уже «закипающей», стараясь только не напугать папу. Он, как стал это обычно делать после Германии, выходил провожать кого-либо на лестницу, за дверь, и ждал, пока человек не уедет на лифте. В точечных девятиэтажках (здесь такие дома называют башнями) квартиры расположены по три на этаже и по две между, на лестничный марш выше основного этажа, как и наша, так что к лифту от квартиры нужно спуститься или подняться, — мы, конечно, всегда спускались.
Так вот, кто-то из нас распахнул дверь квартиры и оба мы увидели около неё маленькую девочку лет трёх в ярко-красном платьице и каким-то ободком со столь же красным бантом на голове. Девочка стояла на краю лестницы около нашей квартиры, одна на всём этаже. Она казалась страшно напуганной, растерянной, не знала, что ей делать, — видимо, её только что сюда поставили и исчезли. Взобраться по этой лестнице, ступеньки которой были ей выше колена, она не могла никак, тем более что стояла там такой напуганной, и очевидно, что напуганной именно неожиданностью для неё такого положения. Но и моё тогдашнее состояние надо себе представить, — меня предварительно довели опять почти до предела, а такого рода измывательства, как сейчас, когда открылась дверь, происходили регулярно, особенно с детьми и особенно в красном, только ни разу ещё не случалось, чтобы ребёнок в подобной ситуации был оставлен совсем один. Мой папа отличался тем редким для мужчин качеством, что очень любил маленьких детей, именно маленьких, и он прямо весь задрожал: «Возьми, возьми её!» — но я представляла себе, что происходит, понимала, что кто-то здесь ещё есть на стрёме, да рядом, всё же, стоял ещё и папа, поэтому я просто обошла эту девочку, буквально вжавшись в стенку, как можно дальше от неё, опасаясь её резких движений (чьей-то провокации, которая не известно, чем могла бы кончиться), сбежала к лифту и вызвала его. Папа сам стоял растерянный. И тут из квартиры напротив лифта, то есть из нижней, вышла «мамаша», поднялась к девочке на лестничный марш, приговаривая фальшивым голосом: «Ну что же ты, глупая, сюда убежала! — здесь тоже (видишь?) дяди и тёти живут», — и забрала ребёнка. Эта «мамаша» была незнакомой, видимо, она снимала квартиру (неполное лето), больше я ничего об этом не знала, но убедилась, что наша квартира и оттуда находилась под наблюдением (очень точно был выбран момент перед нашим выходом), и, вспоминая это, я утверждала, что это была не мать. Не могла родная мать оставить дочку на лестнице перед тем, как дверь откроет человек, которого прямо сейчас пытаются довести до неадекватного состояния. Я-то знала, что я бы ничего не сделала, — но поскольку меня именно тогда усиленно доводили, то больше (кроме меня) этого не мог знать никто. Никаких мер принимать и ничего выяснять я тогда не могла, поскольку после нервного срыва постоянно чувствовала себя под угрозой психиатрической расправы. Той квартиры больше не существует: она объединена теперь с соседской в единую трёхкомнатную (2+1), с двумя кухнями и санузлами.
— Алёна, от твоих других двух историй такая же оторопь берёт, или это попроще? Если попроще, то давай сначала их, а то потом ничего хорошего уже не сможет прозвучать совсем...
— А оно и так уже не прозвучит, ведь речь пойдёт не о каких-то возможных выходах из тупиков, а о том, что было в этом мире и теперь уже уничтожено навсегда. Если и можно чем-то жить, несмотря ни на что, то только своей принадлежностью к тому, ради чего когда-то на Земле возник человек, — принадлежностью хотя бы в собственных глазах, в собственном понимании. Знаешь, я начинала читать книжку о страшных, но ещё не последних временах, — так и не дочитала, но кое-что у меня записано. Вот, Терещенко А. С. (бывший сотрудник СМЕРШа), «Чистилище СМЕРШа; Сталинские "волкодавы"». Вот что он пишет:
«Гитлер в одной из бесед с Германом Раушнингом, состоящим в ближайшем окружении фюрера, президентом Данцигского сената, так прокомментировал цель этой политики: " Мы должны развить технику обезлюживания. Если вы спросите меня, что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это то, что я намерен осуществить, это, грубо говоря, моя задача... Одна из главных задач немецкой государственной деятельности на все времена — предупредить всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами дальнейшее увеличение славянской расы".
Кстати, Раушнинг вскоре разочаровался в нацизме и сбежал в Великобританию, где написал и опубликовал несколько книг антигитлеровской направленности...»
Ничего нового в этом, конечно, нет, но эта цитата очень яркая.
Вот, а современные международные фашистские лидеры, хотя они так себя и не называют, а наоборот, всячески это маскируют, стремятся по существу к тому же: к сокращению численности населения Земли, к «устранению целых расовых единиц» и — к уничтожению того единственного, ради чего имеет смысл жить, — стремятся к «мёртвому сезону», к созданию «человека-функции» у себя в подчинении.
Да, дела любовные и стремление к продолжению рода были и будут всегда, пока существует вид. Но особенно с тех пор, как человечество вырвалось из магического плена и до самого недавнего времени, которое я ещё застала, у людей была ещё радость творчества и радость познания. Была! — даже если об этом не думали и не произносили такие слова. Имеется в виду, конечно, не обязательно художественное творчество или наука, но это было ощущение, которое пронизывало всю жизнь, это оказывался, если хочешь, вектор. Отдельно взятые люди всегда были, конечно, очень разными, — не все вообще испытывали такую потребность — творить и познавать, но существовали другие устремления, ожидания (или разочарование в них) и другое настроение в обществе в целом. А когда у нас, по крайней мере, начали всё ломать и загонять в определённые («западные») стереотипы, то просто радость познания обозначили гаденьким словом «образованщина» и отбили к этому охоту, если ты не зарабатываешь чем-то подобным бешеных денег. Причём, самое страшное, что человеку отнюдь не предоставили возможности выбирать, хочет он этого или нет (как, в общем-то, и было почти всегда), но общество (в виде совокупности отдельных людей) целенаправленно приводится к соответствующему состоянию. Если тебя не устраивает предложенное положение вещей, то тебе не предлагается даже самому искать выходы и пути, но тебя насильственно загоняют в обозначенную кем-то колею. Вот это и было действительным кошмаром всей моей жизни: все мои желания, все попытки, потуги — вникуда, как в вату, — я билась о какие-то стенки и не могла их пробить, а когда что-то находила и немедленно начинала расти в этом СВОЁМ (я ещё расскажу), то «кирзовым сапогом» кто-то загонял обратно, и даже не физически (что тоже противно, но «так жизнь устроена»), а подлее всего — психологически, исподволь и почти непреодолимо. Это была очень мучительная, почти невыносимая жизнь. Отсюда, по сути, и суицидная попытка, и радостная «беготня» к «фиолетовым», — пока всё не прояснилось, не стало понятным и не переросло, от безвыходности, почти уже только в противостояние. Поскольку жить, как хочешь и можешь, как требует твоё врождённое естество «не разрешают», а без этого и по-другому — не можешь (один волчий вой). И всё это только потому, что самое позднее со второй половины ХХ века международные фашистские лидеры (хозяева мира, даже если они маскируются и называют себя иначе) устанавливают новый мировой порядок — новый рабовладельческий строй, где каждый раб должен теперь стать довольным жизнью «человеком-функцией». Между прочим, «новый порядок» — это термин Гитлера на оккупированных территориях… Хоть ты-то понимаешь, о чём я говорю?
— Думаю, что да. Но я всё же более или менее занимался своим делом, я из тех счастливчиков, кто, по крайней мере, успел свободно начать жить. Продолжай.
— Мне кажется, что совсем искоренить в человеке творческие способности невозможно. (Или он уж совсем перестанет быть человеком.) Но теперь их по плану Даллеса просто перенаправляют и именно в садизм. Что такое садизм по сути? Стремление к власти как таковой, удовольствие от власти над живым существом. В клиническом проявлении это физическое насилие вплоть до убийства, в иных — житейская, психологическая, но именно власть как таковая, само чувство, ощущение, которое приводит к наслаждению и — как с алкоголизмом, когда без этого уже невозможно. Так вот, теперь творческие потребности и способности стали всё больше выражаться в психологических навыках (с целью манипуляции, если они вообще бывают с другой целью). Правда, это умудряются прикрывать благородными намерениями — не только совершенствования мира, но и «желания добра» тем, кого в действительности мучают всё больше и больше или, наоборот, негласно «делают счастливыми», но счастливыми скотски. Вот эти сугубо садистские проявления и наклонности прививаются, культивируются, захватывают человека целиком и становятся единственным выражением его творческой сущности. Я уже не знаю, можно ли это как-нибудь отнять, заменить у тех, кто, как алкоголик, как наркоман, вкусил этого и попал под эту зависимость, — для него такое ОЩУЩЕНИЕ власти над другим живым существом — высшая радость, высшее наслаждение, весь смысл жизни, особенно когда это искренне объясняется себе благородными побуждениями. Я не знаю, можно ли всерьёз что-то сделать с этим в виде уже массовой эпидемии. Потому и говорю, что человек перестал быть человеком (не в смысле хорошим и добрым, но просто потерял свой развитый и гибкий рассудок, своё сугубо человеческое чутьё), а значит, живые семена дотаптываются, и больше чему-либо уже неоткуда будет прорасти.
— Давай-ка прервёмся на пять минут, а потом дорасскажешь две свои истории.
— Да, а ещё я хотела рассказать, КАК вообще вижу мир...
— Обязательно. Но сейчас прервёмся. Если чего-нибудь не успеем — время в запасе ещё немножко есть в том смысле, что счёт на дни ещё не пошёл. Отдыхай. Я сейчас приду.
— Ну, ладно.
Анатолий вышел, Алёна откинулась на спинку удобного стула и прикрыла глаза.
Он тем временем постучался в комнату женщин, подошёл к Вере и попросил её отправить сигнал неэкстренной связи Дмитрию. Тот не стал присылать сообщения и сам отзвонился почти сразу.
— Слушай, старик, от таких разговорчиков надо отдыхать хоть несколько минут, менять обстановку. Завтра будешь слушать — сам поймёшь. Но ты знаешь, она БУДЕТ работать — как мы все, как Вера, как Тася, — она сделает вообще всё, что надо, я уже больше не сомневаюсь.
О чём-то они ещё поговорили, Дмитрий немного отвлёк коллегу и объяснил, как ему нужно разговором отвлечь Алёну, дать ей эмоциональную передышку. Ещё немного они «потрепались ни о чём», Анатолий передал для дальнейшего разговора трубку бабушкам, зашёл на кухню, взял каких-то фруктов и вернулся в зал, старательно вспоминая несколько анекдотов, чтобы разрядить обстановку. Но когда он пришёл в зал, Алёна очень быстро встала, взяв, правда, сочную грушу, — повеселиться она согласилась совсем чуть-чуть и без особого настроения, и сообщила, что пока думала тут одна, захотела сказать кое-что ещё.
Всё-таки, Толя ещё немножко её отвлёк, рассказав историю о том, как во второй половине восьмидесятых провалилась одна крупная операция. Несколько россиян на Западе были высланы домой или даже арестованы. Одна сотрудница находилась в это время на Ближнем Востоке под видом командировки американского квалифицированного специалиста, (а квалифицированным специалистом, живя по заданию в Штатах, она являлась в действительности). Обстоятельства тогда сложились так, что в момент и после общего провала ей лучше всего было уйти в Союз нелегально через границу с Азербайджаном. И вот, она, уже далеко не юная, привыкшая к очень цивилизованной жизни, уходила с проводником под видом арабского мальчика через горы. Роста она была небольшого, формы имела совсем не роскошные, так что фигура в костюме выглядела вполне подходяще, но уже не такое молодое лицо совсем не походило на мальчишечье, её знания восточных языков для такой роли не годились, да и голос никак не мог соответствовать выбранному персонажу. Мальчика приходилось изображать глухонемым и нездоровым, сторонившимся людей. Проводник выручал, как мог. Опасное и тоскливое путешествие заняло около трёх месяцев. А когда она, уже одна, перешла границу и оказалась на советской территории, её личность установили быстро, но в провале всей операции обвинили сначала именно её. В конечном счёте, ей повезло, поскольку подлинный виновник выявился довольно скоро, тем более, что в период экстренной эвакуации почти всех провалившихся сотрудников он практически сразу оказался перебежчиком на Западе. Так что все обвинения с неё были сняты. Но всё это приключение стало и концом её работы, учитывая уже и возраст, и переменившуюся политическую ситуацию в стране. Это была Тася…
— Только ты, пожалуйста, больше ни о чём сейчас не спрашивай, и с ней самой разговоров об этом не заводи: это — больная тема… — закончил Толя свой рассказ.
Алёна осталась под сильным впечатлением. Она уже, конечно, не стала интересоваться про Веру: во-первых, Толя попросил её ни о чём не спрашивать, во-вторых, всё и так становилось уже более или менее понятным. И насколько она успела разглядеть этих бабушек, вот именно что-нибудь в таком роде и было похоже на правду. Теперь она уже тем более не пожалела, что не стала приставать с расспросами раньше.
Неожиданно дверь приоткрылась, и кто-то позвал Анатолия. Он выскочил, какое-то время отсутствовал, потом зашёл, сел обратно на прежнее место и сказал Алёне, что сегодняшние планы немножко переменились, вероятно, даже в лучшую сторону. Но сейчас им можно спокойно продолжать прерванный ранее разговор.
— Ты хотела, после того, как оставалась одна, ещё о чём-то мне сказать. Я готов выслушать, если ты не передумала и не забыла, а то всё бывает…
— Нет, не передумала и не забыла, потому что это всё равно важно. Вы объявили меня без вести пропавшей, держите меня в неведении, так что я даже совсем не знаю, что мне предстоит, и не очень понимаю, что от чего зависит. Но вы все говорите, что если что-то там не состоится, то я останусь жить под чужим именем, практически на нелегальном положении уже навсегда, но вот тогда-то якобы и будет всё хорошо. То есть, под какой-то другой личиной, которой мне совершенно не хочется, вы выпустите меня опять вот в этот мир, да ещё теперь и нельзя будет совсем уже никак о себе заявить… При этом здесь вы меня, конечно, уже не оставите (я вижу, что это довольно дорого, и всё происходит под какой-то определённый, как теперь говорят, «проект», который должен ещё состояться, но может и не состояться), — и если некий «проект» не состоится, то нужна я не буду точно уже никому…
— Подожди, подожди. Ты опять забегаешь вперёд, и теперь уже не хочешь подождать совсем чуть-чуть…
— Нет, Толя. Я имею в виду вовсе не сам «проект», как это теперь называется, а ту вероятность, если, как вы говорите, ничего не состоится, и я должна буду снова уйти «в мир», «откуда пришла», но больше никогда не оставаться собой, даже если вы обещаете обеспечить меня спокойным жильём, новыми документами и фальшивой легендой. То есть, я буду не как Тася, о которой ты только что рассказал, жившая под чужим именем и под чужой личиной в чужой стране, когда это была её работа, а имя и настоящая сущность всё равно оставались известными, принадлежавшими ей и восстанавливались после выхода её из игры. А я, по сути, должна буду просто исчезнуть навсегда в качестве себя самой, и вы лишь обещаете мне позаботиться о моём физическом существовании. Но действительной жизни — как у меня не было никогда, так теперь даже намёка на неё больше не появится уже стопроцентно… Только не предложи мне, пожалуйста, смирившись с окончательной потерей собственного имени и собственной личности, выйти за кого-нибудь замуж и этим успокоиться.
— Алёна, у меня сносная память, и я учитываю всё, сказанное тобой на тему замужества. Хотя, если ты завела такой разговор, то, собственно, почему бы и нет?
— Да по кочану!!! Ты что, не знаешь, КУДА вы меня в этом случае собираетесь вернуть, даже если все поверят в моё исчезновение и меня действительно никто не станет разыскивать специально! Хотя, я уж не представляю, где я должна буду оказаться, в случае реализации вашего «проекта»…
— Вот именно. Давай, пожалуйста, рассказывай, что у тебя там ещё осталось из окончания школьных времён. Остальное — потом. В конце концов, позвонил Димка, сейчас он всё бросит и будет здесь, так что долгожданный разговор решено перенести на сегодняшний вечер, когда он немножко послушает содержание сегодняшних наших бесед. А может, и не будет пока — по большому счёту это всё равно ничего уже не изменит в наших общих планах. Не будем терять время: оно, хотя ещё и не поджимает, но уже дорого. Пожалуйста, говори.
— Но рассказывать дальше в какой-то мере не имеет смысла, если того, что я собиралась, я не скажу прямо сейчас. То и другое связано между собой напрямую. Ведь всё это, в конечном счёте, сводится к конструированию липовой жизни липовой личности, в чём и заключается весь смертный ужас — и прошлого моего положения во всей моей предыдущей жизни, и того, во что меня, кажется, снова собираются окунуть.
— Ну, тогда, действительно, продолжай и об этом.
— Так вот, я же нахожусь под тотальным контролем! — какие могут быть замужества, любови, дружбы с тех пор, как я это поняла! Любить в аквариуме при полном зрительном зале?! Правда, никто из нынешних тайных фашистских деятелей никакой жизни для меня и не планирует. Всё делается исключительно ради смерти по определённому сценарию после заведомо сконструированной соответствующей «жизни». Всё, в чём я могла бы проявиться, самореализоваться, последовательно перекрывается, а все проигрышные, дискредитирующие моменты педалируются, подчёркиваются, провоцируются искусственно. Но это — огромная тема, к которой, собственно, и сводится весь этот многодневный разговор. Что же касается любовей и замужеств, то уже слишком очевидно, что до меня не допустят человека, который ничего не знал бы обо мне заранее, не занимался бы психологической обработкой совершенно определённой направленности. Да и вообще, если уж мне находят способ рассказывать, пардон, про туалетную бумагу, то какие тут могут быть личные, интимные отношения, о которых некие фашистские силы будут знать исчерпывающе и досконально! — это уже опыт многих лет. Опять же, в сегодняшнем мире я не одна такая, кого держат под тотальным контролем. Но поскольку речь идёт именно о физическом, в конечном счёте, уничтожении (путём неявного «доведения до смерти»), то мне этот тотальный контроль продемонстрирован со всей очевидностью в тех же целях — сделать жизнь невыносимой ради быстрой гибели.
— Но ведь тебе именно и предлагается: в случае, если не состоится, как ты выразилась, «проект», навсегда исчезнуть и «возродиться» другой личностью...
— И что, ты хочешь сказать, что я никак не проявлюсь, что меня не вычислят под другим именем и под другой даже личиной, или что этой «другой» личностью в скорейшем времени не займутся точно так же? Или что отслеживают в сегодняшнем мире не всех?..
— Но твой «сценарий» относится именно к тебе, а не к другому человеку, которым тебе придётся стать… Хотя, конечно, для другой твоей ипостаси, если ты опять обратишь на себя внимание, «сценарий» могут запланировать новый… Нет, я спорить с тобой здесь не буду… Но поверь, вероятность того, что генеральный «проект», как ты его обозвала, через полгода не состоится, крайне мала, и речь сейчас надо вести не об этом. Ладно уж, раз Димка переносит разговор на сегодня, то я не буду заранее выкладывать его содержание, но на ту тему, которую ты затронула сейчас, я тебе скажу больше. Ты ещё и не поверишь в его сообщение, но с этим подождём. А вообще, то, что должно произойти через полгода, может оказаться и просто самым настоящим концом света, и тогда сейчас не имеет смысла уже ничто. Но если случиться именно то, что должно по расчётам, то это — насколько привлекательно, во всяком случае, для нас, находящихся здесь и нам подобных (мы это называем «вариант максимум», хотя, по сути можно говорить просто о нормальном прогнозируемом исходе), настолько же это и страшно до жути. От нас исход не зависит никоем образом, ни от кого. Но всё, что нам сейчас имеет смысл делать — работать на результат в случае «варианта максимум». Подожди, теперь уже всего лишь до вечера. Однако пока ты в разговоре затрагиваешь именно ту малую вероятность, что какого-либо радикального события так и не состоится. Так вот, милая моя, открою тебе секрет: в этом случае вообще всё плохо и безысходно. Не только для тебя, но и для всех нас. Мир продолжится таким, какой он есть на сегодняшний день, а об этом ты и сама знаешь почти столько же, сколько и мы. Мы все здесь, видимо, окажемся обречёнными, каковыми и являемся сейчас, и это ещё не самое страшное, поскольку мы-то все уже не молоды. Остальные же, особенно в тех странах, где землю с ресурсами планируют освободить от коренного населения, а вообще-то, если не бОльшая, то очень значительная часть человечества, — если бы они знали, что происходит в действительности, должны были бы думать только о том, как им самим прожить эту свою жизнь, да об одном-двух, максимум трёх поколениях вперёд, и всё. Не попросишь же ты меня прочитать сейчас лекцию ещё и об этом!..
— Попрошу, но, так и быть, не сейчас.
— Давай вообще отложим её до тех времён, когда уже станет очевидным, что ничего не произошло (если вдруг так случится), и мы как раз об этом и начнём думать все вместе. Поверь, что тогда мы для тебя постараемся сделать всё, что в наших силах, мы все ради компенсации отдадим тебе даже собственные сбережения…
«Вот тогда-то, если замаячит подобная перспективка, вы меня точно грохнете. Надо будет сказать вам, что мне ничего не нужно», — мелькнуло у Алёны, а Толя продолжил:
— …но давай же думать и говорить об этом не сейчас, когда вся работа должна быть направлена на вероятность осуществления «варианта максимум». Вернее, мы-то можем задуматься об остальном и пораньше, поскольку основную работу придётся выполнять именно тебе, а нам останется в основном ждать, — но и мы отвлечёмся на прочие вероятности только тогда, когда ты уже займёшься делом, и станет ясно, что оно продвигается именно так, как нужно… Давай, Алёна, заканчивай, пожалуйста, со школьными временами.
— Уговорил, хотя, рассказать я собиралась как раз не непосредственно о школе. А Димка скоро придёт?
— Скоро.
— Подожди, я чайник включу. Горячего чаю захотелось.
— Валяй.
— Ну, так вот… И всё же — нет. Я вспомнила очень важный момент, который обязательно надо затронуть, чтобы остальное было понятным. Теперь ты подожди. Где конспекты?.. Вот. Слушай. Это из книги Кара-Мурзы и соавторов «Экспорт революции. Ющенко, Саакашвили...»:
«Произошедшие недавно на наших глазах «цветные» революции просто не могут быть истолкованы в привычной логике разрешения социальных противоречий. Политологи с удивлением пишут: «Ни одна из победивших революций не дала ответа на вопрос о коренных объективных причинах случившегося. А главное, о смысле и содержании ознаменованной этими революциями новой эпохи. После революций-то что? Ни от свергнутых и воцарившихся властей, ни со стороны уличных мятежников, которые явно заявили о себе как об активной оппозиционной политической силе, до сих пор ничего вразумительного на этот счёт не прозвучало». Эти революции и являются интересующим нас предметом.
Двадцатый век был переломным в деле манипуляции общественным сознанием. Сложилась наука, которая занималась этой проблемой, — социальная психология, один из краеугольных камней которой заложил Гюстав Лебон в своём учении о толпе.
Возникли и теоретические концепции — учение о культурной гегемонии, учение о подсознательном. Параллельно развивалась новаторская и жёсткая практика «толпообразования», превращения больших масс людей в толпу и манипуляции ею.
Возникли новые технологические средства, позволяющие охватить интенсивной пропагандой миллионы людей одновременно. Возникли и организации, способные ставить невероятные ранее по масштабам политические спектакли — и в виде массовых действ и зрелищ, и в виде кровавых провокаций. Появились странные виды искусства, сильно действующие на психику (например, перформанс, превращение куска обыденной реальности в спектакль).
Особенностью политической жизни конца ХХ века стало освоение политиками и даже учёными уголовного мышления в его крайнем выражении «беспредела» — мышления с полным нарушением и смешением всех норм. Всего за несколько последних лет мы видели в разных частях мира заговоры и интриги немыслимой конфигурации, многослойные и «отрицающие» друг друга. Мы видим резкое ослабление национального государства, одного из важнейших творений эпохи Просвещения. Едва ли не главным признаком этого ослабления является приватизация насилия — использование и морального, и физического насилия негосударственными структурами и коллективами (политическими и преступными). Зачастую уже государство втягивается как один из актёров в политические спектакли с применением насилия, поставленные теневыми режиссёрами (как в случае терроризма).
Все это вместе означало переход в новую эру — постмодерн, с совершенно новыми, непривычными этическими и эстетическими нормами. Один из философов постмодернизма сказал: “Эпоха постмодерна представляет собой время, которое остаётся людям, чтобы стать достойными гибели”. Это само по себе — постмодернистская метафора. Здесь для нас важно отметить, что постмодернизм — это радикальный отказ от норм Просвещения, от классической логики, от рационализма и понятия рациональности вообще. Это стиль, в котором “все дозволено”, “апофеоз беспочвенности”. Здесь нет понятия истины, а есть лишь суждения, конструирующие любое множество реальностей.
Этот переход накладывается на более широкий фон антимодерна — отрицания норм рационального сознания, норм Просвещения. Что это означает в политической тактике? Прежде всего, постоянные разрывы непрерывности. Действия с огромным «перебором», которых никак не ожидаешь. Человек не может воспринимать их как реальность и потому не может на них действенно реагировать — он парализован. Можно вспомнить танковый расстрел Дома Советов в 1993 г. — тогда и подумать не могли, что устроят такое в Москве.
Это — пример большого спектакля, сильно бьющего по чувствам. Вот случаи поменьше и поспокойнее. Например, Гаити, где неожиданно устроили показательное избиение генералов, отличников боевой и политической подготовки академий США, которые всю жизнь точно выполняли то, что им приказывали начальники. Вдруг и к ним пришла перестройка — морская пехота США приехала устанавливать демократию и послала ту же уголовную толпу, что раньше забивала палками либеральных демократов, теми же палками забивать родню генералов.
Но буквально с трагической нотой это проявилось в ЮАР. В начале 90-х годов мировой мозговой центр решил, что ЮАР нужно передать, хотя бы номинально, чернокожей элите, т.к. с нею будет можно договориться, а белые у власти всё равно не удержатся. Поскольку вести идеологическую подготовку времени не было, «своих» подвергли психологическому шоку, который устранил всякую возможность не только сопротивления, но даже дебатов. Вот маленький инцидент. Перед выборами белые расисты съехались на митинг в пригороде столицы. Митинг был вялый, ничего противозаконного в нем не было. Полиция приказала разъехаться, и законопослушные бюргеры подчинились. Неожиданно и без всякого повода полицейские обстреляли одну из машин. Когда из неё выползли потрясённые раненые пассажиры — респектабельные буржуа, — белый офицер подошёл и хладнокровно расстрелял их в упор, хотя они умоляли не убивать их. И почему-то тут же была масса репортёров. Снимки публиковались в газетах, и всё было показано по западному ТВ. Всему миру был представлен великолепный спектакль.
Расстрел белых расистов в ЮАР и избиение, по указке консула США, членов военной хунты на Гаити открыли новую страницу в истории политических технологий. Новые методы манипуляции сознанием обеспечивают столь надёжный контроль за поведением масс, что с помощью толпы можно провести революцию, а через короткое время с помощью той же самой толпы — контрреволюцию.
В известном смысле постмодерн стирает саму грань между революцией и реакцией.
Постмодернистский характер политических технологий, применяемых при «демократизации» государств переходного типа, проявляется в разных признаках архаизации общественных процессов. Одним из таких проявлений стал политический луддизм, который был применён в ходе «оранжевой» революции на Украине и, видимо, немало удивил наблюдателей. «В ходе событий в Тбилиси, Киеве и Бишкеке появились первые признаки того, что на политической повестке дня оказались уже не вопросы борьбы за власть, а борьбы с властью». Ранее он был присущ «слаборазвитым» странам, и трудно было ожидать, что он так органично впишется в политические технологии страны с все ещё высокообразованным населением.
Речь идёт о том, что политическая сила, которая представляет себя как оппозицию существующей власти, демонстративно препятствует работе власти вообще — борется не против конкретной политики власти, а отвергает её как институт, образно говоря, разрушает машину государства. По свидетельству наблюдателей, для выборов в Южной Азии (Шри-Ланка, Индия, Бангладеш) характерно, «что протестующие толпы людей нападают на правительственные здания и уничтожают их и государственное имущество, парализуя общественные учреждения и службы, то есть тот самый общественный капитал и инфраструктуру, которые созданы якобы для их обслуживания» .
Как ни странно, именно эта сторона «оранжевой» революции вдохновила некоторых российских политтехнологов-постмодернистов. Они увидели в этом многообещающую форму политического действия. Суть её в «организационном оформлении широкого народного движения нового типа, которое будет видеть смысл и цель своего существования не в борьбе за власть, а в борьбе с властью. Отсюда, от этого полюса, будет постоянно исходить импульс атаки на любую власть, какой бы она ни была по персонально-качественному составу или идейно-политической ориентации. В случае возникновения и организационного оформления этого полюса в России может возникнуть инструмент эффективного, не отягощённого конформизмом посредников воздействия на власть».
Западные философы, изучающие современность, говорят о возникновении общества спектакля. Мы, простые люди, стали как бы зрителями, затаив дыхание наблюдающими за сложными поворотами захватывающего спектакля. А сцена — весь мир, и невидимый режиссёр и нас втягивает в массовки, а артисты спускаются со сцены в зал. И мы уже теряем ощущение реальности, перестаём понимать, где игра актёров, а где реальная жизнь. Здесь возникает диалектическое взаимодействие с процессом превращения людей в толпу. Лебон сказал о толпе, что «нереальное действует на неё почти так же, как и реальное, и она имеет явную склонность не отличать их друг от друга».
Речь идёт о важном сдвиге в культуре, о сознательном стирании грани между жизнью и спектаклем, о придании самой жизни черт карнавала, условности и зыбкости. Это происходило, как показал М. Бахтин, при ломке традиционного общества в средневековой Европе. Сегодня эти культурологические открытия делают политической технологией.
Использование технологий политического спектакля стало общим приёмом перехвата власти. В каждом случае проводится предварительное исследование культуры того общества, в котором организуется свержение власти. На основании этого подбираются «художественные средства», пишется сценарий и готовится режиссура спектакля. Если перехват власти проводится в момент выборов, эффективным приёмом является создание обстановки максимально «грязных» выборов — с тем, чтобы возникло общее ощущение их фальсификации. При этом возникает обширная зона неопределённости, что даёт повод для большого спектакля «на площади». Последнее время дало нам два классических примера — «революцию роз» и «оранжевую революцию».
Разработка и применение этих технологий стали предметом профессиональной деятельности больших междисциплинарных групп специалистов, которые выполняют заказы государственных служб и политических партий. Эти разработки ведутся на высоком творческом уровне, сопровождаются оригинальными находками и в настоящее время стали важным проявлением высокого научно-технического потенциала Запада. В самые последние годы для постановки кровавых спектаклей привлекаются (неважно, прямо или косвенно) организации террористов.
<…>
Какой момент является ключевым для революции? Тот, когда правила, навязанные и отстаиваемые властью (легальная процедура, её силовое обеспечение, система норм и ограничений), подменяются логикой игры. Тогда реальность карнавала торжествует над обыденностью, и происходит переворот — короли меняются местами: «майский» оказывается реальным правителем, а «настоящий» самодержец — шутом с базарной площади. Приняв навязанные ему правила игры, он в логике симметричных действий пытается делать то же самое, что делал только что его оппонент (сторонники Януковича тоже надевали ленточки, ставили палатки и мобилизовали актив) — и этот последний акт фиксирует его окончательное поражение. Занавес». <…>
Структурный анализ использования воображения в целях превращения людей в толпу (вообще господства) дал французский философ Ги Дебор в известной книге «Общество спектакля» (1967) 42 . Он показал, что современные технологии манипуляции сознанием способны разрушить в человеке знание, полученное от реального исторического опыта, заменить его знанием, искусственно сконструированным «режиссёрами». В человеке складывается убеждение, что главное в жизни — видимость, да и сама его общественная жизнь — видимость, спектакль. И оторваться от него нельзя, так как перед глазами человека проходят образы, гораздо более яркие, чем он видит в своей обычной реальной жизни в обычное историческое время. «Конкретная жизнь деградирует до спекулятивного пространства» (как видно из самого слова, спектакль и есть нечто спекулятивное).
Человек, погруженный в спектакль, утрачивает способность к критическому анализу и выходит из режима диалога, он оказывается в социальной изоляции. Такое состояние поддерживается искусственно, возник даже особый жанр и особая способность — непрерывное говорение. Человек, слушая его, просто не имеет возможности даже мысленно вступать с получаемыми сообщениями в диалог. На радио и телевидении, на митингах и массовых собраниях появились настоящие виртуозы этого жанра. <…>
М. Эдельман в книге «Конструирование политического спектакля» пишет об этом превращении политиков в символические маски актёров: «Политические лидеры стали символами компетентности, зла, национализма, обещания будущего и других добродетелей и пороков и таким образом помогают придавать смысл беспорядочному миру политики. Наделяя образы лидеров смыслом, зрители определяют собственные политические позиции. В то же время, вера в лидерство является катализатором конформизма и повиновения. Термин, который возбуждает воображение большого числа людей и в то же время помогает организовать и дисциплинировать их, является эффективным политическим инструментом, хотя и неопределённым в последствиях его применения».
Ги Дебор отмечает и другое важное качество «общества спектакля» — «Обман без ответа; результатом его повторения становится исчезновение общественного мнения. Сначала оно оказывается неспособным заставить себя услышать, а затем, очень скоро, оказывается неспособным сформироваться». Из кого же состоит общество, не способное выработать своего мнения? Сегодня это общество из людей «мозаичной» культуры, людей постмодерна. Когда истины нет в принципе, а есть только интерпретации разных кусочков мозаики — как же можно выработать общее мнение? <…>
Государства «переходного типа», такие как недавно освободившиеся от колониальной зависимости или перенёсшие катастрофический слом прежней государственности (постсоветские), имеют систему институтов и норм в крайне неравновесном состоянии. По структуре эта система напоминает постмодернистский текст, в котором смешаны архаика и современность с их несовместимыми стилями. В качестве примера один автор приводит для РФ «феноменальную госсимволику (в частности, систему государственных наград, в которой орден Красной Звезды существует вместе с орденом Андрея Первозванного), отсутствие общих воззрений на собственное прошлое. Яркий пример — недавнее открытие в Иркутске памятника Колчаку под звуки советского гимна. Вместо государства в России возник комплекс случайных политических институтов, лишённых фундамента и собранных всухую, без раствора».
В таких государствах ряд черт, присущих демократической системе, проявляется не в форме выработанных на Западе условных театрализованных ритуалов, а в жёсткой, иногда абсурдной форме. К числу таких черт относится предусмотренное сценарием демократических выборов открытое выражение взаимной враждебности кандидатов и партий. В государствах «переходного типа» сцены этой враждебности играются с применением реального или очень жёсткого условного (как это было на Украине) насилия.
«Бархатных» революций, уничтожающих стабильное жизнеустройство с большим потенциалом развития, не могло бы произойти, если бы образованный слой стран «реального социализма» не воспринял бы мыслительных норм постмодерна. Вот культурологические описания и общества, и человека восточноевропейских стран времени «бархатных» революций: «В молодой восточноевропейской интеллигенции реализовалась специфика „неэкономического“ типа цивилизационного развития. Восточноевропейское общество первым дало миру образец „человека постмодерна“, опередив Запад, который двигался к той же цели иным путём… Оппозицию коммунистическому режиму в Польше, как впоследствии и в других странах региона, составляли не конкретные социальные силы и не интересы отдельных групп общества, а эмоционально окрашенные идеалы и ценности. <…>
В Польше «Солидарность», втянув большую часть общества в большой и длительный спектакль, превратила массы людей в зрителей, которые оторвались от почвы социальной реальности и были очарованы зрелищем войны призраков. Вот к каким выводам, согласно Н.Коровицыной, приходят теперь социологи, изучавшие ту революцию: «Мало кто, наверное, в то время серьёзно задумывался о реальных экономических последствиях происходившего. Вся общественная жизнь была пронизана мифологизмом, а массовые протесты имели характер преимущественно символический. Причем изначально существовало явное противоречие между декларативным принятием идеи общественной трансформации и отсутствием реальной, деятельной поддержки её реализации. Преобладало мнение, что рано или поздно ситуация исправится автоматически как „естественное вознаграждение за принесённые народом жертвы“. Сам протест выражался языком „морального сюрреализма“. Для общественных конфликтов в Восточной Европе в целом характерна театральная, ритуальная атмосфера. Особенно это относится к Польше, где наиболее сильны традиции политического символизма». <…>
Особое внимание философов привлекла совершенно невероятным сценарием Тимишоара — спектакль, поставленный для свержения и убийства Чаушеску в ходе «полубархатной» революции в Румынии в 1989 г. Изучающий «общество спектакля» итальянский культуролог Дж. Агамбен так пишет о глобализации спектакля, т.е. объединении политических элит Запада и бывшего соцлагеря в серии «бархатных» революций того времени: «Тимишоара представляет кульминацию этого процесса, до такой степени, что её имя следовало бы присвоить всему новому курсу мировой политики. Потому что там секретная полиция, организовавшая заговор против себя самой, чтобы свергнуть старый режим, и телевидение, показавшее без ложного стыда и фиговых листков реальную политическую функцию СМИ, смогли осуществить то, что нацизм даже не осмеливался вообразить: совместить в одной акции чудовищный Аушвиц и поджог рейхстага.
Впервые в истории человечества похороненные недавно трупы были спешно выкопаны, а другие собраны по моргам, а затем изуродованы, чтобы имитировать перед телекамерами геноцид, который должен был бы легитимировать новый режим. То, что весь мир видел в прямом эфире на телеэкранах как истинную правду, было абсолютной неправдой. И, несмотря на то, что временами фальсификация была очевидной, это было узаконено мировой системой СМИ как истина — чтобы всем стало ясно, что истинное отныне есть не более чем один из моментов в необходимом движении ложного. Таким образом, правда и ложь становятся неразличимыми, и спектакль легитимируется исключительно через спектакль. В этом смысле Тимишоара есть Аушвиц эпохи спектакля, и так же, как после Аушвица стало невозможно писать и думать, как раньше, после Тимишоары стало невозможно смотреть на телеэкран так же, как раньше».
В телерепортажах из Тимишоары было видно, что перед камерами выкапывают не тела «расстрелянных секуритате» людей, а трупы, привезённые из моргов — со швами, наложенными после вскрытия. Люди видели эти швы, но верили комментариям дикторов. Этот опыт показал, что при бьющей на эмоции картинке ложь можно не скрывать, люди все равно поверят манипулятору. В самые последние годы для постановки кровавых спектаклей привлекаются (неважно, прямо или косвенно) организации террористов. Сам современный терроризм остаётся плохо изученным, и контролировать его наличными средствами государственные службы пока не могут.
Тимишоара — крайний случай, в последних версиях «бархатных» революций — «оранжевых» — режиссёры ставят спектакли радостные, толпу соединяют чувством восторга. В одной редакционной статье о событиях на Майдане в Киеве сказано: «Апельсиновые гуманитарные технологи показали, как можно эффективно использовать революционную романтику, столь милую сердцам интеллектуалов и молодёжи». <…>
Московский культуролог В. Осипов очарован режиссурой «оранжевой революции» на Украине: «Оранжевая революция» осуществлялась мотивированным и хорошо тренированным активом, в подготовку которого были инвестированы немалые средства. Кроме того, она имела постоянное музыкальное сопровождение. Практически все популярные украинские рок-команды непрерывно выступали на Майдане, задавая всему происходящему возбуждающую, восторженную атмосферу, поддерживая дух праздника… Меня поразило, что организаторам удалось несколько недель сохранять в людях состояние энтузиазма и восторга. С активом палаточного городка всё было проще — они жили на Майдане постоянно, получали деньги; но держать в заведённом состоянии толпы киевлян и приезжих, ежедневно приходивших на площадь — сложная и важная гуманитарно-технологическая задача. «Оранжевые» решили её на «хорошо». Им удалось мобилизовать массовое народное движение. В том числе — у тысяч людей, ставших инструментом производства этой иллюзии».
Вот — свойство хорошо поставленного спектакля эпохи постмодерна — сами зрители становятся «инструментом производства иллюзии». Достаточно сравнительно небольших начальных инвестиций, чтобы запустить двигатель спектакля, а затем он работает на энергии эмоций, самовоспроизводящихся в собранную на площади толпу. Объект манипуляции сам становится топливом, горючим материалом — идёт цепная реакция в искусно созданном человеческом «реакторе». <…>
Важным результатом этих революций-спектаклей становится не только изменение власти (а затем также и других важных в цивилизационном отношении институтов общества), но и порождение, пусть на короткий срок, нового народа. Возникает масса людей, в сознании которых как будто стёрты исторически сложившиеся ценности культуры их общества, и в них закладывается, как дискета в компьютер, пластинка с иными ценностями, записанными где-то вне данной культуры.
Р. Шайхутдинов пишет о том, что происходило на Майдане, и на что с остолбенением смотрела и старая власть, и здравомыслящая (не подпавшая под очарование спектакля) масса украинцев: «Этот новый народ (народ новой власти) ориентирован на иной тип ценностей и стиль жизни. Он наделён образом будущего, который действующей власти отнюдь не присущ. Но действующая власть не видит, что она имеет дело уже с другим — не признающим её — народом!»
Создание «нового народа» (или даже новой нации) в ходе подобных революций — один из ключевых постулатов их доктрины. Так при разрушении государственности всего СССР в массовое сознание было запущено понятие-символ «новые русские». Вот как объясняли появление этого «нового народа» идеологи, которые готовили большую «бархатную» революцию 1991 г. в Москве. <…>
В ряде случаев сдвиг к рациональности постмодерна провоцирует нежелательную этнизацию и архаизацию обществ, как это происходит, например, в развивающихся странах, переживающих новый всплеск трайбализма, усиления родоплеменного сознания и организации. Не менее сложные проблемы обещает неожиданный возврат, казалось бы, навсегда ушедшего в прошлое этнического сознания в странах Запада. Но чаще всего агрессивное этническое сознание разжигается в государствах переходного типа в политических или преступных целях. <…>
Не будем здесь углубляться в этот вопрос, но отметим лишь, что антисоветские революции в СССР и в Европе, сходная по типу операция против Югославии в огромной степени и с большой эффективностью опирались на искусственное разжигание агрессивной этничности. Технологии, испытанные в этой большой программе, в настоящее время столь же эффективно применяются против постсоветских государств и всяких попыток постсоветской интеграции. Видимо, в недалёком будущем с крупномасштабным применением этого оружия придётся столкнуться и Российской Федерации.
Отсюда видно, что эффективно проведённая «оранжевая революция» означает фундаментальное событие в судьбе общества — разрыв непрерывности. Часть населения, подчинившись гипнозу спектакля, выпадает из традиций и привычных норм рациональности предыдущего общества — «перепрыгивает в постмодерн». Но при этом она разрывает и свою связь с реальностью страны, её новые ценности и «стиль жизни» не опираются на прочную материальную и социальную базу. Будет ли эта реальность меняться так, чтобы прийти в соответствие с новыми ценностями — или всей этой «оранжевой» молодёжи придётся пройти через период тяжёлой фрустрации и вернуться на грешную землю в потрёпанном виде? Проблема в том, что сама «рациональность постмодерна» исключает сами эти вопросы и возможность предвидения — один спектакль сменяется другим, и человек не замечает, как становится зрителем-«бомжем», без традиций и без почвы. <…>
Важнейшим средством (и признаком) манипуляции сознанием в политике является замалчивание проекта. Проект заменяется политическим мифом. Поэтому общее правило манипуляции при обращении к толпе — уклончивость в изложении позиции, использование туманных слов и метафор. Ясное обнаружение намерений и интересов, которые отстаивает «отправитель сообщения», сразу включает психологическую защиту тех, кто не разделяет этой позиции, а главное, побуждает к мысленному диалогу, а он резко затрудняет манипуляцию.
Иными словами, политик, собирающий под свои знамёна граждан, тщательно избегает говорить о цели своего «проекта», о том, что ждёт граждан и страну в том случае, если он с помощью их голосов (или действий) придёт к власти. Вся его явная пропаганда сводится к обличению противника, причём к обличению главным образом его «общечеловеческих» дефектов: попирает свободу, поощряет несправедливость, врёт народу, служит вражеским силам и т.д. Из всех этих обличений вытекает, что при новом режиме всех этих гадостей не будет, а воцарится свобода, справедливость, нравственность, трезвость и т.д.
Все «бархатные» революции, включая ядро этой системы переворотов, — перестройку Горбачёва — отличаются тем, что временное сплочение общества для разрушения прежней государственности достигалось исключительно путём мифологизации прошлого. Не допускалось никакого диалога относительно будущего жизнеустройства, единственной и главной целью было разрушение прошлого, ибо так жить нельзя! Пресекались всякие попытки даже задать вопрос о проекте. Горбачёву даже пришлось прямо высказаться по этому поводу: «Нередко приходится сталкиваться с вопросом: а чего же мы хотим достигнуть в результате перестройки, к чему прийти? На этот вопрос вряд ли можно дать детальный, педантичный ответ».
Это обман, никто и не просил педантичного ответа, спрашивали об общей цели. Когда писатель Ю. Бондарев задал предельно общий вопрос («Вы подняли самолёт в воздух, куда садиться будете?»), его представили чуть ли не фашистом. Риторика этих революций была несовместима с нормами рациональности и просто со здравым смыслом, в заявлениях политиков не было ни логики, ни разумной меры. <…>».
— Да, Алёна, это так исчерпывающе и понятно, что даже уже и не спросишь, причём тут опять цветные революции. Как ты только умудряешься всё это отыскивать?
— На нюх. Больше уже давно ничего не осталось. Тут вот есть ещё одна интересная сентенция:
«Очень может быть, что ощущение всесилия новых политических технологий есть лишь психологический эффект от успеха ряда однотипных «блиц-революций» — ведь столь же непобедимой казалась армия фашистской Германии в её блиц-войне в Европе и летом 1941 г. в СССР».
Только это может оказаться лишь самоуспокоением. Ведь силы, необходимые для возможного сопротивления, как раз и уничтожаются заранее — последовательно и методично…
— Увы.
— Но вот ещё.
«В гл. 1 уже говорилось о том, что опыт ХХ века заставил отказаться от свойственного историческому материализму представления о том, что революция, которая опирается на реальное социальное противоречие, неизбежно носит прогрессивный характер, то есть, направлена на такое разрешение этого противоречия, которое открывает путь для прогрессивного развития общества. «Оранжевые» революции организуются так, чтобы использовать накопившееся недовольство масс и едва народившуюся революционную энергию для достижения политических целей, никак не связанных с разрешением социальных противоречий в интересах этих самых масс.
Давно сказано: «революция — праздник угнетённых». В гл. 1 было предложено рассматривать как революции не только радикальные способы разрешения фундаментальных социальных («классовых») противоречий, но и вообще все виды свержения власти, ведущие к глубоким изменениям общественного строя и судьбы страны. О характере революции многое можно сказать исходя из того, какие угнетённые воспринимают её как праздник. Они и являются движущей силой революции.
«Оранжевая» революция на Украине (как раньше в Сербии и Грузии) явно была праздником молодёжи. Молодёжь была и основным источником кадров революционного актива, и основным контингентом активных уличных действий. Она заполняла площади Киева, стояла в пикетах и населяла палаточные городки. Именно она своим настроением придавала «оранжевой» революции облик праздничного карнавала.
А. Чадаев пишет о «революционном классе или, говоря более современным языком, социальной страте», сыгравшей роль массовой силы событий на Украине: «Самое важное здесь — свойства этой страты, „собирательный образ“ её представителя. В первую очередь — более высокий уровень солидарности, чем в среднем по обществу… В „оранжевой революции“ эту роль сыграли студенчество, городские клерки (местный „средний класс“) и селяне Западной Украины».
Этот потенциал молодёжи хорошо понимали и использовали западные политтехнологи и следующие их советам сотрудники Ющенко, но плохо понимали сотрудники Януковича и их московские советники. В то время как толпы молодёжи «праздновали» на площадях Киева, собрания в Донецке принимали резолюции, требующие привлечь Ющенко и Тимошенко к уголовной ответственности «за подготовку и использование в уличных беспорядках агрессивных националистических молодёжных формирований типа „Пора“; за наём и использование в уличных беспорядках несформировавшихся в качестве личностей школьников и студентов».
Спектакль «оранжевой» революции изначально ставился режиссёрами как молодёжный карнавал. Одна газета писала: «Мюзикл революции со всеми обязательными для него ингредиентами — героями-протагонистами, злодеями-антагонистами, с концертными номерами, с сольными партиями, с впечатляющей массовкой, с лирикой и романтикой единения — это действительно самое эффективное средство новейшей выборной политтехнологии». Нельзя только согласиться с последней фразой — речь идёт вовсе не о выборной политтехнологии, а о большой целостной операции, в которой выборы играют очень частную и скорее маскирующую роль.
Газета «Известия» выделяет важные признаки «оранжевой» молодёжной толпы: «Для молодёжи деньги не главное, хотя многие студенты не стеснялись подрабатывать на Майдане. Для неё главное романтика. Поэтому для молодых нужен красивый лозунг. Такой как — борьба с коррупцией, все равны, национальное возрождение… и другие. Лозунги должны быть короткие и понятные. Если есть деньги и хороший лозунг, то можно рассчитывать на успех. Важной особенностью нынешней оранжевой революции на Украине является широкое использование карнавальных технологий. Все, буквально все элементы и моменты карнавала нашли своё место в киевских событиях. Вплоть до имитации сражения Света с Тьмой, во всех возможных для украинской сцены вариантах. На площади Независимости в Киеве широко применялась технология аниматоров или массовиков-затейников. Аниматоры — это такие люди, которые должны поддерживать на территории дома отдыха или курорта чувство праздника. Заводить публику на дискотеке, общаться с отдыхающими во время ужина, доставлять все радости жизни, кроме интима.
Вот стоит молодой парень, увешенный «морковками», который подхватывает льющийся из динамиков гимн предвыборной кампании Ющенко: «Разом нас багато! Нас не подолаты!» Типичный аниматор. Вон, через сто метров ещё один такой же. У аниматора всегда деловой взгляд. А если он чему-то радуется, то в этой радости — оттенок иронии над собой. Они грамотно расставлены по площади и работают по всем законам профессии: например, каждый день именно эти ребята привносят в оранжевую моду какой-то новый элемент. Сначала это были просто оранжевые ленточки на рукаве, потом апельсины в руках. Каждый день должно быть ощущение обновления обстановки — это главный принцип аниматорского искусства».
Московский наблюдатель С. Вальцев отмечает высокую способность молодёжи к консолидации на аполитичной («культурной») основе: «Политтехнологами из штаба Ющенко умело используется потребность молодёжи принадлежать к определённой группе. Место на площади Независимости в Киеве превратилось в молодёжную тусовку, а оранжевая повязка — пропуск на неё. Молодёжь особо не волнуют Ющенко и его программа, им интересно „тусоваться“ и слушать „халявную“ музыку. Показателен в этом отношении тот факт, что более 90% из тех, кто страстно доказывает правоту Ющенко, не могут даже назвать его отчество, не говоря уже ни о чём другом. Управляемый протест, разбавленный дискотекой и подогретый выпивкой, очень хорошо направляется в определённое русло и служит для выполнения задач, о которых молодёжь даже не догадывается».
Революция, ударной силой которой является молодёжная толпа, неминуемо несёт в себе сильный привкус «революции гунна». С. Вальцев пишет: «Молодёжи дали почувствовать собственную значимость: можно жечь костры на Крещатике, не боясь милиционеров, спокойно пить водку в центре Киева. Характерный эпизод — парень лет 17-ти, абсолютно пьяный, в оранжевой шапке с наушниками управлял движением на Крещатике. Вся комичность эпизода заключается в том, что „управлял“ движением он на обычном повороте около киевского ЦУМа, и в чем суть его размахивания руками — непонятно, так как двигаться автомобили могут только в одном направлении. Это продолжалось до тех пор, пока его чуть не задавил джип. А сколько это могло бы продолжаться, будь в Киеве другая ситуация? Его просто отвезли бы в отделение милиции…
Естественно, Ющенко бессовестно эксплуатировал эти настроения и всем обещал, что никто из тех, кто жил в палаточном городке, забыт не будет».
Что мог бы противопоставить этому избирательный штаб Януковича? Очевидно, что конкурировать с Ющенко и стоящими за его спиной западными политтехнологами в постановке постмодернистского спектакля-карнавала он не мог. Дело даже не в деньгах, организации и технике, а в совершенно разных культурных основаниях самих программ этих двух кандидатов. Значит, Янукович должен был действовать совсем в иной плоскости, нежели Ющенко. Янукович мог победить в «битве за молодёжь» только в том случае, если бы ему удалось втянуть её в диалог, затрагивающий фундаментальные проблемы жизни Украины и её молодёжи, но в диалог, ведущийся на понятном молодёжи языке. Для этого он должен был бы располагать «своим» молодёжным активом, способным говорить о фундаментальных проблемах на новом языке. Решить такую задачу штаб Януковича, видимо, был не готов», — закончила Алёна чтение и взволнованно заговорила:
— Я-то речь веду, конечно, не об «оранжевых» революциях как таковых, а главным образом об «обществе спектакля», целью которого вне всяких сомнений, является построение глобального рабовладельческого общества нового типа. И вот, наверное, самое важное, прежде чем перейти к дальнейшему рассказу о себе самой:
«Сейчас кажется даже странным, что в «правящем слое» — от Горбачёва до Путина — вообще не встал вопрос: над кем он властвует? Странно это потому, что те, кто шёл к реальной власти уже в конце 80-х годов, а теперь готовится к второму раунду битвы за свою власть уже в форме «оранжевых» революций, эту проблему довольно ясно представляли себе уже при Горбачёве. Сейчас это видно по многим вскользь сделанным замечаниям в текстах тех лет. Тогда антисоветская элита видела в этих замечаниях лишь поддержку в своем проекте разрушения советского государства, а «просоветская» часть общества этими замечаниями возмущалась как абсурдными и аморальными. На деле речь шла о создании идеологической базы уже для «оранжевых» революций.
Суть проблемы сводилась к тому, что же такое демос, который теперь и должен получить всю власть. Ведь демократия — это власть демоса! Да, по-русски «демос» означает народ. А правильно ли нам перевели это слово, не скрыли от нас какую-то важную деталь? Да, скрыли, и даже ввели в заблуждение. Само слово народ имеет совершенно разный смысл в традиционном и в гражданском западном обществах.
В царской и советской России существовало устойчивое понятие народа. Оно вытекало из священных понятий Родина-мать и Отечество. Народ — надличностная и «вечная» общность всех тех, что считал себя детьми Родины-матери и Отца-государства (власть персонифицировалась в лице «царя-батюшки» или другого «отца народа», в том числе коллективного «царя» — Советов). Как в христианстве «все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (и к тому же «Мы — дети Божии… а если дети, то и наследники»), так и на земле все, «водимые духом Отечества», суть его дети и наследники. Все они и есть народ — суверен и источник власти.
Таков был русский миф о народе, многое взявший из Православия и из космологии крестьянской общины. Мы никогда не соотносили его с иными представлениями. А ведь уже даже на ближнем от нас феодальном Западе их государственность строилась на совсем других толкованиях. <…>
<Прежнее> понимание народа было кардинально отвергнуто в ходе великих буржуазных революций, из которых и вышло гражданское общество. Было сказано, что приверженцы Старого порядка — всего лишь подданные государства («монарха»). Народом, демосом, становятся лишь те, кто стали гражданами и совершили революцию, обезглавив монарха. Именно этот, новый народ и получает власть, а также становится наследником собственности. И этот народ должен вести непрерывную войну против всех тех, кто не вошёл в его состав («быдла»).
В фундаментальной многотомной «Истории идеологии», по которой учатся в западных университетах, читаем: «Демократическое государство — исчерпывающая формула для народа собственников, постоянно охваченного страхом перед экспроприацией… Гражданская война является условием существования либеральной демократии. Через войну утверждается власть государства так же, как „народ“ утверждается через революцию, а политическое право — собственностью… Таким образом, эта демократия есть ничто иное как холодная гражданская война, ведущаяся государством».
В понятиях политической философии Запада индивиды соединяются в народ через гражданское общество. Те, кто вне его — не народ. C точки зрения западных исследователей России, в ней даже в середине XIX века не существовало народа, так как не было гражданского общества. Путешественник маркиз де Кюстин писал в своей известной книге о России (1839 г.): «Повторяю вам постоянно — здесь следовало бы все разрушить для того, чтобы создать народ». Это требование почти буквально и стало выполняться полтора века спустя российскими демократами. Они, впрочем, преуспели пока что только в разрушении, а выращиваемый в пробирке реформ новый народ не прибавляет в весе. <…>
В СССР этот процесс происходил исподволь. Мысль, что население СССР (а затем РФ) вовсе не является народом, а народом является лишь скрытое до поры до времени в этом населении особое меньшинство, развивалась нашими демократами уже начиная с середины 80-х годов. Тогда эти рассуждения поражали своей недемократичностью, но подавляющее большинство просто не понимало их смысла. Не поняло оно и смысла созданного и распространённого в конце 80-х годов понятия «новые русские». Оно было воспринято как обозначение обогатившегося меньшинства, хотя уже первоначально разрабатывалось как обозначение тех, кто отверг именно «дух Отечества» (как было сказано при первом введении самого термина «новые русские», отверг «русский Космос, который пострашнее Хаоса»). <…>
В 1991 г. самосознание «новых русских» как народа, рождённого революцией, вполне созрело. Их лозунги, которые большинству казались абсурдно антидемократическими, на деле были именно демократическими — но в понимании западного гражданского общества. Потому что только причастные к этому меньшинству были демосом, народом, а остальные остались быдлом, «совками». Г. Павловский с некоторой иронией писал в июле 1991 г.: «То, что называют „народом России“ — то же самое, что прежде носило гордое имя „актива“ — публика, на которую возлагают расчёт. Политические „свои“…».
Это самосознание нового «народа России» пришло так быстро, что удивило многих из их собственного стана — им было странно, что это меньшинство, боровшееся против лозунга «Вся власть — Советам!» исходя из идеалов демократии, теперь «беззастенчиво начертало на своих знамёнах: „Вся власть — нам!“. Ничего удивительного, вся власть — им, потому что только они и есть народ. Отношение к тем, кто их власть признавать не желал, было крайне агрессивным. <…>
Замечательно, что эйфория нового народа от его грядущей победы вовсе не обманула его проницательных идеологов. Они видели, что власть этого демоса эфемерна, слишком уж он невелик. Поэтому публикации тех лет были наполнены жалобами на то, что нет у нас социальной базы для демократии — вокруг один охлос , люмпены. Весной 1991 г. в типичной антисоветской статье «Рынок и государственная идея» даётся типичная формула: «Демократия требует наличия демоса — просвещённого, зажиточного, достаточно широкого „среднего слоя“, способного при волеизъявлении руководствоваться не инстинктами, а взвешенными интересами. Если же такого слоя нет, а есть масса, где впритирку колышутся люди на грани нищеты и люди с большими… накоплениями, масса, одурманенная смесью советских идеологем с инстинктивными страхами и вспышками агрессивности, — говорить надо не о демосе, а о толпе, охлосе… Надо сдерживать охлос, не позволять ему раздавить тонкий слой демоса, и вместе с тем из охлоса посредством разумной экономической и культурной политики воспитывать демос».
Уже в самом начале реформы была поставлена задача изменить тип государства — так, чтобы оно изжило свой патерналистский характер и перестало считать все население народом (и потому собственником и наследником достояния страны). Теперь утверждалось, что настоящей властью может быть только такая, которая защищает настоящий народ, то есть «республику собственников».
Д. Драгунский объясняет: «Мы веками проникались уникальной философией единой отеческой власти. Эта философия тем более жизнеспособна, что она является не только официальной государственной доктриной, но и внутренним состоянием большинства. Эта философия отвечает наиболее простым, ясным, безо всякой интеллектуальной натуги воспринимаемым представлениям — семейным. Наше государственно-правовое сознание пронизано семейными метафорами — от «царя-батюшки» до «братской семьи советских народов»… Только появление суверенного, власть имущего класса свободных собственников устранит противоречие между «законной» и «настоящей» властью. Законная власть будет наконец реализована, а реальная — узаконена. Впоследствии на этой основе выработается новая философия власти, которая изживёт традицию отеческого управления».
Говоря об этом разделении идеологи перестройки в разных выражениях давали характеристику того большинства (охлоса), которое не включалось в народ и должно было быть отодвинуто от власти и собственности. Это те, кто жил и хотел жить в «русском Космосе». Г. Померанц пишет: «Добрая половина россиян — вчера из деревни, привыкла жить по-соседски, как люди живут… Найти новые формы полноценной человеческой жизни они не умеют. Их тянет назад… Слаборазвитость личности — часть общей слаборазвитости страны. Несложившаяся личность не держится на собственных ногах, ей непременно нужно чувство локтя… Только приоритет личности делает главным не место, где проведена граница, а лёгкость пересечения границы — свободу передвижения».
Здесь — отказ уже не только от культурного Космоса, но и от места, от Родины-матери, тяготение этого нового народа к тому, чтобы включиться в глобальную расу «новых кочевников». Здесь же и прообраз будущей «оранжевой» антироссийской риторики — Померанц уже в 1991 г. утверждает, что под давлением «слаборазвитости» охлоса «Москва сеет в Евразии зубы дракона».
В требованиях срочно изменить тип государственности идеологи народа собственников особое внимание обращали на армию — задача создать наёмную армию карательного типа была поставлена сразу же. Д. Драгунский пишет: «Поначалу в реформированном мире, в оазисе рыночной экономики будет жить явное меньшинство наших сограждан [„может быть, только одна десятая населения“]… Надо отметить, что у жителей этого светлого круга будет намного больше даже конкретных юридических прав, чем у жителей кромешной (то есть внешней, окольной) тьмы: плацдарм победивших реформ окажется не только экономическим или социальным — он будет ещё и правовым… Но для того, чтобы реформы были осуществлены хотя бы в этом, весьма жестоком виде, особую роль призвана сыграть армия… Армия в эпоху реформ должна сменить свои ценностные ориентации. До сих пор в ней силен дух РККА, рабоче-крестьянской армии, защитницы сирых и обездоленных от эксплуататоров, толстосумов и прочих международных и внутренних буржуинов… Армия в эпоху реформы должна обеспечивать порядок. Что означает реально охранять границы первых оазисов рыночной экономики. Грубо говоря, защищать предпринимателей от бунтующих люмпенов. Еще грубее — защищать богатых от бедных, а не наоборот, как у нас принято уже семьдесят четыре года. Грубо? Жестоко? А что поделаешь…» 228 .
Здесь изложена доктрина реформ 90-х годов в интересующем нас аспекте. На первом этапе реформ будут созданы лишь «оазисы» рыночной экономики, в которых и будет жить демос (10% населения). В демократическом (в понятиях данной доктрины) государстве именно этому демосу и будет принадлежать власть и богатство. Защищать это просвещенное зажиточное меньшинство от бедных (от бунтующих люмпенов ) станет реформированная армия с новыми ценностными ориентациями. Колышущаяся на грани нищеты масса (90% населения) — охлос , лишённый и собственности, и участия во власти. Его надо «сдерживать» и, по мере возможности, рекрутировать из него и воспитывать пополнение демоса (по своей фразеологии это — типичная программа ассимиляции национального меньшинства).
Каков же результат осуществления этой программы за пятнадцать лет? Все это время в стране шла холодная гражданская война нового народа (демоса) со старым (советским) народом. Новый народ был все это время или непосредственно у рычагов власти, или около них. Против большинства населения (старого народа) применялись прежде всего средства информационно-психологической и экономической войны, а также и прямые репрессии с помощью реформированных силовых структур.
Экономическая война против советского народа внешне выразилась в лишении его общественной собственности («приватизация» земли и промышленности), а также личных сбережений в результате гиперинфляции. Это привело к глубокому кризису народного хозяйства и утрате социального статуса огромными массами рабочих, технического персонала и квалифицированных работников сельского хозяйства. Резкое обеднение большинства населения привело к кардинальному изменению всего образа жизни (типа потребления, профиля потребностей, доступа к образованию и здравоохранению, характеру жизненных планов).
Изменение образа жизни при соответствующем идеологическом воздействии означает глубокое изменение в материальной культуре народа и ра зрушает мировоззренческое ядро цивилизации. Изменения в жизнеустройстве такого масштаба уже не подпадают под категорию реформ , речь идёт именно о революции, когда по выражению Шекспира, «развал в стране и всё в разъединенье». По словам П. А. Сорокина, реформа «не может попирать человеческую природу и противоречить её базовым инстинктам». Человеческая природа каждого народа — это укоренённые в подсознании фундаментальные ценности, которые уже не требуется осознавать, поскольку они стали «естественными». Изменения в жизнеустройстве советского народа в РФ именно попирали эту «природу» и противоречили «базовым инстинктам» подавляющего большинства населения.
Крайне жёсткое, во многих отношениях преступное, воздействие на массовое сознание (информационно-психологическая война) имело целью непосредственное разрушение культурного ядра советского народа. В частности, был произведён демонтаж исторической памяти, причём на очень большую глубину. Историческая память — одна из важнейших духовных сфер личности, скрепляющая людей в народ. <…>»
— Алёна, это всё очень интересно. Действительно. Но пожалуйста, переходи в своём рассказе ближе к твоей собственной истории.
— Да-да. Хотя, всё это и есть моя история и история моей семьи. Без этого ничего не понять. Но вот ещё. В недавнее время, в связи с решением Сердюкова о возобновлении создания психофизического оружия, в прессе появился ряд статей. Одна из них — в газете «Мир Новостей», № 19 (958) 28 апреля 2012 г., «Кто на мушке психотронной пушки?» Екатерины Люльчак. Вот пара выдержек. «Нейробиолог Василий Ключарев подробно описал возможности психофизического оружия. Представьте себе, на вас наводят спецаппаратуру и используют как дистанционно управляемого биоробота. Оператор пульта управления может видеть на своём экране и слышать в наушниках то, что видите и слышите в этот момент вы. Нейролингвистические модули позволяют оператору подключаться к речевому центру вашего мозга, отдавая приказы и программируя нужные действия. Похожими возможностями обладает и модуль сканирования памяти: направленное оборудование вызывает у жертвы нужные воспоминания и считывает всю информацию: психотронные модули используются для провоцирования сильных ощущений — фобий, панических атак, галлюцинаций, припадков, которые легко доводят человека до самоубийства. В результате он превращается в зомби, который внешне ведёт себя как обычный человек и не подозревает. что запрограммирован. В нужный момент он среагирует на ключевую команду тайного руководства и будет действовать в его интересах. <…> Поймать за руку охотников, вооружённых психофизическим или генетическим оружием, крайне сложно. Если человек покончил с собой, умер от обычной простуды или сошёл с ума, то легче всего спихнуть это на плохое здоровье или неустойчивую психику. Однако косвенные доказательства того, что новые виды оружия массового поражения всё-таки применяются, есть…» Вот, это то, что знакомо мне всю жизнь, то, что у меня её украло и чего я в первую очередь не прощу никогда, ни живая не мёртвая, и не сниму проклятий с тех, кто это применял, с них и с их потомства. Но главное, что я хочу сказать в связи со всем этим и со мной самой — то, что суть «общества спектакля» — отнюдь не только в «грандиозных массовых постановках».
Да-да. "Общество спектакля" реализуется не только на каких-то грандиозных или глобальных сценариях и постановках, но и через «молекулярную агрессию» в культурное и социальное ядро общества, о чём я рассказывала на основе книги С. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием», где он целую главу посвятил теории Антонио Грамши. То есть, через «точечные воздействия» в общественной среде, через маленькие вторжения в частную жизнь, посредством чего и производятся незаметные на первый взгляд, но существенные изменения в обществе, в отдельной стране, в настроении человечества как такового…
— Ты говоришь, тебе это знакомо всю жизнь?..
— Да, да, да. Об этом очень трудно говорить, потому что чувствуешь себя как на льду, где то ли вот-вот поскользнёшься, то ли вообще провалишься. Меня же никто не посвятил в историю технотронных изобретений, я понятия не имею, что и с какого времени применяется — широко или в частном экспериментальном порядке. Может быть, вот она — ваша нынешняя Украина. Но для того, чтобы свободно управлять такими массами, нужно было изначально подготовить и «удобрить» почву, но сколько времени это могло потребовать? Годы? Десятилетия? Столетие? И вряд ли всё начиналось с применения технотроники. Как давно западные университеты интенсивно изучают вековые методики воздействий в разных странах, культурах, религиозных и магических сообществах? В конце концов, пресловутое НЛП, такая его значимая часть, как эриксонианский гипноз без введения в гипнотический сон, была разработана, как методика, путём современного исследования вековых методик воздействий цыганок и карманных воров, а использовалось это уже в самое последнее время и в пресловутом уличном лохотроне, и в технологиях политических выборов… Тем более, что в последнее время разработка термоядерного оружия не требует таких астрономических затрат, и все освободившиеся финансовые, научные и прочие возможности брошены на разработку куда более эффективных и приемлемых со стадной точки зрения способов «управления»…
— Алёна, сегодня ты уже не хочешь продолжать разговор о твоей частной истории?
— Да ну тебя, Толя! Я именно сейчас как раз подошла к тому, чтобы начать рассказывать!
— Прости, я, и правда, чудовищно невнимателен. Ты как раз что-то сказала о маленьких вторжениях в частную жизнь. Всё, я молчу.
(Продолжение следует.)
= % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = %
Продолжение повести - в произведении
"Вспышка. Продолжение фантастического повествования",
http://www.proza.ru/2014/03/19/1127 .
Содержание фантастической завязки повести изложено в произведении
"Вспышка. Краткое содержание фантастической завязки",
http://www.proza.ru/2014/01/29/1872 , -
а также есть произведение
"Дневниковые намётки к продолжению «Вспышки»",
http://www.proza.ru/2014/01/29/1808 .
= % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = % = %
...

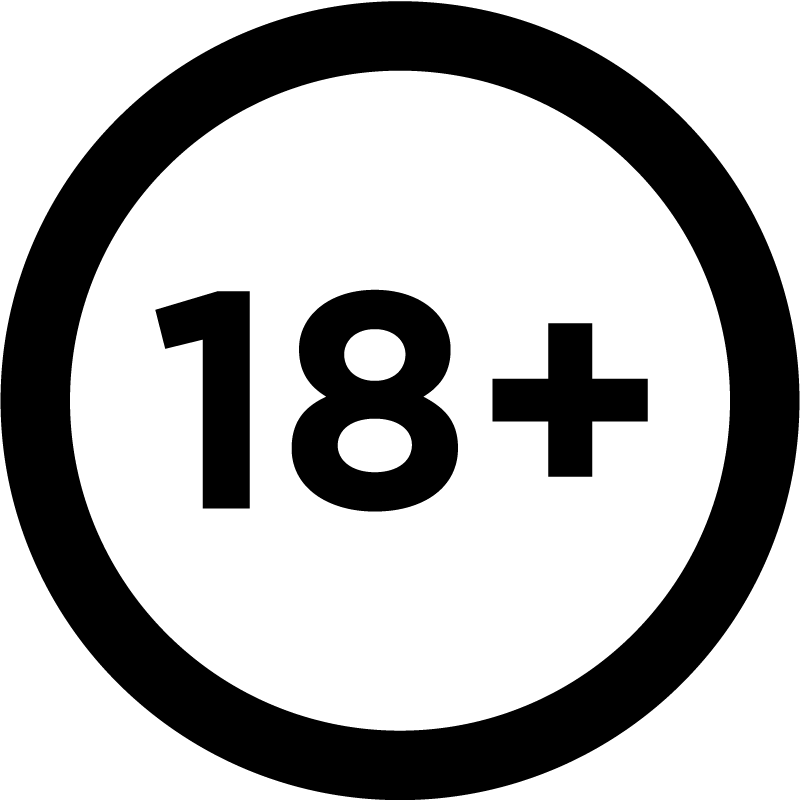 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.