Всё поддёрнуто лёгкой дымкой. Нет, туманом – белым и тонким, размывающим краски и очертания, отчего мир вокруг кажется зыбким, неустойчивым, нереальным. Яркие видения вспыхивают в голове – но уловить их нельзя: мысли путаются. Мысли улетают прочь… Слова, звуки… Синий водоворот времени.
«Алёша, Алёша!»
Кто-то зовёт его?
Этот человек мне знаком… Тёмный камзол, белый накрахмаленный воротничок, малиновая шапочка с зубчиком… Ну конечно, это он - сказочный министр Чернушка, которого он так жалел в детстве.
Министр протягивает ему свои руки – они без цепей!
Значит, он ошибся: сказка совсем не заканчивается так грустно, как написал его дядя. Ибо он, Алёша, никогда не предавал своего друга, Чернушку не заковывали в кандалы, а сказочный народец вовсе не уходил в изгнание из их дома…
Дядя очень любил его. Он посвятил ему свою сказку. Он был писателем. Он знал Пушкина и Жуковского. Но он не понимал, Пушкин, и Жуковский, наверное, тоже не понимали, иначе они обязательно бы поправили его: грустных концов не бывает, ибо Добро всегда торжествует над злом. Ибо это Закон Любви.
«Алёша, очнись!»
Что это… Его жена? Но откуда она здесь?..
«Алёша!»
Её голос. Её руки. Её лицо. Любимое… Единственное.
Помнишь, как мы встретились на балу? Помнишь, как нам много пришлось пережить? Моя мать была против этой свадьбы. Твой муж, этот непрошибаемый конногвардейский полковник, не давал тебе развода – но он ведь не любил тебя… Ты, наверное, не знаешь, сколько сплетен ходило про нас с тобой, как Тургенев, которого я когда-то вызволил из ссылки, рассказывал о тебе гадости в гостиной Смирновой-Россет. Прости, что я говорю тебе это… В конце концов мы – вместе. И это самое главное. Ибо если люди по- настоящему любят друг друга, любые препятствия всегда преодолимы. Мы ведь всегда об этом знали. Правда?... Ну, не плачь… Зачем?... Головная боль сводила меня с ума, я задыхался, и половину торса – словно обварили кипятком, или приложили раскалённое железо… Как и велели врачи, я впрыснул морфий. Я сейчас встану. Я поднимусь… И мы пойдём.
Смотри – странный белый туман затягивает всё вокруг. Золотые искры вспыхивают и гаснут… Пойдём…
В еловом бору лисички и рыжики. Помнишь, мы познакомились, это был 1851 год, мне было 34, я был молодым и сильным – и шутя мог винтом закрутить кочергу, и мы пошли в лес. Ведь пошли, да? Забавно – граф Алексей Константинович Толстой, оказывается, любит собирать грибы. Ты смеялась… А я шёл и шёл, и не чувствовал усталости. И когда лес стал совсем густым, из чёрно-синей чащи выехал на добром белом коне Илья Муромец, помахал мне железной рукавицей, и скрылся за деревьями. Затем – раздвигая коротким копьём мохнатые игольчатые ветви, показался Алёша Попович в своих серебряных доспехах. Затем лес расступился, и я увидел на зелёных холмах стольный Киев-град с белокаменными золотоглавыми церквями. Князь Владимир Красное Солнышко пировал со своей дружиной на берегу Днепра. А потом всё смазалось, перемешалось, в багровых отблесках пламени мелькнул хищный профиль Иоанна Грозного, Василий Шибанов, посланник опального князя Курбского, стонал, умирая, на дыбе… Но время вновь качнулось назад: на тревожном волнующемся море яростно сшиблись ладьи Боривоя и норманнских витязей Кнута и Свема. Тучи стрел закрыли небо. Море вздыбилось. И в таинственных морских глубинах я разглядел ясно весёлого гусляра Садко, спорящего с грозным морским царём в окружении неведомых морских чудовищ… Голова моя – раскалывалась от образов и звуков… Не я писал свои стихотворные баллады и легенды – они сами шли ко мне… Ты ведь помнишь, помнишь, как я сказал однажды: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель»…
Знаю, эта строчка многих раздражала. В том числе и потому, что она вышла из-под моего пера. Я ведь всегда стоял в литературном мире особняком и никогда не примыкал ни к какой литературной группе. Демократы просто глумились надо мной. Пусть. Меня это мало трогало. А в том, что я в 1863 году заступился за Чернышевского перед императором Александром, нет ничего удивительного и благородного. Я вхож во дворец. Пользуясь своим уважением, я должен был заступиться за него: идеологические разногласия никогда не должны быть выше человечности. С другой стороны Майков и Фет также были далеки от меня, хотя с Фетом мы и сдружились в последние годы. Сии поборники чистого искусства не уяснили главного: да, искусство должно служить Красоте и Любви. Но Красота и Любовь – всегда только Бог. А мы – христиане. И, значит, всё, что мы пишем, всегда должно быть освящено именем Христа, Сына Божьего, пришедшего в этот мир, чтоб спасти его. Причём, спасти весь, целиком, а не только человеческий род, так как человек ведь неотделим от Природы. Иисус Христос пришёл, чтобы спасти мир со всеми Божьими тварями, будь то олень или птаха, спасти со всеми лесами, горами, морями, реками… Всё это тоже освящено его любовью, ибо всё это тоже создано Богом Отцом при творении нашего бытия. Именно эту мысль я хотел выразить в своей поэме «Иоанн Дамаскин». Именно в ней ключ ко всей моей поэзии. Но, кажется, ни Фет, ни Майков, ни Щербина этого не понимали и не понимают. Поэтому Фет и говорил про меня: «Я подозреваю, что Толстой печатает свои вещи с целью христианского смирения. Он, как древние блаженные, притворяется пьяным для навлечения нареканий и свистков!»…
Ну что тут скажешь… Дай Бог ему понять всё.
Что касается упрёков ко всему написанному мною, будь то стихи, проза или драматургия, упрёков в несовершенстве, искусственности, фальши… Я всё всегда писал искренне и всегда отдавал своему делу все свои силы. Перед кем мне хвастаться, как ни перед тобой: почти вся моя лирика положена на музыку. А на некоторые стихотворения так по нескольку раз. Помнишь – «Горними тихо летела душа небесами»? Уже есть романсы Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Кюи, Аренского… Может, не так уж и плоха моя поэзия, как твердят об этом постоянно мои критики? Время рассудит нас…
Мысли мои путаются… Туман стал каким-то прозрачным… Мы идём под руки с Чернушкой по зелёному ровному берегу какой-то широкой сверкающей реки… И кажется порой – мне не 58, меня не мучают невралгия и астма, я тот лёгкий жизнерадостный мальчик, живший давным-давно. И так жалевший милого министра из дядюшкиной сказки, которого я никогда не предавал… А твой голос я слышу всё дальше и тише…
Не плачь, любимая…
Знаешь, мой дядя написал когда-то неважную сказку. Никто не подсказал ему: грустных концов не бывает. Ибо Добро всегда побеждает зло. Ибо есть Закон Любви, который всегда будет действовать, пока жив на земле человек…
И я вправе сказать тебе об этом, когда сонмы миров проносятся сквозь меня, когда я становлюсь ничем и обретаю всё…
Но подожди. Боль проходит. Сейчас я встану. И мы пойдём.
Из письма Алексея Константиновича Толстого к своей жене Софье Андреевне Миллер 14 октября 1851 года:
«… Бывают минуты, в которые моя душа при мысли о тебе как будто вспоминает далёкие-далёкие времена, когда мы знали друг друга ещё лучше и были ещё ближе, чем сейчас, а потом мне как будто чудится обещание, что мы опять станем так же близки, как были когда-то, и в такие минуты я испытываю счастье столь великое и столь отличное от всего доступного нашим представлениям здесь, что это – словно предвкушение или предчувствие будущей жизни…
Естественное и изначальное наше состояние есть добро, которое едино, однородно и безраздельно. Ложь, зло имеет тысячи форм и видов, а истина (или добро) может быть только единой. И если несколько личностей возвращаются в своё естественное состояние, они неизбежно сливаются друг с другом, и в этом слиянии нет ничего ни прискорбного, ни огорчительного, поскольку оно приближает нас – к Богу»…

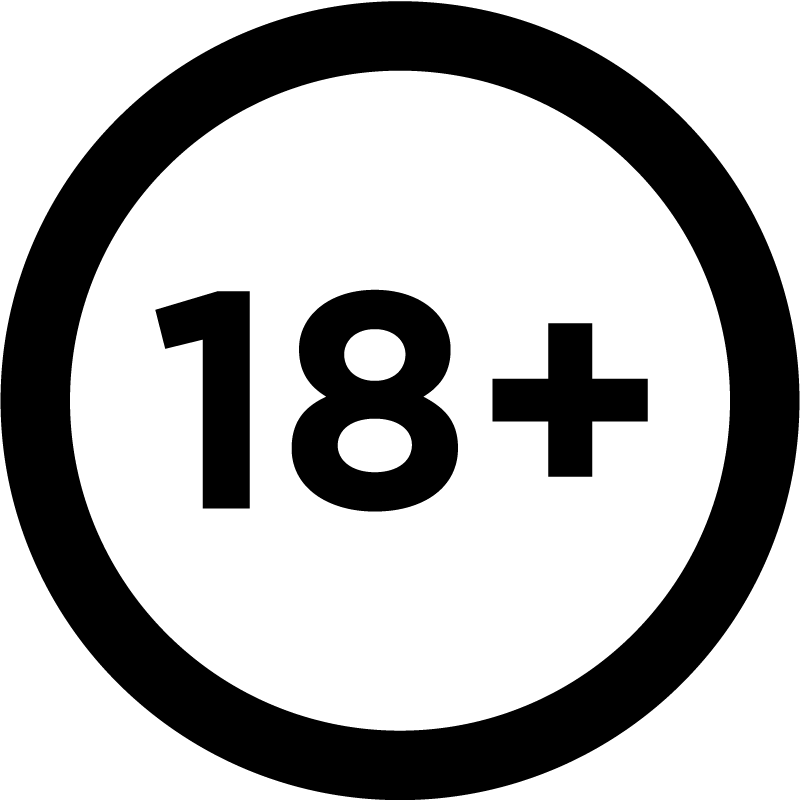 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.