Пессимист
МАТИЛЬДА
О Ардвисура Анахита,
Молоком, заключающим Хому,
Очищенным, процеженным Заотрой.
Чье удовольствую я желание? –
Верных мне и послушных мне,
Чтобы дать им веселья и бодрости?
Авеста, Ардвисур-яшт, 1
Белое тело, полупрозрачное, нечеткое и нетленное, летящее в бесконечном тусклом свете. Заметная темная точка ближе к середине. Ты устремляешься к ней, как к ориентиру, средокрестию абсциссы и ординаты. Это дыра. Вход в пещеру. И по ней ты летишь, как Незнайка, по мягко заворачивающему коридору неизвестно куда – и попадаешь во что-то, чему пока нет слов.
Она была сама полнота, огромная и пустая. Но так было не всегда: иногда кто-то словно стучался в нее, подавал какие-то сигналы. Это тревожило. Все окрашивалось в густой синий цвет. Но тут откуда-то приплывала волна светло-розового наслаждения – и вновь наступал покой. Но стуки снаружи не прекращались, становились навязчивыми. Она чувствовала себя, как стреноженный Гулливер среди лилипутов, слепой, неспособной ответить. Хотя она не была ничем связана. Она просто не могла пользоваться собственным телом. И ей обещали научить. И она училась: и становилась все меньше и меньше. И когда научилась совсем – превратилась в маленькую девочку.
Ей надо было родиться мальчиком.
Ей надо было родиться иначе…
I. АВТОБУС
Вся ее жизнь была пребывание в боли: болело сердце, болела голова (от плохого воздуха, шума, нервного напряжения и пяти сотрясений мозга в детстве), болели простуженные много лет назад в пору мини-юбок почки, болела рука с растянутой связкой (в ожидании надвигающегося голода стала с подругой сажать картошку). Болело много еще чего. Поэтому когда Ричард сделал ей предложение, чтобы увезти ее в Штаты, она не долго раздумывала.
– Лучше я буду жить в Америке, чем подохну здесь! – говорила она Ренатке и всем своим знакомым.
Ричард был человек с лицом престарелого Цезаря. Ему было сорок, и он постоянно курсировал между Штатами и Совком, выполняя какие-то странные, непонятные Матильде миссии. Договорившись в этот раз обо всем с Матильдой, он снова отбыл в Штаты, дабы не спеша заняться формальностями, которые напридумывало американское правительство для невест из России.
Пока Ричард торчал в Америке и слал утешительные письма, жизнь для Матильды тянулась по-прежнему. Она даже согласилась помогать Ренате сажать картошку, надеясь, что ей самой есть ее уже не придется. Эта картошка была ее проклятием. Она сама предложила помочь. Ей даже было интересно: возиться в земле, обретая среди сорняков цивилизации свои дряхлые крестьянские корни. Для потомственных горожанок это было ново, но дорого давалось. Ради этой чертовой картошки она даже взяла отпуск и осталась в Москве вместо того, чтобы в последний раз провести его где-нибудь на юге. Вдвоем с Ренатой они поднимали целину, рыхлили землю, сажали клубни, ходили за водой и отдыхали в тени одичавшего сада так называемой дачи. Отдыхали, впрочем, хорошо: с шашлыками и пивом, рассуждая о вещах космического масштаба: о своих онтологических врагах, антиномичных близнецах и втором ущербном элементе вселенского единства – мужчинах.
Ренатке тоже было не сладко. У нее никого не было, кроме пожилых родителей и анемичных возлюбленных, от которых пользы было как от козла молока. Впрочем, у нее не было и детей, поэтому к тридцати годам сил оставалось как у некрасовских брюнхильд. У Матильды же был ребенок, неотменяемое наследство былых матримониальных эскапад. Хотя, с чьей-нибудь точки зрения, – что это были за мужья! Участок и дача, на которой Ренатка провела все детство и считала своею, после смерти деда отошли к двоюродной сестре, женщине немолодой и больной, к тому же с нервами. Они с Ренаткой друг друга терпеть не могли. У самой Ренатки в этом мире не было практически ничего, кроме образования, обаяния и характера, что их с Матильдой и соединило.
Вечером, сделав в парикмахерской химзавивку, Матильда по вычитанному у Набокова способу поставила два будильника с пятиминутной разницей в бое, чтобы утром встать пораньше и ехать на “плантации”, где собиралась сперва выкупаться, а потом уже ковыряться. Сын двенадцати лет был уже достаточно взросл, чтобы остаться дома один. Перспектива уехать в Америку его, конечно, привлекала, но не настолько, как думала Матильда. К тому же она сразу окоротила надежды: сперва она поедет туда одна, поживет, ну, может, месяца три, посмотрит, а он пока попрактикуется в терпении с бабушкой. И тогда в награду она привезет его к себе. Гора она любила, но ситуация, в которую она попала, была вне всяких правил, и действовать в ней тоже надо было нестандартно. Иначе не видать тебе новой жизни, иначе навсегда привычное, как у всех, болото.
Дорога к метро лежала мимо заброшенной детсадовской площадки, где на малеванной на стене картинке из сказки о Золотой рыбке старик с бородой напоминал загримированного Тараторкина.
В метро она постаралась забиться в угол, чтобы не обращать на себя внимания, так как всегда на себя его обращала, была ли она в чем-то этаком, в чем знала толк, или как сейчас – в потертых джинсах и в старой, неопределенного цвета маечке.
В будний день попасть на экспресс даже летом было не Бог весть какой проблемой, поэтому она приехала почти к отправлению. В числе последних она вошла в салон, заплатила водителю деньги и села на свободное место справа от прохода, где меньше печет. Сумку она поставила на сиденье у окна. Когда автобус должен был вот-вот тронуться, в него влетел запыхавшийся молодой человек.
– Разрешите сесть к вам...
С невидимым миру вздохом она убрала сумку, и он, кренясь и распространяя запах пота, неловко пролез к окну мимо ее колен.
– Уф, – сказал он, рухнув на сиденье, естественно, тяжело задев ее плечом (без извинений), и упихал куда-то вбок черную болоньевую сумочку.
Матильда достала книжку, тупой роман на английском, чтобы привычно щелкнуть по кнопке. Дома за окном и сам автобус – все это ее совершенно не интересовало… Но знакомый анамнез не наступал: с некоторых пор всякая поездка на автобусе дальнего следования напоминала ей нечто роковое, что случилось в ее жизни, из-за чего, собственно, эта жизнь, в конце концов, так резко теперь ломалась. Огромная черная дыра, полная сожалений, боли и вины – и удивительных незабываемых восторгов, лучше которых, наверное, у нее не будет никогда…
– Возьмите мороженое, – вдруг сказал мужчина, протягивая Матильде завернутое в бумажку эскимо.
– Нет, спасибо, – ответила Матильда, отведя глаза и снова уткнувшись в книжку.
– Возьмите, у меня два. Вот купил. Думал наше, а оказалось кем-то там сделано. Не люблю.
– Нет, я не хочу.
– Возьмите, растает.
– Я не люблю мороженое, – спокойно солгала Матильда.
– Я же вам без всякого предлагаю. Мне два не съесть. Вкусное мороженое-то.
– Но я не хочу, я же говорю вам.
– Ну что вы упрямитесь, возьмите.
– Вы напрасно настаиваете.
– А вы напрасно отказываетесь. Все равно меня не переупрямите. Я говорю – берите.
– Нет.
– Я же хочу сделать вам приятное.
– С какой стати?
– Просто так, как человек человеку.
– Тогда ешьте сами.
– А я хочу, чтобы съели вы. Неужели вы мне откажите в такой мелочи?
– А кто вы такой, чтобы я для вас это делала?
– Человек, как и вы.
– Но я не хочу его есть!
– Да что вы заладили, ей-богу, не хочу да не хочу! Оно же не отравленное!
– Мальчик, ты хочешь мороженое? – спросила Матильда у белокурого пятилетнего малыша через проход, таращившегося на них круглые глаза (pop-eyed, как сказал бы Ричард) и уже почти пускавшего слюни от вида этого расчудесного эскимо. – Не отравленное.
Тот механически кивнул, протянул руку и лишь потом промямлил “да”. Она выхватила мороженое из рук растерявшегося мужчины и сунула мальчику.
– Ешь на здоровье, дядя очень добрый.
– А вы сами? – спросила благодарно покрасневшая мать мальчика.
– Я не хочу.
– Кеша, поблагодари тетю.
– Спасиба-а, – не поворачивая головы, пискнул малыш, уже захваченный операцией по освобождению продукта от обертки.
– Зачем вы так? – спросил мужчина.
– Чтобы у вас не было повода со мной знакомиться.
– Да с чего вы взяли, что я хочу с вами знакомиться? Можно подумать, что и мороженое специально для вас купил. А я просто так. Я действительно люблю мороженое. А вот это не люблю. Но я не взглянул, когда покупал, а автобус уже отходил. Я же от чистого сердца!
– Давайте кончим этот разговор. Или мне придется пересесть.
– Ишь какая цаца! – зашумела старуха сзади. – Он к ней и так и сяк, а она выкаблучивается. Вот столичная краля сыскалась!
– Прошу вас, замолчите, – сказала Матильда с кровожадной интонацией, полуобернувшись назад.
– А чего мне молчать-то? Мала мне рот затыкать.
– Плохо себя ведете, девушка, – подхватила другая соседка, толстая крепдешиновая тетка, обставленная сумками как баррикадой.
– Чем же, интересно?
– Шуму много создаете вокруг себя. Сидели бы тихо.
– Вот вы бы и сидели тихо и не вмешивались, куда вас не просят!
– Вот нахалка какая! – взвилась тетка и пошла что-то лопотать, не глядя в глаза и нервно ощупывая сумку на коленях.
– Распустили их, городских-то, – поддержала старуха.
– Да перестаньте вы, – бросил мужчина, махнув рукой. – Это все из-за меня.
– Во, защищайте ее! – негодующе зашипела тетка. – Такая расфуфыренная, вести себя не умеет. Волосы бы хоть подобрала, чучело. Смотреть противно.
– Еще для тебя буду стараться, – огрызнулась Матильда.
– Куда тебе, ленивой, – завершила свою мысль тетка в крепдешине.
– Действительно, она не виновата. Сам я чего-то привязался к ней... Смотрите, смотрите, она плачет уже из-за вас! Девушка, перестаньте, я больше не буду. Не расстраивайтесь так. Давайте скажем шоферу, чтобы остановил.
Но Матильда осталась сидеть, лишь достала платок из сумки.
– Вот разнюнилась, слова ей не скажи, – пробубнила яга за спиной.
– Нервные они все в городе. Лечиться нужно, – резюмировала тетка в пространство.
Мужчина утешал ее весь остаток пути, доказывая, что совсем не так плох, как хотел казаться, разве что немного пьян. Он рассказывал про армию, техникум, про теперешнюю работу на заводе, где он занимал должность инженера, про соседей, про семью и почему он сегодня выпил. Про царские деньги, которые нашел под землей, работая метростроителем. Все у него выходило хоть и бесхитростно, но складно. Виден был человек довольный собой и жизнью. Глупая непосредственность компенсировалась отсутствием комплексов. Обычное ее окружение составляли люди прямо противоположного типа. В конце концов, Матильда стала ему отвечать. Так всегда с ней бывало: она не могла долго сопротивляться раскаянию. Хоть и было неприятно, что он все же добился, чего хотел, и даже, может быть, большего.
Он быстро, прямо на глазах, исправлялся, и когда они доехали до городка, обогнал ее на выходе и подал руку.
Бабка строго на них глянула и засеменила в сторону.
– Слушайте, давайте зайдем ко мне. Меня зовут Алик. Мне очень стыдно, что я так себя вел. Не бойтесь меня. Я хочу загладить вину. У меня с собой бутылка шампанского. Я тут неподалеку живу. А вас как?...
Конечно, она к нему не пошла, уж это было совсем неинтересно. Она могла легко представить этот кошмар: городская пятиэтажка, низкий потолок с хрустальной люстрой, вытертые обои, телевизор и стенка. Убогий совок, вдолбленный раз и навсегда.
Она независимо шла по дороге из города, он зачем-то шел рядом. Она легко могла отписать его, увязавшегося за ней, как собака, но боялась, что получится, как в автобусе. Вот ведь тип!
Они шли мимо городских садов. Вишня цвела восхитительно и напоминала кусты хлопка в Средней Азии (однажды она была там – в баснословные времена ее революционной молодости).
– Вы куда, к дачам?
Она кивнула.
– Раньше я вас здесь не видел. Вы не местная?
– Нет.
– Из Москвы? В гости?
Она снова кивнула.
– То-то я смотрю, никогда не видел.
– А вы разве всех тут знаете?
– Ну, почти, городок-то маленький.
Вот это ее и раздражало: в провинции почти нет шансов проскользнуть. Легкая и естественная в своей стихии, здесь она чувствовала себя как рыба на берегу, открытая для сокрушенных киваний и далеко идущих наездов. Странно, она сразу поверила Алику. Он был слишком прост, чтобы обманывать.
– Очень скучно здесь, вот я и пью. Спасибо.
– За что?
– Ну, что идете со мной.
– Я иду с вами? Это, вроде, вы идете со мной, и я не знаю зачем?
Ждала ответа, он молчал.
– Тогда – можно я с вами прогуляюсь? – очень наивно спросил он.
Мысль, что такой поступок осудили бы ее родственники, было доводом совершить его. Она давно ничего не боялась и последнее время жила, как обезумевшая комета, свободная, как на чумном пиру.
Всю дорогу он говорил. Он якобы жил в собственном одноэтажном доме с матерью. Сестра жила у мужа – недалеко, в таком-то районе. Перед его домом был сад, поэтому им и дачи не надо. Впрочем, дача у них была. Там мать сейчас сажала или полола картошку. На даче у него беспородный пес, большой и добрый, с какой-то кличкой, он (Алик, не пес) очень любит животных. А еще есть гараж, где стоит разобранный мотоцикл, который он скоро переберет, и тот начнет ездить. Он очень любит технику. Такой потрясающий набор ценностей, что можно сразу замуж!
– А на дачу вы к друзьям? – допытывался Алик.
– Нет. Работать.
– Что?
– Капать, поливать, ну, знаете, какие на даче работы?
– Ой, давайте я вам помогу! Мне совершенно нечего делать!
Именно то обстоятельство, что он был виноват перед ней, надоумило Матильду изменить свои планы. Настроение было такое поганое, что возиться с огородом абсолютно не хотелось.
Открыла неповоротливый замок (Алик и тут помог) – в нос ударил запах сырости, бедности. Чего стараться – все равно унесут. И, однако, все любят дачи.
Она предложила ему во что-нибудь переодеться, но Алик отчего-то застеснялся и остался в своем костюмчике, только пиджачишко снял. Жара стояла страшная, и было дико видеть его в этом обмундировании с лопатой в руках посреди грядок. Но копал он сноровисто и легко, была видна практика. К тому же он очевидно хотел произвести на нее впечатление. Для нее, впрочем, тоже нашлась работа. Она даже изготовила быстренький обедик, которым он не в меру восхитился. Про себя посмеивалась, предвкушая рассказ Ренате, какого она нашла тут работника! Ловкого, скромного и нелюбопытного: что она, кто она, какое имеет отношение к этой даче?
– Вы словно здесь не дома, – догадался он.
– Я же сказала, я – гость.
– Странный вы гость! – засмеялся он.
Пришлось ввести его в курс дела. Совершенно случайный человек: на даче, в городе, в его жизни…
После обеда она сказала, что хочет искупаться – а там и возвращаться. Несмотря на помощь, она уже пресытилась его обществом и думала, как бы так деликатно от него отделаться. Полученная информация, не то первая, не то вторая, не то обе, повергли его в шок.
"Неужто он и купаться за мной потащится?"
Но он потащился. А что она думала: что он патриархально покраснеет и сбежит? Она попросила его отвернуться, надела купальник и полезла в воду – в ее любимом с Ренатой месте, таком уединенном, что здесь можно было купаться даже голяком. Он ждал, пока она искупается, уныло сидя на берегу, словно по своему обету не мог предаваться таким пустым развлечениям. Просто не хотел показывать своих семейных трусов, догадалась она. Несчастный, как он с такими комплексами здесь живет!
– А вода не холодная? У нас тут еще никто не купается.
Вода и правда бала ужасно холодная, и много времени купание не заняло. Ох, ах! – и назад.
– Вы так красивы, как русалка! – Услышала она громкий шепот, выходя. "Вот тебе на! И этот туда же!"
Дошло и до обещанного шампанского, коль оно и правда оказалось не портвейном или водкой. Они пили шампанское прямо из горла и молчали. После холодной воды оно не было отвергнуто.
– Я все про себя рассказал, а вы ничего… – начал он обижено.
Ну, вот, а она-то надеялась… И что ей про себя говорить? То, что все же рассказала, как истинная Мата Хари, приправила изрядной долей вымысла. Мол, после школы работала то там то сям, например, в лаборатории, сейчас работает в частном книжном магазине.
Непонятно, зачем она обманывала Алика? Конечно, ее МГУ и работа могли превратить этого закомплексованного Алика уже окончательно в соляной столб, который можно было бы вкопать тут же под деревом с угрожающей надписью: не в свои сани не садись, и рядом прислонить пустую бутылку с полевыми цветами. Хотя по тому, как он поглядывал на ее голые ноги...
– Я тоже книги люблю, серьезно, – сказал он наконец. – Здесь хороших книг не достать. Ну, так я в библиотеку хожу, в Москве. Я ведь в Москве работаю. Сюда я и ночевать-то не всегда... Тут скучно. Только вот мать и друзья.
– А как вы тут развлекаетесь? – спросила Матильда, закуривая сигарету.
– Ну, ходим в кино, раньше на танцульки бегали, теперь уже не тянет. Рыбу ходим ловить со свояком. Вот такой, между прочим, мужик, муж моей Шурки, сестренки. Раньше тут у нас сомы водились, щуки. А теперь молочный комбинат построили, чтоб его! В магазине молока нет, а рыба сдохла. Редко-редко когда подлещика вытянешь...
Минуту они сидели молча. Она не знала, о чем еще с ним говорить. Да и пора уже было топать на станцию, чтобы не опоздать на последний автобус.
– Мне пора, – объявила она.
Он посмотрел, как потерянный.
– Приедешь еще?
– Не знаю, приеду, наверное.
Опустил голову.
– Ты вот в Москву, а мне тут…
– Что, нечем заняться?
– Нечем.
– А мотоцикл?
– Да пошел он… в пень! И дома никого.
– А мать?
– Не, она на огороде, картошку садит. Это до вечера. Да и что мне мать, не маленький же я…
– Что, никого нет?
– Нет.
– Чего так?
– Девчонки в Москве совсем другие, – сказал он.
– Чем же?
– Не знаю. Тут все клуши какие-то. Только хи-хи да ха-ха, ругаются как мужики. Просто не о чем поговорить.
– Да, ты любишь поговорить, я уже знаю.
– Да, люблю, не сразу же в постель, правда?.. – Он глупо хихикнул и слегка покраснел.
Она как-то сразу очнулась. И хорошо: она ощутила, что почти вдрызг пьяна – вот тебе на!
– Отвернись…
И тут с изумлением завертела головой. "Что за бред?!"
– А где моя одежда?
– Какая одежда? – спросил он совершенно невинным тоном.
– Как какая, в которой я приехала!
Он тоже встал и начал делать вид, что ищет.
– Не валяй дурака! Сейчас же верни одежду!
"Когда успел?! Это же напоминает… Но тут нет никакого такси. Вообще никого нет! Попала!"
– Ты со всеми так? – спросила Матильда.
– Нет, ты что, я совсем не то чтобы... не бабник, в общем. Просто ты мне нравишься. Я как в автобусе тебя увидел, так и влюбился.
– Быстро у тебя.
– Мы, деревенские, все такие. Ты уедешь, а мне здесь… пропадать! Не хочу, надоело!
“Господи, – подумала Матильда, – вляпалась, дура!..”
Матильда вообще была противницей всего случайного – в отличие от Ренаты, заядлой авантюристки. Любая импровизация, на ее взгляд, должна была быть тщательно срежиссированна, и вообще все должно было двигаться по какому-то плану, чтобы жизнь казалась хоть немного спокойнее, чем виделась на самом деле. Впрочем, в ее жизни случались осечки.
В любом случае, Алик был не вариант. Но даже будь он принц датский… Никто никогда не мог ее принудить ни к чему помимо ее воли. Не на ту напал!
На худой конец можно было броситься в реку и переплыть на ту сторону: плавала она отлично. Не полезет же он за ней в своем костюмчике! И дальше бегом в город – без одежды, без ключей, без сумки и денег. Весело. Вот ты гад!
Она с ненавистью посмотрела на него.
– Ты что? – спросил он.
– Хватит!
Она с досадой толкнула его в грудь. От неожиданности он поскользнулся на глинистом берегу и упал в прибрежную грязь. Она испугалась, потом усмехнулась, увидев его лицо. Совершенный дурак! Он встал. Она нахмурилась, увидев его странные, едва ли не безумные глаза.
– Ты не хочешь?
– Чего?
– Ну, этого…
– Ах, этого! – она деланно захохотала. – Ты сумасшедший?!
– Правда не хочешь? – Он словно не слышал.
Она покачала головой. Хотела отойти, он хватал ее за руки.
– Отпусти! Ну, я прошу тебя! – она подняла на него глаза. Решила быть спокойной и образумить этого маньяка.
– И я прошу тебя! Зачем приехала! Мне теперь все, хана, я нажрусь и кинусь в реку, вот те крест! Ты проклятая, ты сама не знаешь, какая ты! Ты для меня теперь, как смерть. Мне теперь все равно, я за себя не отвечаю.
– Погоди, ты слишком спешишь. Сейчас кто-нибудь придет, тут много людей...
– Никого нет… Мне все равно!
– Но мне не все равно!
– Пойдем ко мне, пойдем к тебе!
– Пойми, Алик… Я так не могу.
– Как?
– Так сразу. Я тебя совсем не знаю. Это у мужчин все просто. А женщина должна долго… созревать, что ли… Ты, наверное, привык к другим отношениям?
Он непонимающе смотрел на нее.
– Ты меня попросил, я тебе поверила, это подло!
– А для чего я попросил! Для этого и попросил.
– Ах, для этого!
Он перехватил ее руку, летящую к его лицу. Такой реакции она не ожидала. Вот так рохля!
– Отпусти, дай я сяду.
Она сделала вид, что садится, и немедленно бросилась к реке. Он поймал ее.
– Не смей, я буду кричать! – она и так уже кричала, не замечая этого.
– Кричи, кричи, никто не услышит.
– Попробуй только!.. – закричала она с угрозой.
– И что ты сделаешь? – Он накрепко сжал ее руки. Он был гораздо сильнее ее. – Нет, не бойся, я не буду ничего…, я только посмотрю на твою грудь. Ну, сними, пожалуйста.
– Ты сумасшедший?!
– Нет.
– Нет, ты сумасшедший, маньяк, а сам не догадываешься… А если не маньяк, то завтра тебе будет стыдно. Что это за любовь, когда насильно? Ты подумай! Разве это победа? Победа, это когда с тобой рады этим заниматься, когда женщина сама тебя хочет… – Она не думала о словах, знала, что надо говорить много и убедительно.
Он смотрел на нее дурацкими глазами. Непонятно, слышал ли он ее?
– Давай… – выдавил он наконец, – давай по любви…
– Ну, как по любви, ты смеешься! Разве это так делается?..
– Вот, ты не хочешь…
Делать несколько дел сразу на мокрой траве было неудобно. Сперва сорвал с нее лифчик, стал отдирать прижатые руки… Кажется, ему и правда хотелось просто увидеть. А увидев – что? Он тяжело дышал, злился, глаза стали совершенно сумасшедшие. Если не изнасилует, то убьет. А она уже была так измучена, что ей стало все равно.
– Ну, смотри, вот какое сокровище! Доволен. Не видел никогда!
Долго он дышал, смотрел, как зачарованный. Потом протянул руку.
– Трогать нельзя!
– Почему? – глядел, ничего не понимая.
– Сам знаешь. Это не твое, а мое. Я вот у тебя ничего не трогаю.
– Пожалуйста, трогай, я тебе все отдам!
"Очень нужно! Вот козел!" Она была отчаянно зла, в основном на себя. В голову пришла старая идиотская шутка: если насилие неизбежно – расслабься и постарайся получить удовольствие. И она разозлилась еще сильней. Это могло случиться со всеми, но почему это случилось с ней? За дело! Не поддавайся порывам. И вообще, жила ты последнее время, как дрянь!
Кажется, он и правда решил отдать ей это и стал расстегивать штаны.
Она страшно закричала и кинулась на него ногтями вперед. Земля вылетела из-под ног, и она нашла себя уже сидящей на земле, за спиной дерево. Все плыло перед глазами, голова кружилась, из носа капала кровь.
– Ну, успокойся, успокойся. Ничего особенного. Все живы. Смотри, как ты меня исцарапала. Настоящая кошка. Чуть глаз не выцарапала.
– Жаль не выцарапала. Ходил бы кривой, сволочь поганая, паскуда!
– Ну, ты это, прости. Я понимаю. У меня уже давно никого не было... Ты странная какая-то. Зачем ты вешала мне лапшу? Из магазина! Я ни х-я не поверил. Ругаться ты не умеешь. Кто ты?
– Пошел к бесу, ублюдок!.. Шлюха с панели, дубина стоеросовая! А ты думал?! Нормальная разве пошла бы с тобой, говно!
– Ну, ты – потише. Ущерб что ль какой? В Москве, небось каждый день... С мужем там или кем.
– Конечно, что еще в Москве делать? – пробормотала она.
– А я ветеран, афганец. Я кровь свою проливал! – резал свое, не слушая.
– Ничего, я знаю, где ты живешь, ветеран, я завтра приеду сюда с друзьями, они тебя кастрируют!
– Посмотрим, у меня тоже есть друзья. Я, между прочим, сейчас тебя камнем по голове и в реку, хочешь? Ну, веришь мне?
– Отойди, ублюдок!
– И друзей позову, позову. Всей улицей будем натягивать...
При последних словах голова у нее закружилась, и она упала в обморок. Так, полуобморок, чтобы только не видеть всего этого подольше. Дать нервам хоть небольшой перерыв.
Очнулась она оттого, что он махал над ней полотенцем или чем-то таким, что-то бормотал, потом стал плескать воду в лицо. Оказалось: махал он своей рубашкой.
– Видишь, я ничего не сделал. (Подразумевалось: а мог бы.)
– Рыцарь, ты – рыцарь. Ты знаешь это? Ты же не обидишь женщину?
– Нет. Но я тебя хочу. Очень. Я ничего не могу с собой поделать. Может, я завтра удавлюсь.
Это звучало отчаянно и поэтому правдиво. Хорошо бы снова в обморок… Обморок не выходил.
– Дай мне мою сумку, – велела она.
– Зачем?
– Зачем, зачем! Есть там кое-что для этих дел!
Он посмотрел непонимающе, протянул руку и подал ей сумку. Все ее вещи, оказывается, были сложены прямо у нее над головой в развилке больших веток.
Она не успела взять, он рванул ее назад, открыл и уставился внутрь. Что он искал: нож, баллончик, пистолет? Пошарил даже.
– Не стыдно?
Он вздрогнул и протянул назад.
Матильда спокойно открыла, залезла в боковой карман и достала запакованную в белую бумажку бритву, простую бритву индийской фирмы "Топаз". Вытянула руку и показала ему.
– Ты что?!
– Или тебя или себя... Я тоже сумасшедшая, я в дурдоме лежала. Видишь, шрам? – Она показала ему запястье левой руки.
Он тупо смотрел на него.
– Отойди на десять метров. Я не шучу.
Она приставила бритву к запястью, рядом с прежним шрамом. Она могла спокойно сделать это. А потом пусть он возится с умирающей, насилует ее или за скорой бегает…
– Перестань, я и не собирался ничего... – пробормотал он потеряно. – Я шутил.
– У тебя хорошо получилось, убедительно.
Держа его краем глаза в поле зрения, она быстро оделась. Двинулась по тропинке наверх. Он заступил ей путь.
– Пусти, хуже будет. – Она говорила совершенно спокойно, пристально глядя ему в глаза. Ни о каких уговорах уже не было речи. Она почувствовала себя очень сильной. Она вдруг перестала его бояться, поняв, что ничего не случится, глядя на эту ситуацию словно на уже произошедшую, оставшуюся в безопасном прошлом. "Он сейчас отойдет", – сказала она себе. И он отошел.
Она поднялась на обрыв, он плелся следом.
– Дай мне уйти!
– Останься, я прошу тебя! Я тут думал. Ты мне подходишь, правда! Только имя у тебя странное, каких не бывает. Это тоже хорошо. Я тебя люблю, честно.
Она молчала. Отвечать на эту дурь было выше ее сил.
– Ну куда ты пойдешь, тут у нас такой народ!
Она обернулась и показала ему бритву, блеснувшую в свете заходящего над лесом солнца. Это было красноречивее слов. Опять пошла, прислушиваясь к шагам сзади. Главное, выйти на нормальную улицу.
– Подожди, я, это – провожу тебя. Куда ты теперь?
– Не твое дело.
"Любовь и смерть, – думала она, – и правда. Не сыщешь места без литературы…" – крутилось в голове. Почему не сыщешь? Просто, не надо быть дурой! Все время быть дурой! Хоть иногда не быть ею! Хоть изредка, по будням. Скажем, по четвергам… Ей стало смешно.
Она шла по темнеющей улице, из-за заборов лаяли собаки. Он по-прежнему плелся следом. Хорошая парочка: она – в мокрых от купальника джинсах, и он – весь перемазанный грязью, как партизан! Жаль костюмчик…
– Ты какая-то странная. Я никогда таких не встречал. К кому ты сюда приехала?
– Ни к кому.
– А зачем тогда?
– Картошку сажать.
– Ты серьезно?..
– Абсолютно.
Он деланно засмеялся.
– Хочешь кофе, тут у нас кафе есть.
Она усмехнулась:
– Ты совсем идиот?
Она посмотрела на свою руку: онемевшие пальцы все еще сжимали бритву. По пальцам стекала струйка крови. Было страшно порезаться еще больше, но она ее не бросала. Она еще дрожала, но страх проходил. Алик грустнел и менялся с каждым шагом. Теперь он снова напоминал убогого провинциального работягу, способного разве что вызвать жалость.
– Хочешь, я тебе еще помогу, ну там картошку?
– Матери своей помоги, делом займешься.
– Ты меня воспитываешь что ль? А я у ней каждое воскресенье, как в церковь! Но не вол же я, имею я право после работы отдохнуть?
– Видела я твой отдых.
Она стояла на площади, ждала последний автобус – не экспресс, а уже рейсовый, с пересадкой.
– Если надо, построить там, починить – только скажи.
Она молчала.
– Я все умею. Я ж деревенский. Строгать, плотничать, даже лудить.
– Ты уже себя показал, классный чувак.
– Ты че, смеешься?
– Ну что ты!
– Молоток, Алик, классную бабу закадрил! – закричали местные алкаши.
– Пошли в пи-ду… – отвечал равнодушно Алик.
Здесь, на остановке, он ни за что не хотел отпускать ее.
– Где ты живешь? Дай телефон!
– Какой телефон?
– Телефон!
– Послушай, хватит. Я же обещала, что еще тебе отомщу.
– Испугала! Нет, ты так не уедешь. Не уедешь и все! У меня, может быть, жизнь перевернулась!
– Я поняла. Это, наверное, я виновата. Как это грустно.
– Посмейся еще!
Он внезапно обнял ее и стал целовать. Это было уже слишком.
– Отпусти меня! Люди смотрят!
– Пускай смотрят. Ты теперь моя, поняла? Нет? А я сейчас закричу, что только что тебя е-ал!
– Ну и кричи, дурак.
Он растерялся.
– Ты меня совсем... не любишь?
– Очень надо.
Подошел автобус.
– Дай свой телефон, слышишь! В Москве.
– Я позову милицию.
– Пока будешь звать – автобус тю-тю. Останешься здесь на ночь.
– Ну ты сволочь!.. Записывай. Или запоминай, – она назвала первые попавшиеся цифры.
Он нервно вытащил пачку папирос, выпросил у какого-то прохожего ручку и корявым школьным почерком запечатлел эту абонентную абракадабру.
– Ты не обманываешь?
– Можешь проверить.
– Какой это район?
– Чертаново.
“Господи, – думала она, глядя на проносившиеся мимо деревья, – бедный Ричард. Бедный-бедный Ричард”.
Был еще один человек, может быть, более бедный, чем он, о котором ей не хотелось думать.
II. В БЕЛЫХ ШТАНАХ
– Баринова, начни читать наизусть письмо Татьяны Онегину, что я вам вчера задала.
– Я вам пишу, чего же боле, что я могу еще сказать... – затараторила с энтузиазмом отличница и комсорг.
– Хорошо, хватит. Васильев (оторвав его от оживленного разговора с соседом) – продолжи.
Молчание.
– Не учил?
– Учил.
– Ну.
– Откуда? С начала?
– Проспал? Нет, со строчки: "Что я могу еще сказать?.."
Сопение, взгляды на класс, в которых и вопрос, и обида, и насмешка.
– Я вижу, ты, Васильев, ничего сказать нам не можешь (смех, в том числе самого Васильева). Садись. Краснова...
Тонкая, почти тощая, в брюках в обтяжку, в спадающем свитерке с намотанным в кольцо воротом. С хвостом темных волос.
– Теперь я знаю, в вашей воле...
– Краснова, почему ты хочешь выделиться?
– Я не хочу выделиться.
– Ты ходишь в школу в брюках.
– Ну и что?
– Это запрещено.
– Кем запрещено?
– РОНО запрещено, Министерством Образования запрещено!
– Я этого не знаю.
– Ну и что, что не знаешь! Это еще не значит, что ты можешь это отменить.
– Я не отменяю. Они запретили, пусть сами и не ходят. А я хочу ходить.
Сдавленный смех в классе.
– Ходи дома, ходи на улице, но не в школе. В школе тебе не позволят самовольничать!
– А почему не в школе?
– Потому что нельзя!
– Потому что кому-то не хочется?
– Хочется, не хочется – это ты дома задавай вопросы, а здесь нельзя, потому что нельзя!
– Я учусь, а в чем я хожу – это никого не касается.
Насмешливо-поощрительный шепот откуда-то сзади: «Давай, Краснова!»
– Какое одолжение ты делаешь, что учишься! Это ты для себя учишься. Да и учишься отнюдь не блестяще. А единственное, что от тебя требует школа – чтобы ты соблюдала дисциплину.
“Могу и вовсе не учиться. Можете выгнать, если хотите!” – подумала она про себя, но “вслух” гордо промолчала, как партизан, показывая безразличное лицо, и демонстративно села.
– Встань, Краснова, я с тобой еще не кончила говорить! Кстати, где твой комсомольский значок?
– Потеряла.
– Потеряла – купи новый. Я бы обратила на это внимание комсорга класса. У нас есть комсорг или нет?! Он вообще проводит комсомольскую работу, или это больше никого не волнует?
– Да-да, мы обратим внимание! – залепетала Баринова.
Увы, комсомольская работа в классе совсем не велась.
– Так и знай, Краснова, если с таким поведением ты надеешься заработать хорошие оценки в аттестат – то ты сильно разочаруешься.
– У вас аттестат – как ружье! – выпалила она.
– Я снова хочу, чтобы пришли твои родители. И не смей больше являться в школу в брюках!
На перемене, не успела она отойти на значительное расстояние от проклятого класса, к ней метнулась целая делегация: Баринова и две стервы из совета дружины.
– Чего ты выделываешься, Краснова?! – заявила одна из стерв, невысокая и смазливая.
– Не твое дело!
– Нет, мое!
– Ты у них на побегушках? Вот и целуйся с ними!
– Хочешь мальчикам понравиться? – спросила другая, некрасивая стерва.
– А ты?
Молчание.
– Мы тебя предупредили! – заявила Баринова, чуть торопясь.
– О чем?
– Сама знаешь!
– И что мне будет?
– Выгоним тебя из комсомола!
– Вот испугали!
– Тебя не примут ни в какой институт, даже можешь не стараться!
– А я, может, и не пойду никуда!
– Что же ты будешь делать?
– Это мое дело!
– Задаешься, Краснова! – снова воскликнула красивая стерва.
– Отстань! – Она демонстративно повернулась спиной и пошла в туалет курить. Из девочек в школе не курил почти никто, только отъявленные хулиганки или «проститутки», как их звали мальчишки, то есть девочки, которые уже вели половую жизнь – вопреки всем канонам советской школьницы. От них Краснова отличалась тем, что половую жизнь не вела и была почти отличницей. За что ей многое прощалось.
Но всему есть предел, и из школы все же позвонили. После этого родители спрятали брюки. Но все равно, в мышиной форме она являться отказалась. А родителей она приговорила в своем черном ящике, как предпочитала именовать свою голову.
“Я не свободная, я не свободная! Как чучело огородное! И ни на что не годное... И сама не собой появилась и выросла, и штаны не самой куплены!”
Она говорит в рифму:
– Родители? Это вредители. Они заботятся о себе и своих чадах. Закрепители своего благополучия. Не дают мне, накопители, изобретать мой велосипед! – И сама смеется над этакими пассажами.
Протестуя, одевалась все же в материно (никогда ей этого не простив). В транспорте платила, не заботясь о точности, платила не всегда, но зато нередко больше: не пять, а десять или пятнадцать копеек, не собирая остаток с пассажиров, побеспокоенных из-за ее талончика, который вместе с деньгами долго путешествует через забитый салон.
С какой-то маниакальной педантичностью она отделывалась от вещей, раздаривая или раздавая. Теперь ее общая с прабабкой комната стала чем-то вроде кельи схимницы: две картинки и пять книг. Она больше всего боялась овеществления. Книг и вещей вокруг нее и так было довольно. Теперь она говорила, что ненавидит все задние мысли: стоит ли покупать, выгодно это или невыгодно, выиграю ли я от этого или дороже станет? Дух, казалось ей, должен быть легким и не привязанным, как инертный газ. Мысль должна быть только в радость. Задние мысли – это самые страшные. Все накопленное для нее – ненавистная татуировка...
(Ей и батюшка потом говорил, что это чрезмерность. Что благочестивым можно быть в любом положении и в любом месте, чем бы ты ни занимался и как бы ни жил. Обычный человек не должен накладывать на себя ничего чрезмерного, доколе Дух определенно не направит его на это. Без поддержки Бога человек сломается, впадет в уныние или в отрицание, что уже есть несомненный грех. Сейчас ей этого никто не говорил, да она бы и слушать не стала. Она впадала в уныние уже от одного ничегонеделания, от того, что все продолжается как есть.)
В ней была своеобразная порода, на наш, конечно, лад. Дед ее был известный ученый, профессор, он даже в Большой Советской Энциклопедии значился. Мать: доктор наук, составитель нескольких книжек англоязычной беллетристики, дело, которое доверяли далеко не всем. Отец – известный музыкант. Отчим Анатолий, эрудит и умница, сын известного архитектора, тоже не последний человек в науке: почти все предисловия в переводных книжках с китайского тех лет – его. Матильда свыклась с этим как с чем-то изначально данным в опыте и даже не особенно гордилась. И все же, благодаря или вне связи с вышесказанным, она всегда знала, что равенство ее с приятелями и подругами по двору только номинальное. Так она с ними себя и держала: на равных, но с оттенком великодушного снисхождения, свободного избрания судьбы и не допускала фамильярности.
Тылы ее были надежно защищены постоянно сидевшей дома матерью: тоже эрудиткой – с жутким характером. Лишь по присутственным дням отлучаясь в свое ИМЛИ, она с детства мучила Матильду (тогда еще не Матильду) кружками и школами: музыкальными, художественными, иностранных языков. Матильда же с удовольствием ходила только на фигурное катание. Отчима она видела редко, отца совсем не знала, о жизни имела весьма радужные представления, о людях – весьма пренебрежительные.
Вообще, известный взгляд на вещи у нее выработался рано.
Напичканная взрослой культурой, гордая происхождением и уверенная в своем превосходстве, она к двенадцати годам сделалась первой во дворе хулиганкой, “девочкой хуже мальчика”, – как говорили соседки. На вопрос бабушки (она умрет через два года): “Кем ты хочешь быть?”, она ответила: “Бродягой” (это она прочла “Гекльберри Финна”). От рисунков принцев с принцессами, благочестивых игр, типа “Гно¬мики в домиках живут” – не осталось следа (хотя потом через двадцать лет с первозданным восторгом вспоминала свою любимую детскую игру в “колдунчики”). Она никого не боялась, ничего не слушала и с недетской пресыщенностью жизнью пускалась в рискованные авантюры, вроде лазанья со знакомыми хулиганами в коллекторы и на крыши. Вообще, всегда мечтала быть мальчиком. Их игры нравились ей гораздо больше. В них она и играла, и даже в футболе стояла на воротах.
В десятом она носила белые брюки, видимо, из-за их навязчивой непрактичности. Они заставляли следить за собой, но – уступая склонности характера – учили не привередничать. И оттого нередко приходилось терпеть их коварную нечистоплотность.
Я в белых штанах
В этом городе смрадном,
Кума-иностранка,
Я в белых штанах, –
сочинила она от нечего делать и твердила, как попугай, идя по улице.
Она еще в старших классах мечтала выйти замуж за американского миллионера и уехать отсюда, а потом вернуться навестить друзей – на самой лучшей в мире машине: “Фольксвагене–Жуке”. И увидеть, как друзья обалдевают от зависти!..
Зато, когда пришло время, лет в 16, Матильда выказала полную индифферентность к протеканию своей будущей жизни.
– Но, в конце концов, что ты любишь? – спросил ее знаменитый дед (которому в то время уже было за семьдесят). О том, чтобы Матильда пошла по его стопам в науку не было речи.
– Да ничего не люблю. Книжки в постели люблю читать, ты же знаешь.
– И еще за завтраком, – сказала ничего не забывавшая мама.
– Может, тебе на филологический пойти?
Матильду мало интересовало то, чем занимаются на филологическом, но это все же был Университет, а ничего ниже Университета она для себя и не мыслила, поэтому сам факультет был, в общем, не важен.
Поступила она туда сразу, без подготовительных курсов, в чем, собственно, никто и не сомневался, потому что, скорее благодаря атмосфере, нежели сознательным усилиям, информации и самоуверенности у нее было предостаточно. Впрочем, академические связи родственников действовали как своеобразный блат.
В восемнадцать лет вызывающе требовательная к чистоте, она носила белые штаны, длинные распущенные волосы и читала длинные скучные английские и французские романы. И не испытав еще роковой любви, считала мужчин потерянными для нее созданиями. В восемнадцать лет она была почти стара, и потом лишь с большим трудом и насилием над собой ей удалось помолодеть. Зная (для своего возраста) очень много, она ничего не испытала и не имела желания испытывать. В это время она уже год отучилась в МГУ, знала, что такое верхненемецкий умлаут и как спрягается глагол facio – и заскучала.
На кухне большего сталинского дома сидели две женщины. Средняя полоса России, непроизводительный труд и многообогащающий непримиримый поединок со временем оставили на их бледных лицах выражение озабоченности и усердия. На обеих были платья, в равной степени архаичные и элегантные: на одной синее, на другой красное. У обеих были короткие волосы и прически под них.
Говорили они о своих детях.
– Мы постоянно с ней ссоримся, – сказала та, что сидела ближе к плите. – Я боюсь, что это кончится чем-нибудь ужасным. Я не знаю, в чем дело? Она слишком погружена в себя. Все вокруг она воспринимает негативно. Как я ее такую воспитала? Она ни к чему не привязана. Нет, она просто бесчувственна! Я удивляюсь, что могло ее так охладить? Не то леность, не то гордость. Какая-то сатанинская гордость! Может быть, я так ее разбаловала? Ты помнишь, как мы тогда жили? Гнилая картошка нам казалась деликатесом. А у нее могло сложиться впечатление, что люди только и делают, что встречаются, дарят подарки и садятся пить чай...
– Не говори… Ребенок – вечные проблемы, – сказала вторая со вздохом. – У моего Митьки, хоть все нормально, тьфу-тьфу, пока, но и то я предчувствую, что скоро начнутся такие закидоны, только держись! И ведь не глупый, в МИСиС свой поступил. А уж надо думать о дипломе. У него бывают периоды, когда он вдруг перестает учиться. А я голову ломаю, все из рук валится. В свои дела он меня не посвящает. Как теперь я могу ему помочь? А если любовь пойдет? Найдет Бог знает кого, а я терпи? Упрется! Квартиру надо будет искать, а где я ее найду? Хоть бы дотянул до диплома. Устроился бы, написал диссертацию, женился. Но я уж на это и не надеюсь. Вон у Маришки сына в армию хотят забрать. Помнишь, как мы тряслись, когда они поступали? А чего я за Митьку тряслась? Разве он меньше меня хотел? С седьмого класса без всякой палки один готовился! Я ему учителей наняла, сама с ним все штудировала. Если бы он не поступил, я уж не знаю, кто тогда должен был поступить?
– Да, – ответила ее визави, не слушая.
– А у нее никого нет?
– Нет, нет у нее никого! Как я хотела, чтобы она поступила. Думала – больше не будет проблем. А все как было, так и осталось. Она же способная, я знаю! Языки с ней учила. У нее к ним талант, честное слово... Но она же не может, как все. То так ей надо, то этак. То надо быть чистюлей, то ходить в обносках, то говорить правду... То это недостаточно хорошо для нее, то еще чего-нибудь. Прочтет что-нибудь и уже готова на стену лезть: а вот там так написано – а вы почему не такие?!
– Не волнуйся, это самоутверждение.
– Да, наверное. Но что получится? Да что я говорю?! Появился тут один. Она его в дом не приводит, и я не знаю, что у нее с ним. Я молюсь, чтобы ничего серьезного. Пижон какой-то: с шарфом – а-ля Маленький Принц. Она с ним училась, он был в нее, вроде, влюблен. Я здесь их во дворе встретила. Она говорит, он якобы поэт. Но она вообразит – не дорого возьмет. Какие сейчас поэты? Может быть, он слесарь.
– А что: слесарь-поэт!
– Да кому он нужен?
– Да, – сказала другая, неопределенно улыбаясь.
– Лучше бы уж просто слесарь.
– Митька тоже стихи пишет. А что: все пишут! Я не специалист, как ты, но мне нравятся. Знаю, ты раскритикуешь…
Когда подруги прощались в прихожей, в двери загремел ключ. Вошла дочь: зеленые глаза, брюнетка с легкой рыжиной, волосы немного вьются, среднего роста, худая, но и не палка, как бывает в этом возрасте. Как каждый прежде незнакомый человек – (внешне) совершенное инкогнито. Симпатию может вызывать, может не вызывать, смотря по настроению.
– Здравствуй, Рита.
– Здравствуйте, Зоя Львовна.
– А я тут у вас в гостях засиделась. Как твои дела?
– Прекрасно.
– Ну, я очень рада. Мама тут рассказывала всякое... не про тебя, не про тебя! Ты уж ее не мучь...
Он был мальчик из ее класса, симпатичный, неглупый, из очень простой семьи. Мама его была уборщицей – пока каким-то образом не оказалась в партии и не стала быстро делать карьеру (по общественной линии). Познакомились они лишь в девятом, потому что она поздно перешла в их школу. Тогда и началась эта затянувшаяся осада. Это было глупо. Он и не решался на штурм, и не уходил.
По правде Ганка не был поэтом: это она нарочно придумала, из самолюбия, и чтобы помучить мать. Он действительно в девятом и десятом писал стихи, подражая Макаревичу, Блоку и Евтушенко. Ребятам его стихи нравились, и он даже хотел поступать в Литературный, если бы еще больше не хотел сделать карьеру и стать, может быть, даже ученым, что по меркам его семьи было пределом желаний. И он пошел туда, куда шли все – в престижный, но не творческий вуз.
…Он берет ее под руку, и они бродят по скверу (теперь это безопаснее: урлу разогнали маршировать, посадили или женили, и их жены быстро истребили в них весь бывший кураж). Оба, внешне, очень уверены в себе.
Она достает сигареты и закуривает. Он удивленно смотрит на нее:
– Ты куришь?
– Ты не знал?
Курить она стала из чистого нонконформизма. В семье никто, кроме деда, не курил, а ему разрешалось за заслуги и тяжелое прошлое. Она с наслаждением предвидела реакцию матери и спокойно парировала: "Это мое здоровье и моя жизнь". По-существу, это была ее первая победа.
Он тоже хотел бы закурить, но не курит. Он слишком правильный мальчик и бережет здоровье. В последних классах школы он, как все технические мальчики, увлекся Индией и йогой, рвался в Шамбалу и на Ганг, отчего и получил прозвище.
Он спрашивает про ее учебу. Она скучно отвечает.
– Это значит, стихи изучаешь? – интересуется он чуть-чуть пренебрежительно.
– Нет... Ну, какие стихи, честное слово! Хотя и стихи тоже. Даже на мертвых языках: Odi et amo. Quare id faciam…
– Что это значит?
– Ну, это из Катулла… Ненавижу и люблю… Расскажи – что ты делаешь?
Он милостиво рассказывает байки о своем МАИ. Она все это знает: первый семестр там было скучно, хоть вешайся, но теперь стало весело, и чем дальше, тем больше. Теперь он цветет, словно попал на курорт. Он говорит о новых книгах, но она сомневается: к чему – он же находит столько радости гораздо ближе: читает учебники и серьезные математические сочинения, и почти доказал с приятелем теорему Ферма... Еще он слушает музыку и беспрерывно пьет пиво с другим приятелем (по имени Эдик), с которым познакомился на вступительных. Тот провалился в Гнесинку и с большого ума поступил в МАИ. И были эти загадочные они, о которых Ганка имел осторожность умалчивать, ловцы несознательных, но одаренных душ.
Они идут молча. Он пробует вновь завести разговор.
– Знаешь, у меня есть друзья, которые тоже страшно умные, тебе бы понравились. И шизеют от книжек и музыки продвинутой. – Новые его друзья, о которых он беспрерывно говорил. Интеллектуальные разговоры, восточная мистика, рок, пиво – вот, как он жил теперь в кругу новых этих друзей. – Эдик, знаешь, как играет на гитаре? Пейджа в ноль снимает! Он в музыке сечет, как Моцарт!
– Что же он в МАИ пошел?
– А куда? Он – самоучка. Да и на хрен ему эта консерватория? Что он там будет делать? Рок играть?
– Бедный.
– Он Стравинского мне дал. Слышала про такого?
Она скромно роняет:
– У моей мамы все его балеты. Я про него с пеленок знаю.
– Ну да... – признает он, как само собой разумеющееся. – Я тоже про него слышал… сто раз. Только музыки не слышал.
– И что, понравился?
– Ничего. Есть крутые места.
Зато она не знает, кто такой Пейдж. И ничего не смыслит в теореме Ферма, как и вообще в математике. Это его утешает.
Он снова задумался, наверное, искал тему для разговора. Она стала рассказывать о романе Воннегута, который недавно прочла. Он был гораздо интереснее той скучной мировой лабуды, что ее заставляли читать по программе.
– Похож на Сэлинджера, но другое…
Ганка романов почти не читал, но Сэлинджера, конечно, прочел, более того – сам, а не по ее настоянию: она как могла "развивала" его: у него дома книг вообще не было.
– Я от Сэлинджера балдел в четырнадцать, – признается Ганка.
– В четырнадцать? – изумилась она. – А теперь?
Ганка пожал плечами.
– Почему?
Ей было противно и интересно: что он скажет? Что может сказать такой московский умник против Сэлинджера?
– Он такой – с понтами своими, конечно, классный.
– Колфилд?
– Да. А Эдик, знаешь, что говорит: чего такого в нем хорошего? Выпендривается и все. Бегает нахал по городу и всем от него плохо.
– Ну и..! – она оборвала себя. – Много он понял!
Сразу видно Эдика: совершенно неотесанный тип! Ганка говорил, он фантастику любит. Туда ему и дорога!
– Да, ладно! – он насмешливо посмотрел на нее. – Вот бы он тебе попался б, а? – спросил издевательски. Попал в больное место.
– Я бы не отказалась.
– А попался бы, так на фиг послала б...
– Не послала бы, не волнуйся.
– Нет, он ничего, хорошо его показал (Сэлинджер). Похоже. Он на всех похож, – опять начал Ганка.
– Ну, ты-то нормальный! – сказала она с ядом в голосе. – И ни черта на тебя Колфилд не похож, не волнуйся.
– Это что, тест такой?
– Вроде того.
– Нет, правда, я не понимаю! Он все нарывается, а потом ссыт. Говорит, что ему наплевать на всех, а из-за каждого гада ссыт.
– Ну, да, а ты такой супермен со своим Эдиком…
В чем-то он, может быть, был прав. Поверхностно прав, не понимая сути. А она понимала, но не могла сказать, объяснить ему. Ах, если можно было бы объяснить, всем и все!
– Он хочет свободы, а другие ее даже не хотят!
– Почему не хотят?
– Не знаю, почему!
– Он там бабу все время хочет, – иезуитничает Ганка с гнусненькой усмешкой.
– Ну и что?
– Ты же этого не любишь…
– Ты только это запомнил? (Это она нарочно, память у Ганки была хорошая, математическая.)
– Не только.
– Если ты только про это, тогда молчи.
– Его все бьют, а он прощение просит...
Как она ненавидела сейчас Ганку! – именно потому, что он был в чем-то необъяснимо прав, как не имел права быть прав!
– Ты много давал по морде?
– Нет.
– То-то! А, думаешь, поводов было меньше? А он не трус. Он же сам об этом говорит (она могла назвать страницу и процитировать место – она читала раз сто). Трус никогда бы не сознался. Он конфликтует с ними всеми, один: это трусливо?
– Даже у сестры деньги берет, чтобы какую-нибудь телку завалить. Я роман наизусть знаю.
– Заткнись! – Она чуть не ударила его от гнева. – Лучше бы ты его не знал. Ничего не понял!
– А ты что поняла? – он был совершенно спокоен, как тюлень, сангвиник проклятый! – готовый терпеть любые ее выходки, словно ничего не слышал. Мимоходом она это оценила, но не простила. Идеалов у нее было мало, но те, что были, которые она создала сама для себя – она никому не позволит разрушать!
– Есть другие книжки, круче, – начал опять Ганка.
– Есть много книжек. А такой нету.
– Ты Бхагавадгиту читала? А Блаватскую? Вот, а ты все со своим Колфилдом!..
– Колфилд, говорят, был предшественник хиппи! – выпалила она.
– Хиппи – это такие чокнутые из Америки?
Она презрительно фыркнула. Ганка будто читал ее мысли.
– Да знаю я! Хиппи, кажется, увлекались йогой… Я тебе принесу одну книжку, у тебя все сознание изменится!..
Она усмехнулась про себя: так когда-то она пыталась руководить его образованием. Он молчит, словно учитель, обдумывающий вставшую перед ним проблему. Словно что-то знает о жизни больше нее.
– Ты – странная… Но хорошая… Мне всегда казалось, будто ты сама из Америки, правда! Как первый раз тебя в школе увидел…
Она опять фыркнула, на этот раз польщенная.
– Когда-нибудь я уеду в Калифорнию, – сказала она, как решенную вещь.
– Правда?! – Изумление было написано у него на лбу. – Я поеду с тобой! – решил он, наконец, и засмеялся. – Вот как это делается в Калифорнии! – Он обхватил ее своими ручищами и поцеловал так, что чуть не выбил зубы. Первый раз, наконец-то! Даже переборщил... Воспользовался чьим-то советом…
– Не надо! – она вырвалась и быстро пошла к дому. Ей вдруг стало тоскливо. Она ведь действительно думала, что он похож на Колфилда больше всех. Со всем своим занудством.
Вечером она подумала, что, может быть, не права к нему. Слишком легко человек начинает хамить тем, кто его любит. Испытывать их и забавляться. Использовать человека – а она его использовала – в школе, когда он решал за нее все задания по математике и физике. Впрочем, она помогала ему в английском и литературе. Который не мил или почти мил, и не чувствует разницу. Которому ничего не светит. Но который об этом не знает. Поэтому ему можно позвонить в час ночи и попросить прийти и починить магнитофон. Она не любила в себе эту черту. Откуда это кокетство или эта жестокость? От тщеславия?
Она его не любила, это правда (не отрицая его ум, что в данном случае было для него только хуже: не близкий ум хуже глупости – дурака она хотя бы пожалела), и злилась на то, что он не может (при уме) это понять. Что ведет с ней себя, как в школе – глупо и панибратски, демонстративно не ценя то, что любит и знает она, вдруг начиная учить ее жить, как старший и рассудительный. Что он вообще есть, когда других уже нет. Или еще нет: ей казалось, что где-то есть интересные места, где существуют интересные люди, среди которых она хотела бы быть – и куда она не знает дороги.
А он есть и хочет видеть ее другой. С какой можно как с другими. Ведь не только он терпел ее выходки, но и она его. А почему? Разве у них что-то решено? Вот уж никогда! Она просто была к нему привязана. К его звонкам по вечерам, к его слабости, которую он камуфлировал под силу.
Теперь по жизни ею двигало желание разойтись со школой, вычеркнуть из жизни все, с нею связанное. Это была великая мура, и, отмотав срок, она решила придумать для своей жизни что-то получше.
Она не встречалась ни с кем из бывших одноклассников, поступив на свой драгоценный филфак, игнорировала приглашения на их вечеринки, догадываясь, как там будет скучно и тупо. Лишь вела литературные или романтические беседы по телефону с двумя-тремя подругами, в которых те жаловались на неудачную любовь. Это тоже было скучно. И утром опять на учебу.
Поэтому она приняла приглашение Ганки на вечеринку к его сильно рекламируемым друзьям, снимающим в один Пейджа и читающим Бхагавадгиту. Она живет неправильно, как сказал ей Ганка. Теперь действительно не девятнадцатый век. Теперь двадцатый – или никогда!
– Кто такие? – спрашивает она.
– Кто знает, – говорит молодой парень по прозвищу Чуп, Ганкин приятель и хозяин квартиры – и смеется, воображая, наверное, что дом его – достопримечательность, мимо которой не могут проплыть лодки. Под сильной мухой, ему все равно, как философу, ничто его не раздражает.
Здесь не было ни Пейджа, ни превозносимого и загадочного Фриппа, а был банальный “Спейс”, под который до одурения танцевали в малогабаритной новостроечной квартире. Танцевали, без повода угорали и пили портвейн.
– Пусти меня, – попросила Матильда, когда Ганка бесцеремонно поволок ее танцевать. При этом часть ее, наоборот, хотела, чтобы не пускал, а держал. Она ненавидела это женское кокетство, которым, однако, пользовалась. Вообще, недолюбливала женщин.
Мужчины, то бишь эти мальчики, тоже не внушали особого почтения: они захватывали собой много воздуха, наполняли своим запахом пространство, принадлежащее им по непонятному праву, метили территорию. И все несмешно, неумело шутили. Ей вдруг пришло в голову, что все собравшиеся здесь девушки – их законная добыча, и стала оглядываться в поисках выхода из ловушки. Ей даже захотелось спросить других девушек: испытывают они это чувство, или они за этим сюда и пришли? Но тут же напряглась и взяла себя в руки. Она же все равно лучше всех.
Она не вникала в смысл рассказываемых сплетен, ее не очень смешили плоские анекдоты, не хотела знать, кто с кем флиртует, не хотела, чтобы приставали к ней (и ее испугано обходили), не очень хотела танцевать под бесконечный однообразный “Спейс”, тем более пить мерзкий портвейн и курить сигарету за сигаретой, ища глазами поминутно исчезающего Ганку. Ей тут совсем нечего было делать.
Нет-нет, ей тут не нравилось. Но она терпела. Как терпела в Универе скучных барышень и мальчиков, их истории, переживания и робкие ухаживания. Надо было смиряться и идти в народ. Одно дело воображение, другое жизнь, и надо было как-то выкручиваться. Она терпела ради Ганки, который с кем-то заболтался и забыл про нее.
Но автоматически она все равно их оценивала: вздорные глуповатые девицы, хоть некоторые и красивые, малоинтересные прыщавые юноши, плохо подходящие друг другу, как сплошь и рядом бывает на первых курсах в еще не притершейся компании, настырно и глупо пытающиеся быть взрослыми, и потому орущие, мечущиеся в пьяном угаре, налетающие на людей и предметы и с железной периодичностью куда-то исчезающие. Им, казалось, было весело. Для нее это было на чужом пиру веселье (и похмелье).
И Ганкин друг этот, сильно продвинутый Эдик, музыкальный эрудит и интеллектуал, был странноват. Некрасивый, немного нелепый тип, весьма, однако, самоуверенный, разбирающийся во всем, что касалось музыки, эзотерики и вообще чего угодно, охотно и веско рассуждающий обо всем на свете. Так не бывает, чтобы человек, к тому же молодой, знал все. Только конформист знает все, потому что повторяет за всеми (вроде ее родственников). Впрочем, источники его «эрудиции» были совершенно бредовые на ее взгляд: малонаучные книжки неизвестных выскочек, с энтузиазмом ниспровергающих то, что им не хватило времени и мозгов изучить. Он почти демонстративно не интересовался девушкой, что сидела рядом с ним, то есть Ритой, зато никуда не исчезал, что могло бы сойти за плюс, не пил портвейн, зато охотно поддерживал, даже создавал маловразумительный треп, притом говорил иногда нудно, не снисходя до желания слушателя разделять его интересы (поэтому так и сыпал именами: Ян Аккерман, Хендрикс, Клэптон, сравнивая с ними недостойный "Спейс")... И не имея чувства юмора, не мог это понять. Он был самодоволен и совершенно глух к настроениям других – не желавшим, чтобы им лишний раз показывали, как ему противно, и что он попал сюда по ошибке… Он казался провинциалом, ушибленным своим провинциализмом, сражающимся с ним без всякого успеха. По выговору он и правда был откуда-то из провинции.
А потом надо было увлекать собой уже полупьяного Ганку, который не хотел расставаться с очкастым приятелем, дебатируя с ним проблемы высшей йоги и даже норовя уйти с ним на кухню, пользуясь тем, что “Спейс” Матильде не нравился... Остальные продолжали тяжело играть в здоровых веселящихся увальней, с максимально возможной частотой прикладываясь к портвейну, а потом вновь выкидывать ноги и руки приблизительно в такт музыки. И она тоже выкидывала и танцевала, только чтобы ощутить абстрактное мужское внимание и лишить кого-то повода манкировать ее обществом. Может, она не любит “Спейс”, но она любит танцевать! А Ганка тем временем, как лунатик, шел к столу и дрожащей рукой наливал себе портвейн. Он даже взял сигарету и попробовал закурить, но только закашлялся и куда-то скрылся. Потом кто-то выключил маг и взял гитару (шепотом пронеслось заветное слово “КСП”), потом Ганка с Эдиком спорили до хрипоты о чем-то умном, вроде: должен ли адепт йоги слушать рок вообще, или можно сделать исключение для Макклафлина? – не слыша себя и того, что это он такое странное несет, забыв опять про свою возлюбленную. В это время Чуп по-детски толкался с другим придурком в коридоре, играя чьей-то перчаткой, еще кто-то прыгал от избытка энергии по стульям, другой кидался снежками с балкона, бегал за портвейном... и каким-то образом ввязался в конфликт с местными.
Матильда с одной из красоток выскочили прямо в туфельках и коротких юбках на улицу в снег – разнимать разгорячившихся парубков. Ее это только позабавило, она сама с радостью подралась бы. Вышли и все мужчины, даже Эдик, хотя с таким видом, что больше посмотреть, чем участвовать. Только Ганка не вышел.
– А почему ты остался? – спросила она его, вернувшись.
– А мне какое дело? Козлы затеяли драку, а я тут при чем? А вы все побежали! – ответил он, неожиданно протрезвевший, очень злой и бледный.
– Так это же твои друзья!
– Какие на хрен друзья!..
С нее хватило. Пока он был в сортире, она оделась и поехала домой.
Утром ей позвонил злой Ганка. У него было похмелье и стыд, и он не нашел ничего лучше, чем начать хриплым голосом выговаривать ей за ее вчерашний побег: все было здорово и как нельзя лучше, а она – злая и невоспитанная, и вообще – она приехала с ним и не должна была уезжать, это подло, его на смех подняли... И что он должен был бы говорить ее маме?
– Знаешь, мне без тебя было совсем не страшно. Даже наоборот.
– Ты не понимаешь! – сказал он тоскливо. – Я не могу все сказать. Пришла бы милиция, меня бы забрали. А мне нельзя. Мне бы это не простили.
– Ну и целуйся с ними!
Матильда повесила трубку. Человек, которому она почти готова была отдать себя.
С ними. Она знала из его полунамеков, что его приглашают в одну школу, как очень одаренного, потом он сделает сумасшедшую карьеру, даже получит звание, вовсе ему не нужное. Эта школа вызывала у нее страх и даже брезгливость. Она хотела бы разубедить Ганку, но не находила слов. Даже думала сказать: или школа или я! Но кто она ему? А если бы он подчинился – это была бы для нее ловушка. Чем-то Ганка был все-таки ей дорог. Но не настолько же!
Она даже обрадовалась: с Ганкой было покончено. Матери она сказала, что для Ганки ее навсегда нет на свете.
– Это жестоко, – сказала мама, женщина обычно лишенная абстрактного сострадания.
– Пусть. К тому же он не умрет.
– Но что случилось?
– Конец детства, – сказала Матильда, повернулась и ушла.
В конце детства, впрочем, было еще много ерунды.
Широкая бетонная дорога ветвилась, распадалась и вот подползла ручейком и выдохлась. А на ее краю сидела собака и выла. Чуть ближе по течению темнела масса асфальтоукладчика. От них на огни города брел приобщившийся вечности пролетарий. Он насвистывал и махал руками, настаивая и одобряя.
А если у человека антропофобия? Вряд ли у собаки может быть кинофобия. Как же так случилось с ней?
Она задумалась: что есть ее жизнь? Блуждание по предметному миру, рассчитанному на каждого, но не на нее лично. Только собой заинтересованные люди, абонированные под собственные эгоизмы, обеспечившие ей ад лишь тем, что не смогли включить ее в сферу своих будничных интересов.
Ее жизнь был жалка и неинтересна. Впрочем, была в ней одна отдушина.
Этой отдушиной был Щелкунчик, как его звали все, режиссер, как он представлял себя сам, лет на тринадцать старше Матильды, с которым она познакомилась еще в то время, когда вообще мало чего понимала, который поэтому существовал как бы всегда. Он был вхож в их дом – как чей-то там сын – важных научных работников, друзей-коллег (с непростой биографией). Со всеми в доме вежливый и хитрый, с Матильдой, особенно с некоторых пор, он не церемонился, – и ей это нравилось. Он был с ней откровеннее, чем с другими, и от нее хотел того же. Себя он считал жертвой борьбы с бюрократией в киноискусстве. В семье его в скобках звали “балбес”: за то, что неудачно делал карьеру (имея все нужные знакомства, образование и талант), излишне много пил, был без царя в голове, позволял по пьяной лавочке бестактности и нарушал субординацию возрастов, дружа и с дедом и с Матильдой почти на равных. Впрочем, его здесь любили. Он был шут, и ему единственному позволяли отклоняться от ритуала. И вносить свежее дыхание в нудное академическое святилище.
Он казался ей самым умным и живым из родственников и их друзей.
– Вы (имея в виду матильдину семью) все здесь умники, педанты и снобы. Но ты получше их. Что ты думаешь о будущем? Не хочешь в кино? В кино не иди – это болото... Знаешь, ты хар;ктерна. Ты не красавица, не воображай, но у тебя оригинальная внешность. Иногда у тебя в глазах появляется такое странное выражение... Я тебя обязательно сниму...
Матильда покраснела от стыда и радости. От стыда – что ее так откровенно обсуждают, от радости... ну, кто был бы не рад при благоприятном результате обсуждения? Целый месяц она видела себя во сне артисткой, какой-нибудь Соловей. Даже Ганке протрепалась.
– Ну, что, – сказал он, от волнения даже заикаясь, – из тебя выйдет. – И дальше ничего сказать не мог.
Матильда думала чуть-чуть кольнуть его, а, кажется, раздавила. Но в школе за ней закрепилось лестное мнение, как о кинозвезде.
Через год Щелкунчик повторил текст с важным добавлением: “когда дадут работать!” Надежды Матильды потускнели. Да и будет он с ней возиться, когда у него таких пруд пруди! Кто она для него – сморчок, куколка, он и сам ей не раз говорил.
Был он и самым полезным членом семьи: проводил на закрытые просмотры на Мосфильме. Именно он породил в Матильде мысль, что отсюда можно и стоит валить, так как был убежденный диссидент и антисоветчик. Разговоры с ним были для нее нужны и страшно интересны – чтобы составить мнение, утвердиться в мысли, выправить какой-нибудь романтизм и школьное незнание (школа и была придумана, чтобы не знать, укрепляться в глупости). Нельзя было обо всем спросить родителей, и не на все они ответили бы правильно, а отделались бы какой-нибудь словесной мурой, если не прямой ложью. А Щелкунчик ничего не боялся, особенно один на один с нею. Невозможно было представить, что кто-то мог его переспорить или доказать обратное. Но он, конечно, выбирал, кому что говорить, чтобы не метать бисер перед свиньями. Матильде это льстило. Чтобы она не зазнавалась, воображая себя равной и шибко умной, он горчил пилюлю:
– Ты дура! – начинал он обычно разговор. – Вот ты говоришь – здесь нет кино (она просто повторила его слова годичной давности). А что ты видела? Ты наше-то кино видела? Да я не про то кино!
– Сталинское?
– Да какое сталинское?! Ни черта ты не видела!.. «Июльский дождь», «Фактор риска»? А ты поняла что-нибудь? Ни черта не поняла... Это гениальное кино. Ты думала, почему оно черно-белое? Пленки не было? Дура! Они очистили его от всего лишнего. Вим Вендерс о таком мечтал. Строгие и чистые контрасты. Никаких полутонов, никаких споров. Никакой, бл-ть, политики! А от этого – суперполитичны, поняла? А почему? Потому что доказывают… что?.. Что социализм, все эти идеологические различия – все это мура, сечешь? Думаешь, веселое было время? Дура ты, эх-хе! Я помню, а ты нет. Декорации есть, приметы времени, ха-ха, но жизнь как бы параллельно! Решаются более важные вещи! Конфликт очищен от всякой фигни, как в античной трагедии, сечешь? Небось, не читала? – серость, с кем я говорю!.. Ты куда хочешь поступать? Ну, давай-давай, там такую дуру ждут с распростертыми... Про итальянский неореализм слышала?.. – продолжал Щелкунчик, слегка путаясь в мыслях. – Жизнь – серая и паршивая штука, вот что... Ты вообще можешь это понимать? Или я сам с собой?.. Они погружались глубоко, в материал – Тарковскому не снилось! Поняла? А ты – Тарковский, Тарковский! Дурак твой Тарковский! Вот как надо снимать кино!
Сам, впрочем, не снимал никак. Зато писал статьи для журнала “Кино”, чем и был “знаменит” с долей презрения в матильдиной семье. Все, что он писал, было хорошо в частностях и бледно и случайно в общем, полно умолчаний и голых деклараций обязательного образца, почти комичных своей неубедительностью. Но так тогда писали все. На бумаге он вдруг делался серьезным и говорил, как строгий советский ментор, наделенный знанием истины – и поэтому поучающий весь свет. Куда-то пропадало умение подчеркнуть главное, которое он словно не хотел подчеркивать, отделываясь туманным намеком. Поэтому и бил всегда не в точку, а куда-то рядом, словно забыл дома очки. Даже она могла заметить эти промахи, и он напрягался, слушая это, грубил или деланно смеялся – когда его критиковали другие, как бы подмигивая: забыли, где мы живем? Был он страшно самолюбив и имел дикие комплексы, тщательно скрываемые за веселостью и цинизмом.
Но в компании он был незаменим. Каждую встречу он преподносил ей что-нибудь новое. Она была его публикой. А поссорившись с кем-нибудь накануне и напившись, ему надо было восстановить мнение о себе, уверить самого себя в таком превосходстве, по сравнению с которым алкоголь – не имеет значения (как и идеологические различия). И профнеприкаянность также.
– Почему бы тебе не заняться кино? – спросил ее Щелкунчик на очередном скучном дне рождения ее деда (совершенно противореча своим прежним тезисам). – Слушай, иди на Высшие сценарные курсы. Оригинальнейшая вещь эти курсы. Синекура и отличная компания. Хочешь, устрою? У тебя есть идеи? Сейчас не хватает идей. Шестидесятники выкачали все. И выдохлись, их кино кончилось. Сейчас делают лишь безделки. Чего тебе сдалась твоя филология, ты доктором наук, что ль, хочешь стать?
– А зачем ей твое кино? – вмешалась мама, суровой тенью пересекая кухню.
– Как, ты забыла? Важнейшее из искусств!
– Не дури голову!
– Вот вы где! – воскликнул Анатолий, отчим Риты, красивый невысокий мужчина, когда-то блиставший в студенческом театре. Он уже снял пиджак и пошел отдохнуть на неформальную кухню. – О чем это вы?
– О кино, – усмехнулся Щелкунчик.
– Кино! Все хотят сниматься и снимать, петь и танцевать – а кто социализм будет строить, хе-хе?
– Мы на вас надеемся, – съязвил Щелкунчик, пристраиваясь спиной к подоконнику.
– Нас на всех не хватит.
– Вы себя недооцениваете!
– Хе-хе! Видишь, дорогая (это он маме): вся надежда на нас!
– А я и не хочу его строить! – выпалила Рита. – Большевики и без меня обойдутся!
– Конечно, обойдутся! – воскликнула мама в ответ, нервно распахивая кухонные шкафы. – Можно подумать, ты можешь что-то дать, да отказываешься!
– А, может, могу, только кому?
– Конечно, человечество мечтает от тебя что-то получить, сейчас на колени встанет!
– Ну-ну, дорогая, зачем ты так! – вступился отчим. – Девочка ищет свой путь. Кто не был революционером в молодости – у того нет сердца, хе-хе!
К Рите он всегда относился удивительно хорошо – и неизменно вставал на ее защиту. Ей очень повезло с отчимом. Вообще ей повезло со всеми, кроме мамы.
– Она страданий не видела, чтобы быть революционером! – отрезала мама.
– Я с тобой почти двадцать лет живу!
– Хамка! – хлестнула мама, словно дала пощечину.
– Ну-ну, дамы, перестаньте! – воскликнул отчим, хватаясь за голову. – Мы же интеллигентные люди! (Повисла пауза.) Мы всё изучаем-изучаем, а она, раз-два, и сделает что-то гениальное! А? Хе-хе!
– Гениально на раз-два не делается! – строго сказала мама, заваривая чай. – Это не котята. Для этого надо много знать, историю, философию, а она ничего не знает!
– Философия, хе-хе, Плеханов, да? Хе-хе!
– Бердяев! – поддакнул Щелкунчик.
– Страшно вымолвить! – засмеялся отчим.
– Да, а почему нет, что тут смешного?! – обернулась от плиты мама с поджатыми губами. Чувство юмора она презирала принципиально.
– Тогда было легче, – сказал Щелкунчик.
– Почему? Не пойму!
– Как же: еще не была установлена окончательная истина.
– Хе-хе! Это он намекает, дорогая!
– Вижу, что намекает, и весьма глупо!
– Истина она, конечно, истина, но почему мне чаю не пить, хе-хе?
– Будет чай, видишь, я завариваю!
– Вижу, дорогая…
Отчим, довольный, заулыбался. Он иногда любил так порассуждать, с легким оттенком фронды. Мол, не считайте нас за ретроградов. Но всегда в правильной дозировке, в форме шуточки – не придерешься. Словно все еще опасался доноса.
– Неправда, у них было христианство! – выпалила Рита.
– Правильно, было, хе-хе!
– Христианство – не окончательная истина! – воскликнула мама.
– А ваш социализм – окончательная! – съязвила дочь.
– Я не собираюсь спорить с тобой о социализме!
– И я не собираюсь!
– Не надо ссориться, друзья! Социализм – хорошая вещь, когда он в хороших руках, хе-хе!
– Где бы только их взять, – бросил Щелкунчик от окна.
– Надо воспитывать, в том числе искусством! – отчеканила мама. Ее формулировки всегда были ясны и жизнеутверждающи.
– Ага! – ядовито усмехнулась Рита из глубин нонконформизма.
– Ну и ладно, мы свое уже сделали: доказали, что классику сбрасывать с корабля не надо, хе-хе!
– Вы погрязли в своей классике, а люди хотят читать про себя, – тряханул давно не стриженной челкой Щелкунчик. Еще он был побрит, мягко сказать, плохо и давно. Да и одет непразднично. Но на это никто не обращал внимания.
– Так пишите, кто вам не дает?
– Смеетесь? Воплощать главную линию?
– Все у вас оправдания, хе-хе… А, может, вам просто писать не о чем? Вот раньше были идеалы, хе-хе, народности, скажем, или революции… Такие, значит, настоящие герои, так сказать, подходящие времени... Правильно? Потом война. Какое поле для искусства, а?! Потом, ну, а что потом?.. Только анекдот! Эти – «Москва, э-э, – Петушки!» Не читали? Хе-хе-хе! Смешная штука…
– Да-да, и отлично, кстати, осмысляет время! – поддержал его Щелкунчик. – Философски. Великая же вещь, а?!
– Не говори глупости! И ты, Толя, меня удивляешь! – воскликнула мама. – Хотите деградировать вместе с массами!
– Ты же не читала! – воскликнул Щелкунчик.
– И читать не буду!
– Почему, дорогая?
– А то я другой ерунды не читала, на всю ерунду времени не хватит!
– Ерунда! Ему когда-нибудь памятник поставят, Ерофееву… – легкомысленно фантазировал Щелкунчик.
– Не смеши меня! Еще и тебе рядом!
– А почему нет?! Я обойдусь!
– Потому что это не искусство!
– Ты уверена? – спросил отчим.
– Конечно, я тебя не понимаю!
– Ну, прости, если я не оправдал…
– Порой – да, не оправдываешь!
– У, вы прямо педанты несчастные! – огрызнулся Щелкунчик, ничуть не стесняясь. – Что такое вообще искусство? А? Кто мне ответит?
– Научно? Знаю. Сейчас... Мимесис, подражание действительности? – лепечет Матильда, как медиум, услышавший далекий голос.
– Шаманство дикой лисицы, ха-ха-ха!.. – посмеивается Анатолий загадочно.
– Что это? – спросила мама, нахмурившись.
– Так враги называли творчество Ци Бай-ши… Для меня это лучшее определение искусства, ха-ха-ха, – бормочет Анатолий виновато.
– С тебя станет! – режет мама безжалостно. – Если вам угодно знать: искусство – одна из форм общественного сознания, специфическая форма постижения и воспроизведения действительности, – отчеканила она и удалилась, не оглядываясь, с высоко поднятой головой и большим чайником в руках.
– Съел? – спросил отчим и засмеялся. – Специфическая! То-то!
– Умно, но справедливо, – подытожил Щелкунчик и надул щеки. – Рим сказал, вопрос решен.
Отчим был доволен. Он был чисто академический человек и из-за отсутствия в нем хоть чего-нибудь мужского (брутального) – очень образован, – и любил иногда вот так поболтать-пошутить, совершенно по-свойски, теряя академические котурны – ради демократизма, как он считал. В отличие от ритиной мамы, которая всегда держала марку, даже на кухне.
Кухня освободилась, и Щелкунчик с Матильдой закурили:
– Твоя мама забыла, что она не на семинаре... – начал Щелкунчик и усмехнулся. – Не пойму: какая разница: действительность, недействительность... – не эмоция ли зрителя самое важное? Никого не интересует, как сделано. Все, в конце концов, делается из говна, а не из Святого Духа, ага?
Рита пожала плечами: она была более возвышенного представления об искусстве. Щелкунчик ушел и вернулся с бокалом портвейна.
– Там уже пьют чай и нас зовут… Погоди! Сейчас скажу важное! Мы – мастера создания эмоций. Художники, я имею в виду… А все остальное – фигня. И что нам для этого нужно? Всего две струны… запомни… Да! Ты не знала? Вопрос – как ими пользоваться? Тут-то и талант! Добился успеха – молодец. Не добился – иди на х-й со всеми своими народностями! (В этих стенах, как требовала благопристойность, никто никогда не матерился, а Щелкунчик делал это легко и смачно, что было странно и ново.)
– Какая досада: опять уезжают друзья! – прощался Анатолий в коридоре с гостями. И смеялся.
– Самый великий художник – всегда неизвестен, – изрек Щелкунчик Рите вместо «до свидания», мучительно надевая пальто и то и дело падая на шкаф. – Современники не созрели его разглядеть. Большое видится с расстояния! Да! – Он потряс свободной рукой над головой Риты.
– Иди-иди, метро-то сможешь найти? – напутствовала его ритина мама.
– Обижаете, мадам…
Он ей нравился. Сколько у него было слов! Как он переходил с обычного языка на литературный и обратно, как он был свободен, убедителен, находчив, жив и понятен, в отличие от педантов-родителей и их гостей, зануд и зазнаек.
Она могла бы даже в него влюбиться, но все же он был уже потаскан и староват. И даже полубеззуб. И для него она была девчонка, которую он знал с совсем смешного возраста, чтобы относиться серьезно.
Однажды он провел ее по дворам своего детства в районе Большой Лубянки (вот ведь повезло!). И тогда она кое-что поняла из феномена, именуемого “шестидесятничеством”. Старая, еще без новостроек послевоенная Москва. Тесная, коммунальная жизнь. На каждой улице, в каждом дворе – толпа молодежи. Каждый знает каждого, ходят друг к другу в гости пешком. Тут же рядом мастерские художников, повсюду дешевая водка и вино. У парня из интеллигентной семьи с чуть-чуть нестандартным душевным устройством было сколько угодно возможностей зацепить влияний, найти соратников, таких же “хулиганов”, с которыми можно шастать по крышам, гонять голубей, пить вино, драться, слегка воровать, уходить от погони через отлично известные проходные дворы и черные лестницы и исчезать от родителей и прицельного школьного ока в ближайшей подворотне, на чердаке с голубями, у приятеля с соседней улицы, сына какого-нибудь репрессированного из тесной коммуналки, у какого-нибудь стареющего члена какого-нибудь творческого союза, откровенного, богатого и любвеобильного. Тут была и недетская грусть полупережитых расстрельных лет и войны и бесшабашная веселость и вседозволенность уцелевших – среди неприступных стен безжалостной тоталитарной столицы.
А главное – теснота, близость связей, отсутствие социальных условностей, общая нищета, неустроенность жизни, открытость, невежество и веселость тех, кто родился на пепелище и без корней, а заодно и без страхов отцов. И был полон надежд.
А она думала, что было бы, если бы записывать за ним?.. Суть куда-то девалась. Или казалась мелкой. Слова самые простые, мысли – самые прямые. Но в авторском исполнении история всегда была великолепна. В десять раз лучше от того, что была к месту. Он был отличным собеседником, самым ярким в любой компании. Но, видимо, тех достоинств, которые делали его прекрасным собеседником, было мало, чтобы быть и хорошим режиссером. Здесь было нужно что-то другое.
И все же с момента окончания ею школы он не выпускал ее из поля зрения. Мама недовольно качала головой и отмахивалась: он был несколько раз женат, всегда неудачно, и никогда не снимал фильмов, а лишь нерегулярно ассистировал на съемочной площадке. И все стремительнее превращался в алкоголика.
Время шло, делать ей было нечего, и Матильда решила влюбиться, теперь уже по-настоящему. Выбор пал на первого встречного, как в сказке про принцессу, на Млада, еще одного школьного приятеля и соседа, которого раньше она никогда не замечала. Он поступил в “престижный” архитектурный вуз, обзавелся кучей интересных друзей – и вдруг сам стал как будто весьма интересным. Что она в нем нашла – она потом никак не могла понять. Просто пора пришла – расстаться с девственностью.
Секс совершенно не интересовал ее. Для нее это была темная область, как и полагалось для девочки из хорошей семьи. Как начинающий филолог, она понимала, что метафора развилась из табу. Табуированность темы в этой стране обернулась разнузданным матом. Но и то, что считалось общеупотребимым, это слово, для обозначения этого места, ее места! С намеком на то, что оно влажно, и на то, что туда кто-то должен что-то влагать! Мерзость!
Свой "главный" половой орган она считала нелепостью и физическим уродством. Еще и ненадежным, засадным по характеру. Только извращенец или маньяк, казалось ей, может испытывать к нему какой-нибудь интерес. (А о том, что такой интерес существует, она, конечно, слышала.) Да и сам процесс виделся ей странным, невозможным, чьей-то дурацкой выдумкой.
Но с чего еще было ей начать свой девчоночий бунт – конечно с этого! Она собиралась многое узнать о жизни и подтвердить или опровергнуть мифы, слухи и подозрения.
Эти забавные вещи происходили у него дома, из которого на время вечеринки испарились родители. Она позвонила домой и предупредила, что вечеринка затягивается и она останется до утра. Он вышел провожать гостей, а потом крепко схватил ее под руку и поволок назад. Она боялась всего и всего хотела. И не могла даже это вообразить, поэтому воображала все очень романтически, подыскивая симпатичный образец. Как будто разыгрывалось что-то классическое, с ними в главных ролях. И он худо-бедно играл роль Ромео, то есть прокрадывался с ней под руку мимо комнаты вернувшихся родителей. А потом они пробирались друг к другу через темноту и одежду, чтобы в конце концов очутиться на узкой детской кроватке, зажатой между лакированным шкафом и окном.
Можно сказать, она ничего не почувствовала, кроме ужаса. Зачем люди делают это? Вид органа шокировал ее: она была образцово невинна. И что – это неаппетитная дурнопахнущая штуковина должна поместиться в ней? Да она ее разорвет! Если бы не ее упрямство и принятое раз навсегда решение не останавливаться на полпути… Надо же узнать, как это происходит и зачем? Так, что ли, принято – врать, что это хорошо? Он тыкался в нее неуклюже и неумело, изображая, что наступил серьезнейший момент, а ей хотелось плакать и смеяться. Он весь взмок от желания быть на высоте, и ей было его жалко. Он и сам уже ничего не хотел, но не мог признаться в своем фиаско. Она не понимала его трудностей и ничем не могла помочь, да и не знала, как?
Вдруг под ней все стало мокро – и вот это действительно изумило ее. Она даже села и смотрела на это, как на что-то невиданное. А он прикрылся и жалким голосом просил: не надо, не смотри!.. Он сидел убитый, и Матильда утешала его.
Потом они до утра гуляли по просыпающемуся весеннему городу, говорили о ерунде, словно не хотели вспоминать того, что только что произошло, как о не имеющим значения пустяке.
Когда утром она пришла домой, мама посмотрела на нее изучающе и ничего не сказала. Она уже позвонила ее ближайшей подруге и узнала, что вечеринка отнюдь не затянулась. Но Матильде было наплевать.
Через неделю у Млада состоялась вторая попытка (родители на этот раз были на даче). Она напоминала первую, хотя началась менее издалека, поэтому к кульминации герой сохранил больше сил. "Ну, коли сломал лёд, действуй же дальше!" – мучалась она от боли. Цель была так высока, что надо было терпеть. Теперь уже он был немного изумлен результатом.
И зачем страдала? Дальше дело – в видевшемся ей направлении – не пошло. Они показали взаимную слабость и немощь и были недовольны друг другом. Он очевидно охладел к ней – видимо, вспоминая минуты своего фиаско и слишком физиологическое завершение процесса.
Она же легко это забыла, как вещь, скорее, забавную, чем серьезную.
Млад хотел быть гордым, независимым и помыкать ею. Как она страдала, глупая! Как она мучилась, пытаясь выяснить – любят ли ее еще или нет? Чем меньше он это показывал, тем больше у нее было желание это понять.
Сказать, что она была несчастна? И да и нет. Она убеждала себя, что нет. Воображая себе какого-то другого, благородного, чистого, умеющего любить один раз и готового на жертвы. Он не был мужчина. Честно сказать, он был принц.
Наступило лето, первое лето ее новой роли, сезон разлук, рассеянья по различным местам прогретого солнцем отечества, рекреационная лихорадка, когда никого невозможно найти, когда прекращаются до осени прежние связи и завязываются новые, а прежняя, возобновленная связь, приобретает возраст перед юной кокетливой летней эфемерностью – пляжа, утренних и вечерних возлияний и, в общем-то, неплохо проведенного времени.
Вдруг явился возлюбленный и с ленцой сообщил, что собирается поехать за город к одному из своих архитектурных знакомых. Просто повеселиться. Ему не хватило благородства предложить ей поехать с ним, чувствовалось, что он отлично обойдется. А ей ужасно захотелось поехать: лето, загород, новые люди! Скомкав гордость, она попросила взять ее с собой. Возлюбленный долго морщился, придумывая какие-то отговорки, – очевидно, чтобы его дольше уговаривали, и, наконец, согласился.
Действительность развертывалась за окном электрички, как роман и как побег. Зелено, нище, кособоко, чарующе. Это был новый для вчерашних детей способ передвижения, мистический, почти как ковер самолет, уносивший, соответственно, исключительно в тридевятое царство, вроде мифических Петушков…
III. ЭСТЕТ
Летом 80-го знаменитая “чистка” города и униформенные кордоны на всех улицах по случаю Олимпиады вызвали массовый отток из Москвы людей со странной внешностью и неопределенным родом занятий. Часть поехала на юг, часть на север, часть на восток, часть расселилась по ближним и дальним дачам. Ильямуромский шлем над крыльцом, мансарда под острой теремной крышей, плетеная мебель, двухместный стул, напомнивший ей Тяни-Толкая из сказки Чуковского, обшарпанное, промятое с гнутой спинкой массивное канапе, буфет, трюмо, непонятная, запутанная планировка, такая незаменимая для игр. Из города приезжали художники рисовать этот дом...
С этого лета халупа Чудака стала функционировать как санаторий, где несколько высокоинтеллектуальных длинноволосых страшилищ проводило лето на лоне природы, опекая и развлекая полуненормального хозяина, куря траву и собирая по соседям мак.
Стол был "накрыт" на веранде, выходящей в джунгли запущенного сада. Ясно было с первого взгляда, что не убирался он много дней и люди сидели за ним примерно столько же. Она порадовалась литературной аллюзии, но сами люди ее поразили. Таких она видела только в западном кино. Не художники, то есть и художники, но это не главное. Не диссиденты. Не попы, хоть и с волосами.
– Как тебе? – спросил Млад.
– Не знаю...
– Ты же любишь чокнутых. Тут есть настоящие чокнутые.
Она высокомерно дернула губкой.
– Сядь вот сюда и не куксись, – приказывает Млад.
Она села и стала слушать. Было много злых антисоветских анекдотов и сплетен про знакомых (ей не знакомых). Они проповедовали новый образ жизни. И активно склоняли всех к этой жизни, занимались прозелитизмом, вербовали сторонников.
Раньше она много раз чувствовала себя в кругу взрослых людей – не равной еще, а вроде шпиона. Так было у нее дома. И решила, что ей надо обязательно стать такой, как они. Взрослой и на равных. Но здесь не было никакой границы, она совсем не чувствовала себя ущербной. Скорее, напротив.
Один несколько пьяный молодой человек оказался совсем не так пьян, как хотел казаться. Он тоже не был окончательно взрослым, высокий, с узким и угловатым лицом, большим чуть горбатым пастернаковским носом, и при этом уверенный, говорящий хоть и немного, но умно, хорошо артикулируя голосом и чуть любуясь собой, – но это ему шло, как обаятельной женщине. Он говорил насмешливо и зло, не без рисовки и со снобизмом. В нем не было застенчивости, и даже бестактность его была мила, потому что смела и хорошо упакована. От него нельзя было устать, и он это знал. Звали его Эстет.
Тут был и некий Стрейнджер, светловолосый, некрасивый и веселый, с очень красивой темноволосой девушкой Олей, который говорил, что ему на роду было написано стать «волосатым», как на роду было написано стать хобо Большому Слиму Хазарду из “На дороге” Керуака. Еще человек похожего типа – Пит, изящный балагур.
По рассказам она поняла, что все они из “вуза”. Была еще пара ребят, более потасканных и менее утонченных: Ник и Толик. И сам Чудак, напоминавший старинного юродивого. Он то появлялся, то исчезал, и если и говорил что-то, то подчиняясь исключительно логике своей мысли. Она исподволь рассматривала их. Монах, мушкетер, бродяга. А музыка! – какую хорошую музыку они слушали!
– Что это? – спросила она.
– Doors, – не слышала что ли?
Она покачала головой.
– Девушка очень серая, из Вятки, вчера в Москву приехала, – объяснил Млад с убедительной интонацией. – Хочет в текстильный поступать.
Все смеются.
– Это не вы, случайно, хиппи? – спросила Матильда с деланной наивностью.
– А ты про них слышала?
– Конечно. “Была до пояса длинна Волос шафрановых волна...”, так, кажется, у Чосера.
Эстет (да и не он один) посмотрел на нее с интересом.
– И Керуака я читала, моя мама его переводила. Но там про хиппи, кажется, ничего нет…
– Не выпендривайся, Краснова! – бросил Млад. Он уже допил привезенный портвейн и вальяжно развалился на Тяни-Толкае. – Хочешь обратить на себя внимание?
– А ты чего с ней так? – начал Эстет.
– Моя девушка. Что хочу, то и делаю.
Она встала. Она вдруг поняла, что, несмотря на то, что между ними было, они остались совершенно чужими людьми. И пока отношения не проросли в глубь, их надо закончить. Но она не хотела скандалить с ним здесь – и оставаться здесь не могла.
– Я пойду погуляю.
– Куда?
– По поселку.
– Краснова, ты напилась? Может, лучше в постельку?
Она и правда многовато для себя выпила, но после нанесенной обиды сразу протрезвела. Стрейнджер стал что-то объяснять, но она никого не слушала. Если Млад догонит ее и извинится… Если же нет, она сядет на электричку и вернется в Москву.
Эстет окликнул ее в конце улицы.
– Я за пивом иду, пойдешь?
– Далеко?
– Нет, к станции.
И Матильда, вдруг дрогнув, сказала: «Пошли...»
– Почему тебя зовут Эстет? – спросила она по дороге. – Это кличка?
– Кличка. Потому, наверное, что я в школе любил Брюсова. Всякий блеск, безумства, громокипящие кубки.
– А мне в школе говорили, что я, вот такая – с надутыми щеками – глупая обезьянка, правда? Мне так в школе... ой! Я и правда пьяна, ужас.
– Они были не правы. Скорее верблюд.
– Скотина! – Она шутливо замахнулась на него. Он так же шутливо схватил ее за руку и слегка прижал к себе.
– Сколько тебе лет?
– Девятнадцать, почти двадцать.
– О-о!
– Что о-о! – смела не по годам? Или глупа? – Она вырвала руку, которую он с неохотой отпустил.
– Только не глупа. Ты очень занятная.
У палатки толпились мужички. Из рук в руки переходили кружки, банки и канистры.
– А что, святые тоже пиво пьют? – спросил какой-то кособо¬кенький задрипанный пьянчужка, ростом сморчок, освободивший рот от папиросы, чтобы глотнуть пивка.
– Они все пьют, – невозмутимо ответил Эстет и протянул в окошко банку.
– Скажи-ка! – удивился мужик.
– Но делают это как святые, – зачем-то вставила Матильда. Ей было весело и интересно. Главное – не вспоминать Млада и недавнюю сцену.
– Ты гляди!
Эстет поощрительно посмотрел на нее.
– А ты кто такая шустрая? – заволновался подвыпивший народ, словно только теперь заметил ее.
Матильда промолчала. Ей стало неприятно. Она отвыкла в своем университетском детсаде от людей с непросчитываемыми репликами.
– А что, и е-утся?
В очереди заржали.
– Ну, ты, Васька, даешь!..
– Правильно, любопытственно знать. Народ интересуется!
Услышав последнюю реплику, Матильда не выдержала. Ей было и страшно и досадно, и она не знала, как разрешить надвигающийся конфликт. Из веселого трепа разговор превращался в пьяный разборняк. Или ей так с испугу показалось.
– Не отвечай! – воскликнула она, схватив Эстета за руку.
В очереди засмеялись.
– Чего, дочка, обиделась что ль... Нам знать интересно, нам по телевизору такого не показывают. Может, он баба, а?
– А борода? (Борода у Эстета, впрочем, была очень условная.)
– Ну, что, бородатая баба.
Толпа мужиков, подсмеиваясь щелочками монгольских глаз, смотрела на Эстета, возвышавшегося на целую голову над любым из них. Одинокий рыцарь среди обступивших его плебеев с кольями. Вроде была такая гравюра…
– Кому-то хочется проверить? – усмехнулся Эстет. Лицо его пошло пятнами от собранного до предела хладнокровия.
– Можно и проверить. Да ты обоссышься, – сообщил мужичок. Тонкие руки Эстета, никогда не державшие ничего тяжелее рейсфедера и стакана портвейна, внушали мало страха.
– Ну, почему ж, для хорошего дела...
– Дело-то хорошее… Если он баба, я ей вставлю, – сообщил мужичек толпе.
– А если мужик, то он тебе, – засмеялся кто-то.
Толпа взвыла хохотом.
– А ты как на мужиков, а, Васята? – ржали в толпе.
Эстет тоже усмехнулся, как бы за компанию, слегка объединив себя со всеми. Матильда неотрывно смотрела на медленно наполняющуюся банку.
– А ты чо улыбишься? – спросил мужичок.
– Нельзя?
– Нет, ты мне скажи: чо ты веселый такой? Вон, девка с тобой, разодетая такая, из Москвы, небось. Может, мне патлы отрастить – и у меня такие будут?
Толпа радостно заржала.
– Попробуй. – Эстет говорил без агрессии, лишь с легкой иронией.
– Попро-обуй, – передразнил его мужик. – На х-я мне такая радость, чтоб меня тут ночью вы-бли, как бабу, а!..
Очередь опять заржала. Это, видно, был местный балагур.
– Точно, спьяну, ночью! У нас тут народ тако-ой!
Эстет остался невозмутим, как бы выше всего этого дешевого концерта.
– А, может, ему нравится! – подсказал кто-то. Все опять заржали.
Толстая ларечница смотрела на текущее пиво, словно ничего не замечала. По площади ходили люди, столичные дачники, у них все было хорошо.
– Ну, ты, чео, а, одари словцом-то?
– Ты чего от меня хочешь? – вдруг спросил Эстет серьезно, даже с ноткой угрозы.
– Чео хочу? Да не чео не хочу! Нах-й ты мне сдался!
– Ну, и отвали!
– Чео?! Чео ты там пиз-шь? – сморчок попался исключительно агрессивный.
– Слушать надо!
– Вась, да чо ты ждешь, дай ему пиз-юлей! – подначивали в толпе. Момент казался самый подходящий.
– Отстаньте от нас! – закричала Матильда и стала тащить Эстета за локоть из толпы, не дожидаясь банки, которая как раз в этот момент наполнилась до краев, впрочем, вместе с пеной.
– Ты иди, голуба, мы тебя не тронем! – посмеивались мужики.
– Вась, он тебе ща банкой даст!
Смех. Эстет с банкой в руках не двигался, глядя на застывшего перед ним Васю, впрочем, вполоборота и даже не смотревшего на него. Эстет чему-то как бы усмехался и все смотрел вокруг, словно запоминал расположение вражеских частей, чтобы придти ночью и все тут взорвать. Его надо было тянуть, а не то уход станет напоминать отступление, тем более бегство.
– Не боись, лохматый, лучше выпей с народом, не тронем! – закричал коренастый мужик со смеющимися глазами на грубо вылепленном лице. – Ты, Васька, не пужай тут, а то сам люлей схватишь!
– Точно, пей с нами!
– Пошли, пошли! – тянула Матильда.
Эстет еще упирался:
– Можно и выпить, – пробормотал он. Кажется, и правда собирался сделать это.
– Оставьте вы его! Чего к нему пристали! – закричала ларечница. – Тоже мне нашли святого. Он такой же святой, как моя задница.
Очередь захохотала.
– Клав, а Клав, а пусть твоя задница нам скажет, может святой еб-ться аль нет?
– Дураки! Конечно, не может!
– А почему?
– Да потому что он святой, неужто не ясно?
– Ну, так бы и говорила, теперь ясно. А то этот лохматый мудак ни х-я не знает!..
Матильда и Эстет молча шли по поселку. Она успокоилась. А минуту назад была готова кинуться в драку, истеричка... Теперь в сцене у ларька она ясно видела, какие цели ставил Эстет. И как тенденция стать жертвой борется с тенденцией бросить вызов. И ни одна из них не возобладала. Единственной тенденции, которой она не увидела – была тенденция замять конфликт. Может быть, промелькнула в самом конце, когда опасность стала слишком явной.
– Я сам виноват, – сказал он, словно прочитал ее мысли. – Не надо было отвечать в духе вопроса. Пьяный был…
– Кто?
– Я. Да и этот мудак. “Святые”... Какие на хрен святые! (Он забыл, что то же сказала ларечница.)
– Что же ты?.. – хотела спросить: поддался на провокацию?
– Поиграть хотелось и выставить их козлами. Вот и выставил. Сам козел и оказался... – он усмехнулся. Было похоже, что он извиняется перед ней за эту сцену.
Ей понравилась его самокритичность. Сама она вовсе не считала его очень виноватым. Что же делать, если вокруг сплошные идиоты! Ну, здесь пройдешь – там спотыкнешься. Мины были повсюду.
– Боялся? – спросила она.
– Боялся, – сказал он честно. – Не приучены мы беседовать с народом. – И опять усмехнулся.
Они уже были у калитки чудаковского дома.
На веранде у Чудака история у ларька, дополнительно утрированная Эстетом, пошла на ура. Она отметила, как легко и естественно он создал яркий и гротескный образ. Воспользовавшись случаем, люди стали обсуждать природу святых: что святой может, а что нет?
– Трахаться – а зачем святому трахаться?! – вскричал Пит. – Нигде не сказанно, что святые трахаются.
– Убить – другое дело, – усмехнулся Стрейнджер.
– Убить?! Совсем спятил?! – изумилась Оля. – Не ожидала!
– Да я просто!.. Могу снять…
– Зачем? – спросил Пит. – Интересно!
– Да, отвечай тогда! – подначил Эстет.
– Я, собственно, имел в виду Илию или этого, Елисея, страшные вещи делал, а, нет разве? – и Стрейнджер засмеялся.
– И как ты это объясняешь? – спросила Оля.
– Ну, наверное, бабка, в общем, права, ха-ха-ха: святой же не делает ничего своей волей. В его действиях нет личной корысти или гнева, да? Поэтому даже если он и нанесет кому-нибудь вред, например, проклянет до смерти, медведей натравит, то он будет просто как орудие Бога, да?
– Ага, – сказал Эстет. – Если нет орудия преступления, то нет и самого преступления, ха-ха! Цель же его только спасать, как у индийских бодхисатв... ха-ха-ха!
Это была обычная экуминистская присказка, дань увлечениям "молодости". Он вообще любил и умел порассуждать, причем с видом человека, причастного истине, проповедуя то свободу, то какую-нибудь вновь открытую религию. Истина, как и полагается, делала их всех свободными. Например, от этических предрассудков. То есть, обидеть друга – это западло. А спереть немного еды из универмага – запросто. Или поддаваться сексуальным и любым другим искушениям. Борьба с ними портит характер и ворует силы, нужные для главного. Его слова мучили Матильду. Он казался и правым и неправым. Но сам он был страшно симпатичным, как и его друзья, и поэтому, наверное, правым.
Вот о чем они спорили здесь на веранде почти круглые сутки. За ночным чаем она, наконец, стала говорить о себе.
– У меня нет ни одного бюстгальтера, – гордо сообщила она. – Груди у меня тоже нет, но это не важно… Я считаю это унизительным! Как только родители мне эту штуку предложили, я просто взбесилась! Достаточно, что я ходила в юбках!
– Да ты стихийная хиппи! – воскликнул пипл.
– Не знаю, я просто не могу с ними жить! – сказала она.
– С кем, с перентами? Почему?
– Не знаю... Такие же, вроде, люди. Все они, вроде, понимают. Не злые... Но так у них все мелко – их добро. Они хотят запереть его под замок, под салфеточками, мещанскими добродетелями, вилками и ножами, взаимонезаменимыми полотенцами, особыми кастрюльками на кухне…Чтоб брюки были утюжены, а что там в душе – не важно, – выпалила она одним махом.
– В самую точку, мать! – посочувствовал Стрейнджер. – Все они подхалимы и лицемеры…
– Да нет, в общем…
– Нет, ты правильно говорила.
Лестная оценка – от людей, которых она совсем не знала, но которые были ей чем-то очень понятны, несмотря на их почти пародийную безобразность.
Она потребовала, чтоб ей постелили (если так можно сказать) отдельно, – и поэтому Млад ходил и мучил ее весь следующий день. Ему было досадно от ее демонстративной и унизительной для него холодности. И в ответ унижал и третировал. Она не обращала внимания.
А еще через день возлюбленный, худо-бедно повеселившийся, отвозил ее назад с кислой миной, навсегда выпихнутый из лодки, в которой она собиралась плыть. Он сделал две важные вещи: лишил ее девственности и познакомил с нужными людьми. На этом закончилась предназначенная ему роль в ее жизни.
Впрочем, тогда он еще об этом не догадывался.
А буквально через два дня, совершенно по законам литературы, она встретила в городе Ника, решительно пробиравшегося окольными тропами к Казанскому вокзалу, чтобы ехать к Чудаку. Не долго думая, она поехала с ним. Всю дорогу Ник почти не говорил с ней, углубленный в том Кортасара из серии «Мастера современной прозы»:
– Прости, надо срочно прочесть.
– У моей мамы он есть. Могу дать.
– Правда?
Кажется, обитатели обрадовались новому человеку, и она прожила еще два дня в “коммуне”, как они называли свое безалаберное сожительство.
Невнятные круги Эстета вокруг нее превратились в ухаживания. Он приехал к ней в Москву, ждал около подъезда, отвез «протусоваться» по центру, сводил в кино. И говорил про книги, которые нужно прочесть. Он уже зачислил ее в “тусовку”, кое с кем познакомил. Была она и у него в гостях. Но он, как бы чувствуя ее реакцию, не предложил остаться на ночь. Он делал для нее еще немного, да почти ничего. Но ей казалось, что он просто ждет разрешения.
После третьей или четвертой их встречи Матильда выразила желание видеть его в гостях – частично от нечего делать, частично от сентиментального желания сделать человеку приятно. Он заинтересовался книгами, которые всюду стояли и валялись в ее доме. Картинки, вазочки, немереное количество классической музыки. Возвышенный быт совковой научной интеллигенции. Он не был сыном прачки, его не так-то легко было поразить. Она, в общем, и не ставила на это и сразу увела Эстета в "свою" комнату.
Они сидели перед раскрытым окном, откуда были видны двухэтажные дома с острыми крышами, словно они были в Голландии, и слушали Pink Floyd.
Симпатии были определены, так что ничего не мешало начать целоваться.
Здесь, у Чудака, она узнала о существовании Нади, "настоящей" девушки Эстета. Красивая, самоуверенная, умная и приятная, из хорошей семьи (Эстет других не выбирал). Она появилась утром и вела себя свободно, особенно с Эстетом. Она хотела, чтобы он поехал с ней и ее родителями в какой-то санаторий. Естественно, самый элитный. Эстета эта ситуация «парила», и он вел себя с девушкой надменно и грубо – и побыстрее отправил ее обратно в Москву. Куда-либо ехать, понятное дело, он отказался.
– Без маза! Не построили еще того санатория, ради которого я сниму свои клеша! – сказал он с пафосом. Хотя ясно было, что не поехал он только потому, чтобы остаться с Матильдой. Ибо в санатории был бар, бильярд, танцы и кино, в общем все, чтобы хорошо проводить время, когда тебе двадцать.
Ей казалось, что человеку, у которого есть такая милая герла – не должно хотеться ничего другого. Неужели она лучше Нади? Чем?
– Она слишком буржуазна, – объяснил Эстет. – И во всем слушает родителей.
Слушать кого-либо тут было запрещено. Тут говорили о любви и свободе, но с таким напором, словно начиняли самодельные бомбы. Она вдруг поняла, что это настоящее тайное общество, а не компания пресыщенных молодых эпикурейцев, как она сперва решила. И они реально думают о борьбе и революции, только непонятно какой?
Здесь же она лицезрела и полумифических личностей, вроде Камилла, настоящего партийного вождя. Он появился в теремке внезапно, со своей свитой и даже со своей собакой (словно гуру или высокородный граф, Камилл никогда не появлялся один: как вокруг большой планеты – вокруг него всегда крутилась тусовка почитателей). Камилл, высокий, с надменным красивым лицом и очень длинными темными волосами, с деланным пренебрежением оценил обстановку. Они сидели за столом на веранде, уставленном привезенными бутылками, и курили анашу. Матильда видела это в первый раз.
– У меня тут молодняк рвется в хиппи. Я говорю: надо экзамен сдать.
– Точняк, на знание основ! – воскликнул Пит.
– Вроде того. Ну, и еще практическое задание.
– Какое?
– Маки по соседям покоцать и хорошего кукнаря старшим товарищам сварить! – Камилл говорил совершенно серьезно, без намека на улыбку.
– О-о, это серьезное задание! Но Ник уже все ободрал… – сообщил Пит. – А еще чего?
Свита Камилла молчала, словно не понимала, что ее разыгрывают. Матильда, впрочем, тоже – и чувствовала себя неуютно.
– Главные заповеди-то им известны? – спросил Стрейнджер, подсмеиваясь.
– Ну?! – усмехнулся Камилл с ленивой грацией, глядя на свою компанию, двух девочек и мальчика.
– Make Love Not War! Занимайтесь любовью, а не войнами, – пробормотал неуверенно мальчик.
– Как отцы наши заповедали... – засмеялся Стрейнджер. – Знают.
– Кинуть лозунг – это за-бись! – передразнил Камилл. – Кто тут готов заняться любовью, прямо сейчас?
Повисла пауза. Девочка из свиты захихикала, остальные молчали.
– Что и требовалось доказать. Не готовы! Может, олдовые пример покажут?
– Ха-ха-ха!
– А чего ржете?
– По-моему, это вопрос к герлам, а не ко мне, – сказал Стрейнджер, закуривая.
– Дюймовки нет, она бы с энтузиазмом! – сообщил Пит.
– Понятно: одна Дюймовка должна отдуваться за идею!
– Нет, она без принуждения!
– А если ее нет, то остается покурить траву, обосрать совок и разойтись, да? Вот и вся революция!
– На тебя не угодишь! – засмеялся Стрейнджер.
– Можно по поселку пройтись, хайрами потрясти, – предложил Пит.
– И получить пиз-юлей от местных гопников, – закончил Эстет.
– Можно книжку хорошую почитать, – сказала Оксана, красивая девушка, которую Матильда видела впервые.
– Ага, и бабочку вышить на джинсах… – усмехнулся Камилл.
– Да, а что?
– Других идей нет?
– Нет, тебя ждали…
– Я догадался… В общем, детишки, правоверный хиппи должен исповедовать всего две идеи. Какие?
– Секс и свобода! – воскликнул мальчик.
– Нет: тихо растить хаер и бояться получить пиз-юлей.
– Правильно, чувак! – засмеялся Эстет.
Люди стали угорать.
– А я думаю: сколько хиппи – столько и хиппизмов! – задумчиво сказала Оксана.
– Но «Пинк Флойд» превыше всего! – добавил Пит.
– Хиппи разные нужны, хиппи всякие важны… – засмеялся мальчик из свиты.
– Хиппи, хиппи! Наши хиппи – страшно зажаты и полны комплексов. Говорят о свободе, а ни черта не могут! – воскликнул Камилл, как бы вообще, но с долей провокативности, – к чему собравшиеся, видимо, были готовы.
Люди шумели, Эстет ронял мнения, как шары, то на одну чашу, то на другую. Спор его не интересовал. Ему важно было участие в споре.
– Я хиппи лишь процентов на десять. А на остальное – я сама по себе. Я – это я, – вдруг сказала Оля.
– А ты, мать, умна… – вдруг заметил Камилл. – Вот пример того, что не существует, – обратился он к свите, – умная женщина.
– А зачем этот наезд на женщин? Это разве по-хипповому?
– Я тоже хиппи на десять процентов, как и ты. Если не меньше, – сказал Камилл и засмеялся.
Покурив, выпив и потрепавшись, компания к ночи отбыла в город. Честно сказать, все вздохнули с облегчением.
– Он на десять процентов хиппи – и это его лучшие проценты, – сказала Оля под общий смех.
– Привык пионеров строить! – продолжил с досадой Стрейнджер. – Я, мол, теперь олдовый. Чувствуйте разницу и трепещите!
– А кто тут пионер? – спросила Оля.
– По его врубу – все, хотя он младше меня. Я помню его самого пионером.
– Насрать на его врубы! – резюмировал Эстет. – Чудак из нас один олдовый и мудрый: живет сам по себе и ни из-за чего не парится.
Чудак весело заулыбался, помахал рукой с чайником и потащился в свою комнатку.
С осени с очевидным удовольствием к ней стала ходить большая тусовка, все те, с кем она познакомилась, забивая с Эстетом стрелку перед фонтаном их института. Это было их традиционное место встречи.
– Что-то много чудаков выходит из одного фонтана! – смеялась она.
Брали ее книжки, смотрели альбомы. Дед садился вполоборота, отвлекшись от работы, – и наблюдал толкающихся в коридоре так пристально, словно хотел классифицировать этот новый вид млекопитающих. Нестриженные, с сумками на ремешках невозможной длины, в клешах невозможной ширины – они стоял посреди академического святилища, как дикие готы на площадях Рима. Мать, как первосвященник, поджимала губы и гордо уходила в свою комнату. Впрочем, предварительно предлагала всей компании чаю. Она же была великолепно воспитана и никогда об этом не забывала. Матильду этот формализм только злил.
Они рассуждали о догматах учения, о которых некоторые говорили серьезно, а некоторые смотрели, как на игру, и Стрейнджер разъяснил ей, что нет никакой догмы, устава или закона. В том числе, и спать с первым встречным. Она заговорила об этом, потому что это ее смущало. Матильде было неудобно отказывать, тем более, если по “уставу” новой жизни полагалось делиться, в том числе, и собой. Ее единственным оправданием было, что она не стала еще настоящим членом, а в качестве, так сказать, оглашенной, ей полагались некие поблажки...
Все ли думают одинаково, или есть другое мнение? Они имели другое мнение на все, не боясь противоречить основным принципам, с такой любовью внушаемым прочими хипповыми гуру.
Секс был для нее областью неясной, она не знала, как следует к нему относиться, считать ли его истиной, грехом или неким оружием, мощным средством познания, вроде тех же наркотиков?
Наркотики стали для нее полной неожиданностью, и ее пугало увлечение ее новых друзей бинтиками и шприцами. Хотя, по словам Ника, наркотики касались основной идеи – вырваться из здешнего болота, любым способом, пусть и опасным. Наркотики – ракета для встречи с подлинной свободой. Боишься? – какой же ты революционер? Иди к папе с мамой, кушай торт.
Стрейнджер как всегда скептически посмеивался, снижая пафос. Он считал, что у человека не должно быть серьезных привязок, в том числе к наркотикам, иначе это уже не свобода. Траву покурить? Ну, какая трава наркотик! Он перерос этап неофитства, когда адепт стремится воплотить идею в самом чистом виде, без меры и разбора. Не секс и не наркотики, а идейные схватки интересовали его больше всего. И тут он был неподражаем и велик.
Эстет был другим: чувствительным, утонченно эмоциональным. Он покупал на свои деньги вино, привозил из Москвы книги и альбомы, чтобы порадовать тусовку. Споры не вдохновляли его. Он любил быть в своем мире, суть которого она не могла понять. Кроме того, что он не хочет быть в этом мире один, – и поэтому смотрит на нее, не отрывая глаз, не спеша наступать, как человек, исполненный самодостаточности, и при этом словно готовый вынуть из кармана что-то чудесное, очень ей нужное. Им обоим нужное.
Он положил руку ей на колено. Нежный, сильный, спокойный, добрый и умный Эстет. Сколько дней ей понадобилось, чтобы убедить саму себя, что – это серьезно, что она любит его! Она не убрала его руку.
– Я, даже если бы могла, отказалась бы обнимать любимого, а в другой руке сжимать сумку с печенкой и яйцами, нести счета в сберкассу и погашать задолжности за холодильник… Или строчить прошения о зачислении в ЖСК. Лучше уж действительно питаться с ним жидкой водицей и стирать штаны раз в год. А если нельзя – то лучше спиться за чтением романов, как Щелкунчик (про Щелкунчика она уже рассказала ему). А они все мурыжат меня респектабельностью и своим уютом, ужасно дорого купленным!
– Все мурыжат? Сколько у тебя поклонников!
– Да я не о них! Я про родителей...
Родители были проклятием, каторжным ядром на ноге. Иногда ей казалось, что она не может говорить ни о чем, кроме них. Пока они были рядом – она не могла почувствовать себя взрослый. Это было так противно – оставаться девочкой с косичками, которой напоминают, что надо почистить сапоги, надеть пальто, разогреть суп, а не есть холодным… А то она не знает?! Ради побега от них можно было решиться на любую авантюру, даже на брак. Не обязательно на долгий, так, чтобы убежать подальше.
– А там можно и развестись! – излагала она теорию и смеялась. Он был совершенно с ней согласен.
Это было у него в гостях. Матильда осталась с ним тогда. Она долго смотрела на явственный силуэт с острым носом и подбородком, и почему-то ей вспомнился Аякс. Потом неловко, путаясь в рукавах и складках, стала снимать одежду и нырнула к нему.
– Ну, вот и умница, Пирлипат, – прошептал он почти страшно, приближая к ней расширенные, с двумя огромными углями, глаза.
Она слышала и уже почувствовала, что мужчин в любви больше всего интересует страсть власти, беспримерного, совершенного обладания. Но она решила, что находится рядом с другом, который несет теперь ответственность за нее, за все, как мужчина, которому она сдалась, раз уж он сделал с ней такое. Она маленькая, и он теперь за нее полностью отвечает. Она была равная, а теперь… Каждому хочется обладать человеком – самым непокорным, обладать равным, победить неподатливость равного, насладиться властью над долго противящимся равным, равным, рав...
"Ну, вот и все!"
Она проснулась у него в постели. “Ну и что? Чем я обладаю? Я властвую над нижней частью живота... Ну, уж будто бы над всем! Зачем я этим обладаю? Чтобы удовлетворить себя? Мне одиноко? А ему? И мы платим дань общению? Но природа создала все это совершенно с другой целью. Неужели все это для разрядки интеллекта, слишком переполненного неприятной чушью?” – Мысли утешали ее. Можно было отвлечься, даже в чем-то извиниться перед собой. А было в чем. – “Ах, что я сделала! Нет, нет!.."
По-существу, это был первый настоящий секс в ее жизни. Она глядела на него широко раскрытыми глазами, своими раскосыми. Облако ее темных, чуть рыжих волос колтуном прилипло к подушке. Неужели глаза спрашивают: “Лю¬бишь?”, и готовы возненавидеть, если бы прозвучал противный ответ?
– Больно было, неприятно?
– Нет. (Он, небось, думал, что неприятно, если она не стонала, не билась в восторге…)
– А ты знаешь, ты же рыжая!
– Да, это плохо?
– Это отлично! Всегда мечтал иметь рыжую девушку.
Она улыбнулась: странно, о чем он думает! Какой он смешной!
Тело сотрясалось волнами дрожи. В ванной комнате было холодно. Хотелось постоянно окатывать себя горячей струей. Труба отопления что ли засорилась, в воздухе не скапливалось пара. Думала о чем угодно…
Увлечение свободной любовью не было у нее глубоким. Точнее, оно было чисто теоретическим. В реальности ее взгляды на этот предмет были целиком в традициях Домостроя. Больше она ни с кем это себе не позволит! Он тоже пошел на эту жертву, смирив себя до крайности. Для него это имело то последствие, что он насмерть разругался с Надей, на ее грех, далекой от всяких идей. И после эстетовой измены – навсегда исчезнувшей с горизонта. Эстет вовсе не переживал об исчезновении Нади. Матильда эгоистически тоже.
Он был нежен. Он был заботлив, предупредителен и очень нежен. У него “быт” творческого человека, эпикурейца: красивые художественные альбомы, куча книг, сувениры-безделушки, а еще картоны, краски, этюдник, даже мольберт… При этом все на месте, нигде ничего бесхозно не лежит, не мозолит глаз.
У нее все наоборот: беспорядок, груды разбросанных книг.
– Хронически не могу наводить порядок, – говорила она. – Это бесполезно. Родители пытались много лет, но все их попытки были посрамлены и разбились о мою твердую порочность в этом вопросе.
– Меня это мало волнует. Ты мне нравишься, какая есть.
Он уже говорил о них двоих как о чем-то совместном. Не сговариваясь с ней, словно о решенном и подписанном. Она не знала, приятно ей это или нет.
Первые дни они без перерыва говорили. Это были счастливейшие дни в ее жизни! Не нежности, не постель, а вот это говорение – как со своим человеком, с максимальной доверчивостью, о всей жизни, о глупом и об умном, обо всем на свете. Даже о том, чего у нее никогда не было в голове, что она сочиняла прямо сейчас, но говорила так, будто давно все это думала-передумала. И он, кажется, ей верил. О, вот о чем она мечтала целые годы!
– Ты, что, никогда не грустишь? – удивился он.
– Не грущу? Нет, у меня бывают плохие настроения... Знаешь, какая у меня грусть? Ты будешь смеяться: очарование безнадежности и щемящей жалости к себе – тебе не знакомо? Приятно чувствовать одиночество, которое еще можно избежать, правда? Я даже радуюсь, когда вижу, что несчастье, ну, или там… не может мной завладеть. Это такое чувство!.. Человек, по-моему, любит такие чувства, когда можно любить себя благородным, ну, состраданием... Я, наверное, непонятно говорю?.. Это такое состояние души... м-м... забыла слово.
Он пожал плечами.
– Вспомнила: экстатическое.
– Ты, оказывается, страстная натура.
– Страшно?
– Нет, интересно. Хотя и непонятно.
– Мне кажется, в таком состоянии я даже убить могу – того, кого люблю.
– Может, нам лучше расстаться? Не хочу, чтобы меня убивали, – усмехнулся он.
Матильда нетерпеливо махнула рукой.
– Это все фантазии. Я все сидела с книжками и выдумывала.
С ним тоже было интересно поговорить. У него были художественная школа и институт, со своими приколами и друзьями, и хоть он был совсем еще мальчишка – было время, он читал подряд все книги, ходившие в кругу его родителей, и тоже был напичкан культурными знаками, с явным тяготением к скептическому мировоззрению. Как у каждого начинающего пижона, у него имелось несколько заботливых советчиков: что надо читать, смотреть, любить – чтобы быть «на уровне» и иметь ту жизнь, о которой большинство даже не подозревает. Впрочем, что-то он искал самостоятельно, считаясь только с собственными, довольно широкими, пристрастиями.
Он был умен, красив, сексуален, но это явно не было пределом ее мечтаний. Она ведь совсем не знала его и все время расспрашивала. Нет, он не был зауряден. Это чувствовалось с первого взгляда. И каждый день подтверждалось.
Довольно рано, лет в восемнадцать, Эстет почувствовал вкус роли, которую он должен играть среди людей, еще не ясной в деталях, но несомненной. Окружающие были весьма посредственны, вызывали презрение и увеличивали его уверенность в себе.
Он не сомневался, что достоин всего, что есть ценного, всех женщин или всех вещей. Он убеждал себя, что он лучший или, во всяком случае, один из лучших, – и все счастливы от одного его присутствия. Если они, конечно, не кретины. Все его поступки, по определению, были прекрасны – потому что исходили из самого лучшего источника: его самого. Сомнений он почти не ведал. Порой он изображал скромность, зная, что это нравится окружающим. Он играл с людьми, подсовывая то, что им хочется: веселость, вдумчивость, ответственность, предупредительную внимательность, пока это было не слишком в облом. Он как бы протягивал им себя через солнечные очки, заботясь об их глазах, способных ослепнуть от созерцания его во всем блеске. Взрослость он понимал как возможность не стесняться и не лицемерить, пытаясь скрыть истинного себя. Он любил себя, он хотел быть собой, его все в себе устраивало. И тот, кто думал иначе, был просто неврубной идиот!
Его самоуверенность, во многом деланная, – завораживала. Понты его были бесконечны, как и его презрение к людям. Он спокойно перебивал других, повышая голос и заставляя их замолчать, даже людей старше себя, что бы они ни говорили и на сколько его замечания ни были уместны. Мог говорить или стебаться над всем. Он должен был быть в центре. Никому не было позволено его не заметить. И все ему прощалось.
Чем больше он в чем-то сомневался (а и это иногда с ним случалось, как простуда), чем хуже были карты на руках, тем отчаяннее он блефовал, уравновешивая отрицательную амплитуду реальности встречной амплитудой вымысла. И его слушали и верили.
Она не хотела гадать, имел ли он основания на эту уверенность? По-видимому, имел. У него была ленивая грация избалованного мальчишки и странная язвительная полуулыбка античного куроса. В которой было равнодушие, высокомерие – и что-то, что вообще нельзя понять, как у каких-то китайцев. В нем вообще было что-то восточное, не располагающее к откровенности. И удивительная манера говорить, словно не ртом, а бронхами, добавлявшая ему шарма и возраста.
Он умел сломать сопротивление обстоятельств, если ему так хотелось. К тому же ему просто везло. Очень быстро он нашел свой прикол в жизни и искусстве, получил от рано умершего отца комнату, на основании которой мог попеременно заниматься творчеством и разгулом (но отнюдь не развратом). Хиппи были для него не какой-то спасительный остров, счастливый выпавший шар, а, скорее, временные попутчики, люди, с которыми было интересно, когда вокруг было тухло. Пока не подфартило заняться чем-то серьезным и настоящим.
Теперь у нее был другой дом, другое все. Если бы можно было не ехать за вещами, не звонить домой, отрезать все прежнее! Начать с чистого листа. Только она и он, и никого больше! Разве она много просит?
А мать говорила, что беспрерывно звонит Млад (бывший дорогой возлюбленный), и она должна ему позвонить. А она не должна! Что она ему скажет, и зачем?
Она была горда или удовлетворена собой: она получила, что хотела – красивого и умного, человека своего мира, того, кого была достойна, вопреки собственному маловерию. Ей хотелось плясать и плакать. Оттого, что все так удачно и в то же время – страшно, неожиданно, неизвестно. Ее детская жизнь, с куклами и родителями, ее ограниченная, но свобода (постылая) – кончились. Она освободилась от нее. Теперь началась жизнь для него, почти чужого человека. Это было страшно, она предчувствовала трудности и пыталась, хоть на первое время, забыть о них: если не в его лице, то в лице его маман, об этих новых правилах и новой несвободе – они лезли в глаза. Что ж, идиллии полной не бывает.
Эстет возил ее на родительскую дачу, катал на такси, водил в кино, на рок и джазовые концерты, куда попадали лишь те, кто знал пароль. Он сам все это мог устроить, со всеми был знаком.
Матильда бывала в этой среде и раньше – благодаря матери или Щелкунчику, но все это было чопорно и случайно, и присутствие строгого арбитра и судьи ее поведения и ее оценок все портило.
А они с Эстетом были абсолютно свободны. Он ценил и никогда не критиковал ее мнения, сам порой надевая маску циника и сердитого молодого человека. Матильде было страшно за свои догмы, но Эстет был насмешлив и спокоен. Они пили в барах, и в качестве импозантной заразы курили со всеми траву. Однако она не могла не признать, что все это – и трава, и вечерние возлияния, и сама эта распущенность и моральная свобода как-то вписывались в некий общий фон, в целом яркий и занятный. Матильда думала, что все это, наверное, так и должно быть: с обильным сексом, такси, нищетой, чужой дачей, случайным ночлегом, случайным концертом, случайным другом, случайной книгой, что высокая эстетика не бывает в казарме, что культура наилучшим образом расцветает в пограничной зоне, как красивый сорняк, первое время никому не нужный, и что то, что для одних называется наркотиками и преступно, для других – просто забава. Как было для них забавой и то, к чему Матильда относилась с высочайшим уважением. И что «все позволено» – это не просто формула проклятия, а реальность и факт, и что для «знающего нет запрета». А Эстет и его друзья претендовали, что они именно «знающие».
– Достоевский, Сартр, Кафка, Фриш! – не сходило с их уст. Писатели современных интеллектуалов. Надо было приобщиться к их умонастроению, чтобы за что-то зацепиться в этом гнилом мире.
Так они боролись с авторитетами и творили авторитеты. То Эстет приносил из закрытого распределителя деликатесы, то они питались кашей с картошкой на последние копейки. Тут тоже была привилегия знающего: жить непоследовательно и смешивать крайности.
И при этом был совершенно беспощаден к задевавшим его самолюбие людям. Например, к Младу, который-таки начал проявлять все симптомы ревности. Он даже напросился в гости к Матильде, когда там был Эстет (притом что они виделись каждый день в институте). И пытался издеваться над обоими весь вечер, впрочем, совершенно впустую: силы были явно не равны.
– А ты порядочный козел, – спокойно сообщил ему Эстет. – Ты, случайно, не стукач? – продолжил он топтать соперника, уловив во взгляде и словах Млада классовый антагонизм.
Она, словно арбитр, молча следила за этим поединком, как два петуха напрыгивают друг на друга ради нее. Удивительное, вдохновляющее зрелище. Впрочем, она не была еще так испорчена, чтобы наслаждаться им. Ей бы хотелось, чтобы всем было хорошо и не больно.
Теперь Млад проявлял завидную толстокожесть, видно, считая глупым тратить попусту энергию, выплеснутую в открытой форме, впрочем, одной Матильде, когда она мыла посуду на кухне:
– Чего ты в нем нашла? Хрена ты с ним связалась?
– Это очень умный и тонкий человек.
– Вижу. Придурок, я же его знаю. Сноб. Довольно поганая личность. У нас таких много. Хочешь, еще познакомлю. Тебе, видимо, нравятся наркоманы и голубые.
– Идиот ты, – сказала Матильда. Она слышала это слово и знала, что оно значит, хотя ни разу не сталкивалась с носителями определения.
– Честно говорю!
– Заткнись, честно говорю! – Эстет не мог быть голубым, зеленым или красным, как он не мог быть тайным убийцей или вообще чем-нибудь дурным.
Потом, уже после Эстета, были падения Млада на колени, ночевания на лестнице у ее двери, вымаливание прощения, слезы, обещания – все красиво и бесполезно.
– Неужели ты не понимаешь? Все кончено!
Она сказала это так, что он понял. Ей даже стало жаль его. Что за право дано ей мучить людей? Но надо же было сказать, это милосердно, а не дурно.
Он ушел, потерянный, непохожий на себя. Только на пороге обернулся и сказал:
– Ты пожалеешь, увидишь...
И Матильда тут же вычеркнула это из головы и даже не хотела никогда вспоминать: и свой триумф, и свою жестокость, – это не радовало ее и не огорчало, это просто было из другой жизни, а бедный Млад не мог это понять.
И на следующий день она полетела к Эстету, моля Бога, чтобы вся ее новая жизнь не растаяла, как сон.
Она стояла на платформе и ждала его, сознавая, какая она молодая, красивая, с сияющим лицом, как смотрят на нее мужчины, как все они хотят с ней познакомиться, завести роман. И все они были ей не нужны. Просто потому, что они были из другого карасса, другого племени, другой крови, серые, скучные, с бритыми лицами и, конечно, без лучшего украшения мужчины – длинных волос! Священного знака свободы.
Главное, что они не были – он, которому она теперь вся принадлежала. Он мог творить чудеса, а она была речная нимфа, Сиринга, трепещущая и ожидающая. (О ней она вычитала у одного совкового романиста.)
И вот он появился, как всегда с опозданием, высокий, как юный бог, на полголовы выше бегущей толпы, равнодушный к ней, высоко над ней плывущий, с развевающимся хаером, с загадочной улыбкой куроса и веселым взглядом молодого волка, находящий ее в лесу, в плену, привязанную, опутанную чарами, и легко спасающий неуловимым движением руки. Везущий к себе в замок.
У нее едва не подогнулись ноги от любви и счастья. Она вошла смеющаяся, счастливая, она вернулась вновь в свой волшебный мир, где ей было так хорошо. Ее понимали, ее любили, с ней говорили. Бытие перестало ее заботить. Она переживала медовый месяц, и лишь только мрачная обстановка квартиры и тяжелый взгляд маман портили картину. Эстет не робел под этим взглядом. Мать была у него в кулаке.
Презирать совок – это было почти общим местом. Хотя критика у него была неглубокая. Его бы устроило очутиться внутри границы, где было бы комфортно, где можно не знать, что у людей бывает как-то иначе, серее и несчастнее. С хиппи он связался во многом случайно, спутав их с богемой, которой не случилось под рукой, которой он подходил гораздо больше.
Иногда они спорили. А он не привык, чтобы с ним спорили, игнорировали его умное мнение, особенно женщины, к вниманию которых привык и к уму которых относился пренебрежительно. Она это заметила, но не могла ничего с собой поделать. Он согласился на нее такую. Может быть, в этом и была вся ее прелесть. Но долго ли его будет это прельщать?
Она просила его сразу признаться, когда любовь к ней иссякнет. Но, видимо, до этого было еще далеко. В постели он рассуждал про нефритовый молот и нефритовый грот. А она, глупая советская девочка, знала в пару к молоту только серп. И отсюда проводила ассоциацию к мухинской скульптуре, где рабочий и колхозница просто держат в руках соответствующие своему полу фаллические символы: молот – это прямая, дорога в грот, и серп – просто значительный отрезок замаскированной окружности, этого самого грота. Но... тогда и герб их родной страны – просто зашифрованная эмблема плодородия, которая мистическим образом должна была помочь делу подъему сельского хозяйства даже в местных, по-видимому, неблагоприятных условиях. Конечно, в силу дурацкого своего образования она знала про молот Тора, но никакую подходящую пару к нему придумать не могла. Под эти хаотические мысли она засыпала.
В первые месяцы знакомства с тусовкой, Стрейнджером, Москалевым, Диверсантом, Кокосом и прочими она больше молчала, по-неофитски впитывая азы учения, слушая рассказы как легенды, а слова как проповеди. Она у всех добивалась, чтобы ей открыли суть движения, рассказывали про Систему, как они ее понимали, особенно слушала специального гуру – Москалева. Он много знал и всегда точно знал, что надо и необходимо знать именно теперь. Стрейнджер, когда она очередной раз о нем заговорила, поморщился:
– Как это говорится... много у нас тирсоносцев, но мало вакхантов. – И улыбнулся своему выпендрежу. Это было лишнее, но красиво. Она могла это оценить.
Собратья отнюдь не переоценивали авторитет друг друга. И она быстро поняла, что здесь почем, постепенно раскрепостилась, да и вообще не могла долго молчать. Непонятно было, откуда что бралось. Она загоралась, рассуждала, кидала цитаты, острила. Каждая поездка в гости обещала маленький праздник. Все были милы, все к ним так хорошо относились.
Они приняли ее сразу, без испытательного срока, выдали членскую книжку предателя родины и чек от иностранных разведок. Осталось только придумать подпольную кличку. Их наперебой приглашали в гости. Не было в неделе дня, чтобы они целиком провели его дома.
Его друзья женились, рожали детей, они с Эстетом ездили на свадьбы, на крестины, а сами были формально свободны, легки, ничем не связаны. Его эта участь устраивала в высочайшей степени.
– Значит, это поэтому тебя называли в школе Эстет? – издевалась она.
– Не поэтому. Я же говорил тебе. Одна девчонка придумала, в меня влюбленная. Просто потому, что я будто бы все знал, обо всем имел свое мнение. Так казалось этим охламонам, с которыми я учился. На самом деле я был страшный балбес и невежда.
– И ты сам знал об этом? – с уважением удивилась Матильда.
– Конечно, не знал. Даже наоборот, был уверен, что действительно все знаю. Хотя бы в общих чертах.
– А ты? Ну, с девчонкой?
– Ну, я терпел.
– Принимал, значит?
– А что было делать?
– Был так неотразим?
– Ну, у нас была хорошая компания – выскочек и расп-здяев из хороших семей. Девочки, конечно, млели.
– А остальные это терпели?
– Ну, у меня же была спецшкола. Там другой контингент. А я был самый лучший. Мне прочили отличное будущее – учителя и прочили. И этим окончательно меня испортили. Только лень и пофигизм не дали мне стать круглым, б-я, отличником. А ты?
– А я была на ножах.
– Выпендривалась?
– Нет. Но всем казалось, что да. Меня даже били, правда – в младших классах. А тебя били?
– Меня? Пару раз, давно… Я даже забыл, помню, было больно…
– Ладно – больно! Это унизительно! Ты начинаешь думать о себе как о чем-то гадком, что можно бить и презирать. Тебя любят и балуют родители, ты привыкла думать, что ты что-то, а тебе показывают, что ты просто коврик под ногами, и весь твой мир, все прошлое, будущее, все хорошее – ничего не стоят. Какой может быть мир у коврика?
– Да, лажа. Я никогда об этом не думал. Хотя попадал в ситуации, но, наверное, Бог миловал, ха-ха-ха!
Он вообще был любимчик Бога – редко испытывал боль. Даже зубы у него не болели. И мозги у него были устроены хорошо, как и все остальное. Вообще, он был образец человека. Дети от него, наверное, могли бы быть необыкновенно удачны. Но он не хотел детей.
Вообще не понятно, чего он хотел. Хотя все мог. Делал ли он курсовую, рисовал, играл в карты, спорил, изъяснялся ли со случайным иностранцем на улице – все было на высшем уровне. Его произношению завидовала даже Матильда. Все эти таланты не были результатом долгого изучения и практики, но лишь высочайшим, прямо актерским даром подражания и воспроизведения один раз постигнутого оригинала.
Ей хотелось, чтобы он был чем-то таким, например, писал картины. Почему он делает это так редко? Он же заканчивает такой институт?
– А ты знаешь, почему я пошел в архитектурный? Потому что испугался Суриковки. А в архитекторы принимали, кого попало, надо было только походить на курсы, хоть чуть-чуть смыслить в математике и физике, не пролететь на сочинении, все нормально нарисовать – или иметь блат, как у меня. У меня же отец был строитель, довольно известный.
– То есть, в архитекторы ты пошел случайно?
– Я и в Суриковский хотел пойти лишь из снобизма. А, в общем, мне было наплевать. Рок меня увлекал гораздо больше. А институт, академическая, б-ть, культура, карьера – все это казалось пошлым и непонятным.
– Ты же был Эстет!
– Ну да, но остальные-то были еще хуже! Если б не родители, я бы загремел в армию или для отмазки пошел в Пищевой. Я даже документы туда подал, но мать вовремя их оттуда умыкнула.
– Значит, картин ты не пишешь?
– Я тебя удивлю, но – мало. То есть, у меня есть несколько вещей, так, для себя.
Это не была скромность или поза (у него скромности ни на грош). Это была сознательная позиция. Он привык быть во всем на высоте и не хотел оказаться в живописи вторым или десятым, и отметал сразу все, в чем был уязвим. А не всего ли более мы уязвимы в дорогом нам, как мы уязвимы в творчестве? Зависеть от чьего-то мнения, людей, во всех других случаях не равных тебе – нет, он не хотел, да и практически применить это было никак нельзя: в компаниях изнеженных снобов эти выписанные ночью холсты как развлечение не годились, да и в обществе уже не ценилось быть или изображать из себя творца, восклицать: “Старик, ты гений!” и все мерить на искусство.
А он считал, что все в жизни должно быть успешно, по меньшей мере, в русле. И для него здесь не было проблем. Еще ни разу не случалось (если ему верить), чтобы он не добился того, чего хотел. Можно было подумать, что он так хорошо рассчитывал силы, не мечтая о невозможном, – но это вряд ли, он вообще не любил считать и прикидывать наперед. Может быть, он просто был гением или как-то особенно одарен для существования в этом биотопе, в этом варианте мира. Особенной силой, здоровьем, способностью к бессознательной мимикрии, так что ни одна опасность его не касалась?
– Писать картины – зачем? Я люблю смотреть их, а не писать. Чтобы писать, надо быть уверенным, что твое новое дерьмо лучше чужого старого. И что всем необходимо это видеть. А я в этом не уверен.
– Ты же привык быть самым талантливым, самым лучшим, путеводилой.
– Ну. Привык.
– Привык, что все слушают и смотрят в рот. Ждут советов.
– Увы. А это плохо?
– Значит, ты должен быть уверен, что все, что ты делаешь – хорошо. Почему же ты не пишешь, не запечатлеваешь свою оригинальность, а позволяешь ей бесследно растворяться в эфире? Странно...
– Это не одно и то же, ты путаешь.
Ему было лень спорить. Он никогда не делал ничего, что не было приятно в данную минуту. А для нее это звучало неубедительно. Искусствоцентризм сидел в ней неизвлекаемой занозой, как у всех русских интеллигентов.
Может быть, в нем не было бессознательного тщеславия художника, готового делать это просто из любви и необходимости. И от необходимости находящего даже мысли и идеи, о которых он первоначально не задумывался.
– Впрочем, я нарисовал кучу рисунков, курсовых, и теперь скоро диплом – это одно чего стоит, ты знаешь? И буду еще, вероятно, писать, но не станковые вещи. Я все время этим занимаюсь.
Он боялся показаться смешным и скрывал ото всех свои слабости. А он хотел быть гениальным, скорее, гениальным архитектором, чье творение видно издалека, в отличие от скромной картины, пусть даже в Третьяковке. Оставалось доказать уже всем известное: что для него невозможного нет. Но при ней он не решался отдаться этой сомнительной страсти. В конце концов – времени впереди было навалом.
Постепенно он раскрывался, его творчество перестало быть для нее тайной. И она смотрела то, что он писал. Первый раз она видела художника за работой, внутри своего профессионального мира, в котором обсуждались не психологическая достоверность героя, а преимущества масла или темперы, разница работы на холсте и картоне. Впрочем, за все время их совместной жизни он не написал и пяти картин. Зато написанные ей очень нравились.
Писал он, как сам говорил, для развлечения, «стих нашел», что-то засвербело «с похмел;». Странно: эти похмельные развлечения были, на ее взгляд, почти шедеврами, все в них было неординарно, ярко, хорошо, – хотя и без какой-либо серьезной идеи в целом. Человек демонстрировал свою технику, глаз, чувство стиля – но не свою душу, о которой сказать, что она такое и что у нее болит, – было совершенно невозможно.
Она удивлялась его страсти. Себя она считала куском плоти, телом. Тем, что есть у всех и на всех похоже. Вот ее голова – это она действительно ценила. Но ему-то было нужно не это. Он хотел акта, соития, видя в этом что-то сакраментальное и очень приятное. Она никогда не могла это понять, хотя со временем решила, что, значит, так есть.
Незаметно в их жизни проскочил аборт, о котором они предпочитали не упоминать и не вспоминать. Все было проделано со страшной поспешностью, инициатором которой был он, чтобы Матильда даже не заметила и не успела привыкнуть. И растерявшаяся Матильда даже на минуту не успела почувствовать себя счастливой, столкнувшись с совершенно непредсказуемой реакцией. У Эстета проблема не поднималась даже до уровня обсуждения. В понимании данного момента это была досадная оплошность и недоразумение, которое не должно было омрачать жизнь, легкую, насыщенную и свободную одновременно.
Иногда он рассказывал о прежних своих увлечениях, которых было много, начиная со школы. Женщины влюблялись в него постоянно, поддаваясь его непонятному обаянию, основанному на лени, дерзости и загадочности. Ну, и, конечно, душевной неуязвимости. Но он, по его словам, никогда не хотел перевести эти отношения в брак.
– Я не хочу быть ничьей собственностью, – резюмировал он спокойно.
– Только своей? – съязвила Матильда.
– Перестань!
– А что: полюбите самих себя – Ларошфуко говорил. И вы больше не будете знать неразделенной любви.
Он вдруг разозлился.
– Если ты так будешь реагировать, я вообще не буду разговаривать. Что это за манера – все время подкалывать?
– Ты же сам ее любишь, по отношению к другим.
– Другие и есть другие. Что, начнем упражняться на себе?
– Тебе кажется, что я тебя задела? А ты меня?
– Чем?
– Судя по твоим словам, даже друзья имеют больше прав друг на друга, чем я на тебя.
– Это другое. Ты же понимаешь, любовь затягивает гораздо глубже. Друзья имеют естественную границу между собой. А в любви люди почти сливаются. А люди все же разные, хотя, может быть, это сразу не видно.
– А ты не хочешь сливаться, хочешь держать границу? Что ж, очень приятно.
– Это для всех лучше. Когда любовь кончится, нас не будет ничего связывать, в том числе, долг. И мы мирно, без трагедии разойдемся.
– И ты уже предчувствуешь это, наводишь мосты?
– Да нет, что ты, дорогая! – Он гладит ее по голове.
– Тебя надо было назвать не Эстет, а Эгоист. – И тоже погладила его по голове.
Таких разговоров было между ними не много, но они все же вновь и вновь возникали.
Сперва она заметила, что он не так уж любит ходить в гости, то есть проводить много времени среди братьев. Потом она поняла, что он любит ходить в гости один. И не совсем в те, куда должен был бы ходить. В тех своих гостях он мог спокойно выпить, сыграть в преферанс и совсем ни о чем серьезном не говорить. А она не могла молчать. В любом обществе она вечно затыкала всем рот. Ей всегда было что сказать.
В грустные минуты Матильда вновь вспоминала про свой аборт. Это уже было непоправимо, да и она сама пользовалась результатом, и было бы лицемерием говорить, что ей было хуже, чем ему, в чем-то пусто, скажем. И все же какая-то кошка, почти незаметная, между ними пробежала. Во всяком случае, Матильда ее заметила, а он нет. Как воспринимать аборт? – у него была теория на этот счет. Она же – помнила, что убила будущего человека, может быть, прекрасного и талантливого, так же могущего жить и смотреть на мир, как сейчас глядят на него они, кому Бог, может быть, даровал богатые возможности – и все тщетно. И еще она знала, что этого ребенка, первенца их любви, у нее уже никогда не будет, даже если будут другие.
Как она могла ему доверять, если он не был мужем, а лишь, по существу, приятелем, другом, даже менее того, потому что мог оставить ее в беде, во всяком случае, в беде ее совести, а друг бы не мог? Если же он муж, то почему у них нет семьи, почему они не могут рискнуть даже на самое незначительное неудобство?
К тому же сожительство с «маман»… Это молчаливое безлюбое соседство, уверенность, что твое общество раздражает... Проявления почтительности, комплекс младшего, не совсем полноценного, к тому же пребывающего как-то не совсем законно не на своей территории… Маман не смела возражать Эстету, давить на него. Но к Матильде относилась не с большей теплотой, чем к птичке, если бы сын ее завел. Кроме сына она не любила никого.
Эстет ничего не замечал или не хотел замечать, как не замечал ничего, что могло потревожить чуткую совесть. Ее раздражение он объяснял ее неуживчивостью и женской неуравновешенностью, ищущей причину беспокойства вне себя.
– Перестань. Я понимаю, это все из-за квартиры. Тебя же никто не сгоняет, разве нет?
– Прости, причем тут квартира?
– Тебя беспокоит, что мы не так живем.
– Мы живем как буржуи, на чужие деньги. Едим ее еду.
– А что такого в ее еде?
– А как она смотрит на наших друзей?! Я каждый раз дрожу, когда они приходят! Она так глядит, как будто мы ее насилуем! Я как вижу ее, так чувствую себя фашистским захватчиком…
– Не преувеличивай.
– Я говорю правду.
– Ладно, чтобы тысячи раз не вести эти разговоры, переедем к тебе.
– С ума сошел?
– Что же ты хочешь? Трудностей?
Эстет трудностей не хотел. Она не знала, как он поведет себя в трудной ситуации. На самом деле – знала, но решила, что это случайность. Что информация нуждается в проверке. К тому же сама была виновата не меньше его. И изо всех сил старалась это забыть.
Она стала убеждать его в преимуществах снимаемой жилплощади перед коммунальным жильем с матерью Эстета – в этом замечательном районе. И из-под пальцев стали множиться бумажки с объявлениями, где они предлагались, выпрашивали, отдавались. Развешивая в Банном переулке свои дацзыбао, они видели, что были далеко не единственными в этом несчастном слаломе и не рассчитывали на особенно быстрый успех. Однако через некоторое не очень большое время им позвонили и предложили квартирку в дальнем районе Зябликово (свят-свят!), потребовав за это полсотни.
Они приехали туда смотреть. Посреди поля стоял отстранившийся от всех дом, к лесу передом, к городу задом, высокий и унылый. Вдали чернел лес, и низкое зимнее небо навалилось на плоско тянущиеся под снегом окрестности. Это был почти загород, но в отличие от нормального честного загорода, пространство тут не было согрето жильем, пейзаж оставался голый, дикий, не расчлененный на части ни жизнью, ни практикой, ни тем более поэтикой.
И Эстет с Матильдой с радостью на эту квартиру согласились.
Требуемый аванс они взяли у его маман. Договорились о переезде, запаковали кое-какое имущество (собственно, ничего своего у них тогда не было: несколько десятков книжек и шмоток). Потом, отдельно, с муками, привезли архитектурную доску: Эстет же вознамерился стать знаменитым архитектором. Непонятно, впрочем, как – в данных условиях.
У них был последний этаж, окнами в поле. Телефона в квартире не было, продукты надо было покупать заранее, а до автобусной остановки идти почти полчаса. И столько же, даже больше, ехать до метро.
Во всем остальном все было превосходно.
В первый же месяц у них потек потолок, потом полетела электропроводка, и полгода они жили без света в кухне и ванной, так как мастера было достать не легче, чем на Луне.
Рядом с домом был овраг. Жильцы туда сносили мусор. Когда поднимался ветер – оттуда сильно воняло, хотя и не доставало до их подоблачного этажа.
В не очень холодные дни они, словно дачники, ходили в лес. За домом было поле, которое местные жители использовали для своих нужд, еще дальше протекал ручей, не замерзающий даже в мороз. А потом уже окружная – и новая неисследованная земля, terra incognita.
Еще у них был балкон – довольно большая лоджия, на которой с началом весны они проводили много времени. Сюда к ним таскались самые смелые из приятелей, с которыми они курили, много пили (особенно, когда приезжали его новые друзья, полубогемные алкоголики), болтали и слушали музыку. Иногда играли в зимний футбол, веселый, как езда на санях. Надо все же признать, что еще никогда они не тратили время так бессмысленно и хорошо.
Зимой они редко сидели дома, а прямо из своих колледжей, легкие и веселые, ездили к друзьям и поздно возвращались, часто на такси, потому что ничто уже не ходило или не было сил ждать на промозглом ветру. Однажды, целый час дожидаясь своего непунктуального возлюбленного на двадцатиградусном морозе – она заработала цистит, от которого уже не могла избавиться всю жизнь.
Звонить ходили из телефонной будки, для чего надо было форсировать заснеженное пространство, отделяющее их от материка ближайших дворов, где еще требовалось отстоять очередь. Впрочем, в импортной австрийской дубленке (больше декоративной, чем теплой) с большим отороченным белым мехом капюшоном, обмотанная длинным вязанным шарфом до земли, в голубых клешенных джинах – она и зимой хорошо смотрелась, – и вообще любила зиму.
К нему ездила маман. Наполненность холодильника свидетельствовала о процветании. Поэтому перед ее нашествием он засовывал в их сломанный холодильник хоть что-нибудь в предчувствии бед глобальной ревизии. Ей, наверное, было бы очень грустно, если бы сын каким-либо образом доказал отсутствие прежней нужды в помочах.
Иногда – на такси – приезжала ее мама. И тогда им приходилось изображать светскую беседу, глупо в конце концов ругаться и напоследок просить не оставлять продукты и деньги. На самом деле – жили страшно бедно, в основном на макаронах, иногда даже без масла (то есть – всегда без масла, но иногда даже без маргарина в них), и холодильник им просто был не нужен. Избалованного Эстета это, как можно догадаться, ничуть не смущало. Лишь от пустых банок и бутылок не было проходу.
Честно говоря, никакого проку от этого собственного жилья не было. Лишь тот, что она первый раз жила одна, в своей квартире, безалаберно и свободно, как она всегда мечтала.
И регулярно к концу месяца у них выходили все деньги, и последнюю неделю они наваливались на эти самые пустые макароны. Их две стипендии составляли восемьдесят рублей… Тратили же они деньги безоглядно: пытались украсить квартиру, покупали вино, принимали гостей и часто ездили на такси. Поэтому им регулярно приходилось одалживаться у родителей.
А потом у нее обнаружилась киста – и на десять дней она загремела в больницу. Удивительно: за это время Эстет навестил ее всего раз – в компании приятелей. И исчез. Якобы, было много учебы. Когда она вернулась в Зябликово, то решила, что в их квартиру влетел и разбился маленький самолет: бутылки валялись на полу, стол и мойка забиты грязной посудой и окурками, пол, стены щедро политы портвейном, грязная постель нараспашку – и никаких следов любимого. Замечательным было то, что к ним должна была приехать хозяйка квартиры – за деньгами, которых тоже не было.
Едва Матильда успела перерисовать батальное полотно в веселенький натюрморт: перемыв, спрятав, почистив, выбросив в мусоропровод, – открылась дверь. Роковая Татьяна Петровна стояла на пороге комнаты и с ужасом смотрела на только что восстановленное пространство.
– Что вы тут учинили?!
– А что? – невинно спросила Матильда, оглядываясь. Ей-то казалось, что все здесь идеально.
А когда хозяйка узнала, что и денег, за которыми она ехала в такую даль, она не получит, то настоятельно предложила им немедленно съезжать. Лишь слезный рассказ Матильды о больничных злоключениях немного умиротворил ее: как, такие вещи в ее возрасте?! Женская солидарность перед превратностями мира взяла верх, а когда через несколько дней деньги были привезены ей той же Матильдой на дом, вопрос был снят. С хозяйкой, но не с Эстетом.
Нет, она не устроила скандала, она ждала до последнего. Первый блин (с половиной, с веревочкой), который комом. Он, оказывается, все эти дни ночевал у матери. И вдруг явился, вдрызг пьяный, ночью на такси, что-то пробормотал, как бы объясняя ситуацию, поцеловал руку и рухнул недвижным телом на кровать.
Ей показалось, что за время ее отсутствия он стал другим человеком. Похожим на стриженных приятелей, только пока еще с волосами.
IV. HEY, DIDLE-DIDLE
На кухне большого серого дома две женщины.
– Я не задаю себе вопрос – почему? То есть не пытаюсь ответить: это естественно или это неестественно? Я всегда знала, что из всего вылупится цыпленок, который не захочет с тобой жить.
– Да-да, мотылек сам полетел обжечь крылышки – уж как водится.
– Они вроде беременны своим взрослением, их ничем не остановишь.
– На горе матери.
– Но что же мне делать, если она во мне больше не умещается? Она могла бы свить гнездо поближе, а не наведываться раз в месяц, ничего о себе не сообщая. Она обзавелась своим мирком и тщательно оберегает его. Даже от меня – нет! – только от меня!
– Да, но это нормально, хотя я понимаю, как тебе тяжело. Это ужасно! Но она хочет доказать, что может сама, что она уже взрослый человек. Ей, наверное, нужна, как у нас в химии говорят, чистота эксперимента. Ей важно попробовать, а прекратить она может его в любой момент.
– Она? Ты ее не знаешь! Это же такой Эльбрус упрямства! Нет, она назло мне не прекратит!
– Успокойся, может быть, ты ошибаешься. В конце концов, многое она унаследовала от тебя.
– Вот это и ужасно. Но ей это не кажется ужасным, дуре! Надо всего получить сполна!
– Ну, успокойся. Чем она интересуется?
– Ничем, по-моему, всякими пустяками.
– Она у тебя такая умная.
– Ну, да, нахваталась по верхам.
– Чего ты от нее хочешь?
– Чтобы развивалась: no progressi est regressi.
– Думаешь, она не развивается? Может, ты просто не замечаешь?
– А как мне заметить? Я на нее привыкла глядеть глазами заботы, а тот, с которым она теперь, тоже привык, чтобы на него смотрели глазами заботы. Но заботу же они и ненавидят. Заботу и внимание, пока она есть – пока они сами о ней не попросили. Знаешь, мне самой надоело двадцать лет быть стражем.
– Да, я тебя понимаю. Пусть уходят, обособляются, но пусть хоть чуть-чуть оставляют у себя места для матери. Это спасение, что появляются внуки. Теперь я более-менее признана ими за человека. Митька мой как ерепенился, а теперь звонит: мама, нас пригласили на день рождения, может быть, ты посидишь?
– Дай Бог, чтобы все так и было. Но мне кажется, она вернется с внуком или без, но за непроницаемой стеной.
– О, дети все скрасят!
– А если она отчается?
– Нет-нет, поверь мне. Вспомни себя, это делает такой земной.
– А она такая заоблачная. Я этого-то и боюсь.
Она никогда не предохранялась, полагаясь, по своему легкомыслию, в этом вопросе на случай и Господа Бога. Зачем-то это было придумано природой, чтобы после известных вещей появлялись дети? Зачем-то она была создана женщиной? Она не хотела бунтовать против законов природы. Природа была еще пока (с оговорками) на ее стороне. Жизнь была милостива. И не справедливо ли расплачиваться чем-то за получаемые удовольствия? А, с другой стороны, не есть ли дети – вершина и материальное подтверждение любви двух людей? В этом пункте она была совершенно традиционна.
Похоти, полового влечения она никогда не испытывала. Поэтому была уверена, что не могла бы изменить человеку, с которым живет – раньше, чем окончательно разлюбит его и с той же силой полюбит другого.
Свободная любовь, или, менее романтически, промискуитет, – были совершенно не для нее. Ей нужно было долго приучать себя к человеку и долго привораживать его к себе, пока любовь к нему, желание его видеть, потребность в нем станут непереносимы, когда они испытали уже все: разговор, молчание, невинные проявления нежности, опасности и избавление от них, а волна восторга все не спадает – вот тогда у них может (и даже должна) быть постель. Как взятие последнего бастиона эго, отделяющего их друг от друга.
Секс был для нее только инструментом, простым крепежным механизмом самой романтичной любви. В нем не было никакого специального смысла и сладости. С помощью него она могла приблизиться к другому человеку, отдаться ему вся, показать свою любовь, раствориться в нем. Это был опыт отказа от себя и постижения другого. Может быть, она была фригидна.
Что такое любовь: это когда ты сдался, когда ты пускаешь другого человека в себя, не боясь, что он разорвет твою жизнь, когда сам становишься им, забывая в нем о себе. Когда ты чувствуешь его, как себя, и готов заботиться о нем, как о себе. Или, точнее, заботиться о себе, став им. Даже когда ссоришься с ним, даже когда ты обижена на него – тебе приятно на него смотреть. Счастливым можно быть только через доверие, когда не боишься никаких засад. И каждое утро она вставала счастливая, словно ждала чего-то приятного в своей жизни.
Но, вопреки своей "фригидности", а больше – благодаря неумеренной потенции своего возлюбленного, желавшего делать это как можно чаще, в начале весны она поняла, что вновь забеременела, и на этот раз наотрез отказалась делать аборт. Было много споров и слез. Предстояли большие расходы и изрядные нервы. Его жертвы не обсуждались, но как-то подразумевались. Ее мать уговаривала закончить Университет. Друзья, значившие так много, книги, отнимавшие столько времени и денег, летние путешествия, о которых они так мечтали, все должно было подвинуться.
Больше она не принимала ничего возбудительного и даже пробовала бросить курить. Она стала плохо себя чувствовать, у нее появились соответствующие вкусы и изменилась фигура. Она начала читать доктора Спока и книги по медицине. Реже стали ходить в гости и приглашать друзей – все было для нее тяжело. Он полюбил уезжать один, в какие-то разные места, где несколько раз чудовищно напился. Ссоры сделались правилом. Денег ни на что не хватало. Все чаще приходилось ездить к родителям, и это было стыдно. Они и так уже очень много для них сделали. От планов вернуть им деньги не осталось и намека.
Эстет тоже стал читать книги о воспитании детей, чтобы пробудить в себе хоть какое-нибудь чувство к этому новому существу, вздумавшему его осчастливить... Но чувство не пробуждалось.
В легком и бесцельном движении начались перебои... У него было много учебы, много друзей из обычной студенческой среды, мечтающих исправить скуку овладевания знаниями вечерним пивом и портвейном. Ему было там интереснее – и он стал регулярно отсутствовать. Хиппари иногда заезжали к ней, или она к ним. Теперь она общалась с ними чаще, чем он.
...Как грустно сидеть одной. Бегут прохожие, а тебе никуда не надо. И заочно все знаешь. Понадобилось не так много времени, чтобы узнать все заочно. Во многой мудрости много печали, а я не герой. И он не герой. Эта квартира не для героев. И можно все заочно бросить.
А прохожие все бегут. Они не понимают, что они не герои? Или им – все равно? Они не хотят быть героями. Что же у них есть такого? Опыт и способность различать полезное и вредное? Господи! Жизнь человека так удивительна, когда взираешь на это с четырнадцатого этажа!
Я беременна. Странное слово. Большое и теплое. И страшное! Словно я лечу: приятно и страшно. Может быть, я лечу в поезде под откос.
А захочу я есть? Начнутся муки. Какой едой мне их унять? В каком количестве? В какой обстановке? Жалкая крыса квартиры. Жалкая крыса города. Всемогущая крыса города! Свободная крыса города!
Нет! Он придет, и для него меня хватит. А на потом? Надпись на камне: жила такая-то крыса. По пути наименьшего сопротивления после тебя – чистый лист. По пути наибольшего – вовсе нет жизни! Вспомнишь миллион лиц и бесконечный бой со всеми ними. И все ради путешественника, вышедшего на чужую дорогу. О, великие доброхоты, загубившие себя по мелочам! Вы бескорыстно устроили наше будущее, ничего о нас не подозревая. Даже и в расчет не беря. Великое бескорыстие! Никто из вас из всех не думал, что появлюсь я, и что мне нужны будут рецепты – но не ваши! Больная, больная, белены объевшаяся!
Вот ты придешь, а я останусь одна. Ты не заменишь мне весь мир. Всего, чем я не обладаю. Бегут, рвутся! Ажиотаж! Да, ну их, право! Что я найду, кроме себя? Нужно ли мне это? В наименованиях ли дело? Гнаться за чем-нибудь? Значит, признать свое отсутствие. Да!
А где не отсутствие? И почему я не отсутствую здесь? Потому, что я это я. Там не я, и там не я. А тут я. Неужели только тут – я?
Дверь! Вот ты пришел. А зачем ты пришел? И зачем ты устал? Разве я праздная? Нет, я просто одинокое я.
Где я? Я здесь.
– Я здесь!
Вот он. След от самолета. Пятый, шестой...
– Привет, как твои дела?
Дела как дела. Конечно, так и есть. Я этого и боялась. Но могло быть и хуже. Это он говорит: могло быть и хуже. Он – с юмором, но сейчас ленится. У него прелестные глаза. И такие тонкие пальцы. Он чертил всю ночь проект. Я ничего в этом не понимаю, но мне интересно на это смотреть. Больше, чем с другими женами сонно трепаться о пустяках. Он отличный архитектор. И знает массу имен. Как он удерживает их в голове? А вон стоят альбомы: Дега, Пикассо, Магритт. Кажется, нет ничего лучше живописи! Сейчас он все реже этим занимается. Это я виновата. Я? Какой мир открыт ему? Он завладел одним из эфиров. Он распространил себя. А я ничем не владею. И во мне только аппетит и лень. И теперь еще... Но, может, это и к лучшему.
Глупо, по привычке, засеменила перед дверью троллейбуса.
Стены лифта испещрены цивилизованными петроглифами. Слова, только слова. Рисунков нет. Человек удовлетворился словами. Они бесформенны и единообразны. Рисунки требуют техники и дарования. Слова общи и неприхотливы. В них может высказаться любая невзыскательная мысль.
Плитки пола по коридору плавают под ногами. Газоразрядная лампа гудит в одиночестве. Родной преддверный особый острый дух. Мать на кухне. Шипенье сковородки. Запах масла. Вопрос. Ответ. Сумка ставится на тумбочку. Ожидание.
Мать: два острых глаза, заранее прицеленные в лицо. Не предполагается ни неизвестный великан, ни карлик. Через секунду в глазах два чувства: нежность и требование.
– Где твой берет?
– Я не взяла. Тепло.
– Тепло? На улице... (приводятся метеорологические данные.)
– Ну и что? Мне все равно тепло.
– Ты всегда была упряма. И слишком легкомысленна.
В глазах недоумение и обида. Уходит на кухню. Дочь начинает снимать пальто. Оно влажное. Вешает как всегда на запретный крючок, а не в шкаф. Достает из сумки кулек. Смотрит в зеркало. Там придирчивые глаза, заурядный салатовый свитер. Все то же самое, и очень мало информации. Проходит на кухню. Мать у плиты занята медленным кружением ложки. Взгляд на раскрытой поварской книге.
– Я привезла вам конфеты.
– Зачем? Мы мало едим конфет. К тому же у нас есть. Возьми себе. Ты же знаешь: Анатолий приносит.
– Не надо, у меня есть. Я вам купила. Съедите когда-нибудь.
– Но у нас есть. Можешь посмотреть в шкафу.
– Это очень вкусные конфеты. Я специально их выбрала.
– Анатолий тоже приносит очень вкусные конфеты. Ты же знаешь: у него буфет.
– Ничего. Теперь съедите мои.
– У тебя и так мало денег. Зачем ты нам покупаешь? Покупай себе.
– У меня все есть. Ты сама учила приезжать с гостинцами.
– Да, но дочь может подождать снабжать мать гостинцами, когда у нее у самой нет денег.
– У меня есть деньги. Не будем об этом. Я могу чем-нибудь помочь...
– Не надо. Сядь. Мне не трудно приготовить самой.
– Хорошо, я заварю чай.
– Не надо. Чай я тоже заварю сама. Но вначале я дам тебе салат.
– Не надо, я сыта.
– Я знаю, ты всегда сыта. Но все-таки поешь немного салата. Очень вкусный. Я специально готовила. Потом будем пить чай.
– Где Анатолий?
– Ездит по магазинам. Обещал скоро быть. Садись, пожалуйста! Я не могу смотреть, когда ты неприкаянно стоишь!
Уже после салата и чая, когда дед ушел смотреть телевизор, а Анатолий сел за работу, она спросила у матери:
– Ты никогда не интересовалась им, почему?
– Это твоя жизнь, зачем мне в нее вмешиваться?
– Тебе совсем не интересно?
– Я думаю, ты способна выбрать себе спутника жизни, чтобы тебе не требовалось мое участие. К тому же ты сама обставила это какой-то дикой скрытностью. Что ж, твое дело.
– Я знаю, тебе просто безразлично, кто со мной!
– Это неправда! Ничего в жизни мне не интересно более, чем ты!..
Прощаясь в дверях:
– Вы собираетесь жениться?
– Что это ты вдруг?
– Это, конечно, не мое дело…
Матильда промолчала, подтвердив: не твое.
– Ты какая-то грустная. Что случилось?
– Ничего, мама, все в порядке.
– Позвони, когда приедешь.
– Хорошо, – со вздохом. "Откуда, она считает, я буду звонить?"
И подумала в лифте: мама ничего не заметила.
– Ну, как съездила? – спросил Эстет, развалившись на диване с книжкой. Диван был без ножек и стоял прямо на полу. Рядам на полу же недопитый портвейн. Привычный невыветриваемый запах. Где он, черт, достает, рядом ни одного магазина! Вот на это у него силы есть!
Она знала, что его интересует: удалось ли надыбать монет?
– Денег я не просила.
– Почему, гордая стала?
– Не стала, а всегда была. Иногда я могу взять, когда предлагают. Если ты так переживаешь о деньгах, мог бы не покупать портвейн.
– Это наезд?
– Это констатация.
– Так просто поговорили?
– Нет.
– Скрываешь?
– Нисколько. Неинтересно. Спросила, не собираемся ли мы жениться?
– Она этого хочет?
– Не уверена.
– Она знает?
– Думаю, нет.
– Она считает, что я тебе не подхожу. Да?
– Не знаю, не выясняла.
– Может, она права, как ты думаешь?
– Когда ты говоришь в такой дурацкой манере, то, конечно, права.
– Ты, конечно, замечательная, но характер у тебя скверный.
– Скверный? Чем же?
– Ты все время дерзишь.
– Я просто не люблю слабых мужчин, я хочу, чтобы они знали, чего они хотят.
– Если б кто-нибудь мог это знать!
– А ты не знаешь?
– Да, мужчина хочет женщину, но ведь тебе нужно не это знание.
– Это пошлость, а не знание.
– Это истина. Все остальное сомнительно.
– Значит, тебе все равно, какая женщина?
– Нет. Только самая лучшая, вроде тебя. Но ведь я не могу хотеть тебя все время. Ой, я кажется!...
– Замолчи!.. Ты можешь хотеть жить со мной все время.
– Я и хочу.
– Но иногда мечтаешь тайно смыться. Я права?
– Когда ты слишком права. Не все такие правильные и самоотверженные, как ты. Мне много надо, у меня много желаний.
– Я тебе предлагаю себя. Уже не первый раз. Разве этого мало?.. Когда-нибудь ты пожалеешь.
– Ну-ну, мы же еще не разводимся? – Он сел, улыбнулся, лениво бросил книжку. – Слушай, мне тут надо съездить к одному чуваку…
– Опять на всю ночь?
– Нет, он хотел показать один альбомчик по архитектуре. Фазер привез. Мне нужно для курсовой… Я уже обещал. Хочешь, поедем вместе.
– Нет, я устала.
Он не вернулся домой, ночевал у мамы. До нее было ближе. Картина стала вырисовываться. Они говорили по телефону: семья на расстоянии, как пошутил он.
– В конце концов, может, тебе совсем остался там, навсегда? Там все же спокойнее и до френдов ближе… – выпалила она и повесила трубку.
Он тут же приехал, переночевал, уехал днем в институт – и не вернулся. Позвонил от матери лишь утром. Он опять делал курсовую, потом немного выпил с друзьями – и было поздно возвращаться. Она не допускала, что он ей изменяет. И все же не могла терпеть его постоянной нечестности. По его словам, им опять придется провести день порознь: курсовая в институте на всю ночь, потом он поедет спать к матери.
Это было уже слишком. Она позвонила в дверь. Ленивые шаги по паркету. Он открыл ей и удивился.
– Ты?
– А ты кого ждал?
– Почему не предупредила?
– Сюрприз. Хотела посмотреть, как ты живешь? Без меня.
Матери не было. Он предложил ей чаю. Сам как всегда пил портвейн. По его словам, он тут вовсю делал курсовую. Метровая доска и правда имелась, одна из нескольких, ибо он любил размах. Они даже занялись любовью, хотя ей было тяжело.
– Вот когда я тебе интересна, – сказала она, выбираясь из скомканного белья.
– Неправда.
Она сходила в ванную, на обратном пути налила себе холодного чаю.
– Правда, – продолжила она. – Друзья или не знаю кто – тебе интереснее.
– Друзья мне по х-ю.
– Не ругайся!
– По это самое место.
– А что тебе не по это самое место?
– Все.
– Что все?
– Ты сердишься, что я серьезно к этому отношусь? Ты бы хотела, чтобы я думал: а, пусть будет как будет?
– Ты к себе серьезно относишься, к своим интересам.
– А к твоим?
– А каковы мои интересы?
– Я не знаю.
– Вот видишь. Ты все еще не знаешь.
– Ты же сама не знаешь, зачем ты это делаешь.
– Что?
– Ты знаешь! Ребенок!..
– А! – слово сказано!..
– Конечно.
– Если ты так не хочешь...
– Ведь не это нас держит вместе, правда?
– Правда.
– Я хочу, чтобы все было между нами честно. И никому не в тягость.
– Главным образом, тебе. Чтобы в твоей жизни ничего не менялось. Оставаться для всех славным свободным парнем, каким ты мечтаешь быть. А то семья, роль мужа, отца – это же ответственность, это скучно. И даже тяжело.
– Вот видишь, ты сама понимаешь.
– Но я же не боюсь! Почему ты боишься?
– Ты – другое дело. Ты женщина. Ты видишь в этом смысл.
– А ты не видишь? Ну, хорошо! Я хотела создать с тобой настоящую прекрасную семью. Где мы трое были бы как одно. Против всех, если понадобится. Ты сам не захотел. Теперь мы будем вдвоем как одно, и будем счастливы – без тебя.
– Ты что, Марго!
Она встала. Оделась и спокойно направилась в прихожую. Он вскочил и кинулся следом за ней.
– Ты куда? Ты что надумала? Обиделась?
– Нисколько.
– Ну, а что тогда?..
Она надела пальто. Взялась за антикварную ручку. Он оперся на дверь плечом.
– До свидания. Открой дверь.
– Подожди, так не годится. Ну, да, я сейчас еще не готов становиться отцом, но что это меняет? Останься, Марго. Честное слово, нас ничто не заставляет расстаться друг с другом. Это так не часто бывает.
– Не держи, пожалуйста, дверь.
– Рита, ну перестань! Ну, я виноват. Но зачем же сразу уходить? Честное слово гладиатора, нам не из-за чего ссориться! Послушай… Я не могу тебя потерять! – он пытался шутить.
– Пусти меня, я хочу уйти!
– Ну, ладно, как хочешь. Только это глупо, честное слово. По-детски. Так у нас было everything all right.
– Это у тебя было everything all right...
Она открыла дверь и стала спускаться по лестнице. Потяжелевшая, слегка неуклюжая. Ему стало как-то неловко.
– Приходи на Пасху, слышишь, Марго? На Пасху приходи! Двадцать шестого! Будет очень здорово. Будет масса интересных объектов, слышишь? Приходи обязательно!
Он сам не знал, что говорит! Как "приходи"?! Как подружка в гости? Значит, все и впрямь кончилось, и он бессознательно это проговорил. Этого она не могла простить!
Звучные лестничные шаги оборвались в парадном, превратившись в легко удаляющиеся уличные.
Он закрыл дверь, постоял в задумчивости в прихожей и вернулся в комнату за стол под абажуром. Посмотрел на недопитую чашку. Ее чашку. Подумал: “А все-таки я свинья. Но, может быть, все к лучшему...” Вышел на балкон покурить. В эту ночь со скуки он лег рано.
Он более-менее не сомневался, что она его любит. И что дело не в ней, а в нем. Что если сможет без нее – хорошо. Не сможет, ну, что же, переиграем. Он удивлялся, что о ней не было ни слуху ни духу. Летом он отлично покатался автостопом и на поездах по Украине и Прибалтике. Маман равнодушно сообщила, что Рита не звонила. И она явно была этому рада.
Он позвонил первый. Потом приехал. Много красочно рассказывал про то, что должно было быть их вдвоем путешествием. Они даже спали вместе. Но она уже поняла. Что дело совсем плохо. Что мужчина, вероятно, вообще не знает, что такое любовь и привязанность. Она видела, что он сможет без нее. Что она так и не нашла ключа к его странной душе.
И наконец она поняла все.
– Помнишь, я тебя спрашивала, что я для тебя? Мне это действительно было важно знать. Теперь уже нет. Мы долго жили друг с другом. Если бы это была случайная и быстрая связь, я бы ни о чем тебя не спрашивала. И ничего бы не хотела. Но в какой-то момент я поняла, что... люблю тебя по-настоящему, и что если у нас – настоящее, то... мне важно принадлежать этому человеку целиком. Полностью ему довериться. И мне важно было, чтобы и он мне полностью доверял. Я спрашивала тебя, я хотела увидеть, что я для тебя – что-то важное и обязательное, и уже неотделимое от твоей жизни. Но ты не пустил меня в себя. Ты хотел сохранить независимость. Ты мне не доверял. А как я могла любить человека, который мне не доверяет, который любит меня вполсилы? И я стала относиться к тебе так же. Тоже стала расходовать на тебя только часть души. Сперва по инерции еще большую часть, потом все меньшую. А потом ты вовсе стал мне безразличен. И не нужен. Зачем рядом живет человек, к которому ничего не испытываешь? Ты сам убил мою любовь...
– Ты хочешь, чтобы я ушел?
– А ты не хочешь? Зачем я тебе? Я знаю, многие люди так живут всю жизнь. Но я бы не хотела так жить. И не буду. Я хочу, чтобы ты это знал.
– Не нервничай. Давай отложим этот разговор (он имел в виду: дождемся рождения ребенка). А там поглядим. Это же все-таки мой ребенок.
– Ты думаешь, если я рожаю ребенка, то должна любить его отца? Я его рожаю не для тебя. Тебе он не нужен. И даже не для себя. Я его рожаю для него самого.
Однако он приходил в роддом почти каждый день и писал очень трогательные письма.
Потом были роды и – мальчик, три шестьдесят... Семья тактично молчала, но и не помогала...
Зато тусовка спешила поглядеть на младенца. Не так много было еще в ней детей. Матильда все делала скорострельно. Теперь ее даже повысили в звании, окрестили Матильдой, с аллюзией на Pink Floyd.
Они еще несколько месяцев прожили не то врозь, не то вместе. Он приходил домой все позже, почти всегда пьяный, а если был трезв и дома – занимался всем, чем угодно, кроме ребенка. А однажды он явился не очень трезвый, но наголо стриженный. Сказал, что попал в менты, где его обхайрали. Для ментов его обхайрали как-то слишком аккуратно. И все же она очень его жалела, последний раз. Как он изменился, стал совершенно не похож на себя! Не похож на того молодого бога, которого она любила. Стал похож на каждого. В лице даже появились тяжелые отцовские черты, наследие рода, как он их называл (его отца она видела только на фото), которых раньше она не замечала.
А чуть волосы отросли – он снова их сбрил. Ему, мол, так больше нравится. Он сделал это нарочно – чтобы доказать, как безразличны ему его прежние догмы, его друзья, что он движется своим путем, что он меняет путь. Волосы оказались ложным опознавательным знаком, давно не удовлетворявшим его, сам он видел себя кем-то другим…Это было последней каплей. Ей казалось, что если человек способен предать великую идею, к тому же так быстро, – он мало чего стоит. За верность идее она могла простить человеку какие-то недостатки, но когда в человеке нет ничего, кроме него самого, к тому же довольно сомнительного, – зачем жить с ним? Она все еще была максималистка…
Очень редко, не чаще раза в месяц, он приезжал, посмотреть на ребенка, поболтать с Матильдой на кухне. Даже привозил какие-то деньги. Ребенок ползал у его ног и не называл никак.
Приятные, уютные, домашние звуки в будний день: звон посуды, плеск воды, звонок телефона. Знаешь, что люди живут, что они спрятались в покой, что сейчас они осуществляют редкую радость простой жизни.
В свободное от младенца время – ничего абсолютного.
Hey, didle-didle,
The cat and the fiddle.
The cow jumped over the moon,
The little dog laugh to see such fun
And the dash run away with the spoon…
– читала она Гору детские стишки, погружая в сон.
Она рисовала Дятла, Собаку, Чучело, Солнце, Кита и Кота – и так далее. И все у нее были с закрытыми глазами. Словно все они хотели спать, как она сама.
Больницы, роддома, очереди к педиатру, гинекологу, в женскую консультацию, часовые перетирания с подругами по телефону или на детской площадке, так ненавистные мужчинам – вот источник, где женщина черпает мудрость. Ее бытие становится наполнено, экстремально и несвободно, как у зека в зоне. И у этого заключения нет срока. Но как бы ты ни злилась, как бы ни уставала, ты сама не выйдешь на свободу, ибо нет таких дверей, которые в нее отпускают. То есть, двери-то есть, только думать о них не стоит.
Она стала с особой чувствительностью относиться к смерти детей. У Толстого в “Анне Карениной” описание на пол абзаца. И билет хочется вернуть сразу. Они же такие беспомощные, доверчивые, так насмерть связанные с нами, сильными – и мы их предаем. Зачем они так рано уходят – только появившись, ничего не увидев – и уже настрадавшись? – думала она. – Лучше любой позор и бесславие, чем мучения умирающего ребенка – это она знала точно.
От мрачных мыслей и одиночества она спасалась в компании знакомых хиппарей.
– Ребенок – это не страшно, – учил Стрейнджер. – Плодитесь и размножайтесь! Мы должны любить детей. Наши дети становятся как бы общими. И всем хорошо, ты врубаешься?
Чисто теоретически это был важный пункт, и она чувствовала это. Хотя все это было как-то недосказано. Что значит “общий ребенок” – всей тусовки? Устроило бы ее это? Все будут с ним играть, гулять, кормить, мыть в тазу? Стрейнджер, например, с детьми играть умел и даже хотел: хотя все получалось несколько шумно и как-то неестественно, как у разведенных отцов со своими детьми. Но в глубине души она была готова пожертвовать в тот момент даже интересами ребенка, если бы все остальное было замечательно.
Но тусовка приходила и уходила, неуловимая, как морская волна, и она оставалась у своего корыта, без рыбки и даже без старика.
С мрачным удовольствием она стала принимать ухаживания одного скромно-наглого мальчика с ее бывшего курса, Эбби-Бейби, стихийного полуволосатого, внука известного писателя, затесавшегося на этот бабский факультет. Довольно образованный, изломанный, капризный, он напоминал ей Щелкунчика. Типичный вечный студент. Пять раз выгонявшийся из Универа за пьянство и хвосты и пять раз восстанавливавшийся. Он приезжал почти каждый день, ходил с ней гулять, рассказывал университетские сплетни, что там происходит без нее, и все норовил остаться ночевать.
…И вот однажды он своего добился… Просто метро закрылось. Она постелила ему на другой кровати. Зря старалась: посреди ночи он вдруг очутился в ее – и она не сопротивлялась. Это как-то даже потрясло ее. Он взял ее слишком быстро, слишком резко, будто боялся, что птица передумает и улетит. Она бы хотела, чтобы первым мужчиной за большое время был более тактичный человек.
Почему из этого ничего не вышло? Она не только не получила никакого удовольствия. Она поняла, что не может делать это без любви. Что лишь любовь превращает физиологию в реку растущих из грязи лотосов. То, что она испытала, напоминало попытку разжечь огонь мокрыми спичками.
Бейби был, однако, другого мнения – и стал еще более настойчив. Она пыталась говорить с ним, понять его, чтобы, может быть, полюбить.
Она говорила, что мало брать на себя инициативу, надо отвечать за последствия, а последствия всегда будут. Пловец, далеко отплывший от берега, не может вдруг сказать: все, я устал, не фига назад не поплыву. Любовь – это не удовольствие, не что-то простое и естественное. Это тяжелый забег. Ей надо учиться, как игре на каком-нибудь музыкальном инструменте. Лишь, может быть, потом наступит свобода и радость.
Любовь, брак был для нее – страна двоих, монастырь для двоих, за стенами которого ничего и никого нет. Это было взаимное отречение и замыкание друг на друге. У нее существовал даже символ – арка: две падающие половины, устойчивые во взаимном союзе. Впрочем, она это не манифестировала, опытный человек мог это только почувствовать.
Но Эбби ничего не чувствовал и, кажется, ничего не понимал. Он только хотел ее, хотел ею обладать, как вещью, наслаждаясь своей ничем не омрачаемой победой. Пришлось его окоротить, а потом и вовсе вывести из игры, как сплоховавшую куклу. Он еще не знал, не подозревал ее максимализма и требовательности. Порвать с ним оказалось проще простого. "Вот, что, наверное, значит пресловутая свободная любовь…" – решила она, подыскивая себе оправдания. Ей не понравилось.
Однажды, гуляя с прогулочной коляской, она встретила Млада. Он как-то быстро состарился: растолстел, волосы сильно поредели. Он был уже отец, но это их не сблизило. Она знала, что после нее он быстро нашел жену, но, как ей передавали, по-прежнему думает о ней.
– Что? – спросила она, занятая своими мыслями.
– Как живешь? – Они шли по улице, и ей нечего было делать, а он, видимо, великодушно жертвовал на нее свое драгоценное время. – Слышал, ты бросила Университет, теперь работаешь?
Она кивнула.
– Где?
– В лаборатории. А что?
– Ничего. – Наверное, ему было скучно. – Ну, и как там в лаборатории?
– Тебе хочется узнать? Ну, так вот... Вообще, я заведую центрифугой.
– Центрифугой? Что это за лаборатория?
– Химическая, меня туда мамина подруга устроила… Нормальная лаборатория, а по химии у меня всегда была пять… Потом, значит, я мою пол и ухожу, хотя какой-нибудь безумный всегда остается – пока не кончит свой безумный эксперимент, но он может сидеть до ночи и не высказывает претензий. То есть он иногда и меня хочет задержать – ему центрифуга нужна. Они сами работают, как сумасшедшие, даже в воскресенье выходят. И меня просят выйти – всем эта центрифуга дурацкая нужна для опытов.
– И ты соглашаешься?
– Обычно да. И еще я им приношу сигареты, собираю реактивы и химпосуду по соседям. А иногда перевожу образцы. Там даже от рабочего халата излучение в несколько раз превышает положенный уровень по Гейгеру. И еще я им рисовала стенгазету, хотя рисовать не умею, ты знаешь. Но они рисуют еще хуже. Еще перевожу с английского для одной диссертантки. Для этого выделяют особое время. В общем, работой не перегружена.
Она не рассказала, как всю эту невеликую, якобы, работу трудно совмещать с маленьким ребенком, яслями, родственниками, то есть, в основном, мамой, которую надо просить посидеть с ребенком, очередной раз больным, когда ее срочно вызывают на работу. И без того это все звучало жалко по сравнению с его планами и рассказами о яркой и подвижной жизни выпускника хорошего вуза, будущего аспиранта, чьи работы уже публикуются в японских журналах, и не за горами первая иностранная выставка. Но она из какого-то намеренного самоедства не хотела ничего скрывать. Пусть бахвалится, пусть почувствует себя лучше нее, умнее, целеустремленнее. Везучее, наконец, что было обиднее всего. Она ничем не могла этого поправить, – просто оставаться собой. С другой стороны, все, что он считал успехом и реализацией – не нужно было ей задаром.
– У меня ребенок, в чем ты может легко убедиться, – сказала она. – Но живу одна.
– В разводе?
– Нет.
Она могла бы этого не говорить. Он же прекрасно все знает, хоть и делает вид… А, может, и правда не знает? А зачем ему знать? Но она всегда говорила правду.
Предчувствия ее не обманули: он обрушил на нее лавину осуждения. Он стал ее учить, как когда-то, непонятно на каком основании. Он был почти в гневе: его, хорошего, серьезного, красивого – променяли, и на что?! Он бы так никогда не поступил.
– Как?
– Не бросил бы.
– А откуда ты знаешь, кто кого бросил? Это я бросила...
На его сурово-добродетельном лице было написано: ну да, конечно!
– Ты же не красавица, Краснова, – сказал он веско, почти презрительно. – Почему ты так задаешься?
– Разве я задаюсь?
– Ты живешь глупо. Я же тебя предупреждал, помнишь?
– Прости, кто дал тебе право судить, кто в жизни прав, а кто нет? Потому что я не воспользовалась тобой, счастьем быть твоей женой, такого правильного и замечательного? Это вершина человеческой мудрости – выйти за тебя замуж?
Минуту он переваривал информацию.
– А помнишь, что это я сделал тебя женщиной?
– Ты считаешь, я много от этого выиграла? Не больше, чем ты, я думаю. Кажется, тогда ты тоже был девственник, нет?
Он покраснел и отвернулся.
– Вот ты смеешься, Краснова (она вовсе не смеялась, но он никогда не умел уловить нюанс и найти точное слово), а я ведь совершенно серьезно. Я ведь и сейчас согласен...
– А, то есть ты не против жениться на мне?!
Он красноречиво промолчал.
– Ну, осчастливил! А как же жена и дети?
– Вот и подумай, Краснова, если ты способна что-нибудь понимать...
Он звал ее, как в школе, словно учитель ученика, наверняка нарочно. В период их «любви» он был хамоват, но не до такой степени.
– Это большая жертва. Слишком большая для серьезного человека. Ты же серьезный человек, как ты можешь такое предлагать? У тебя же дети, аспирантура! А если я соглашусь? Вот прямо сейчас – ты пойдешь домой и заявишь, что уходишь к другой, а потом сразу в ЗАГС, ну?
– Ты серьезно, Краснова?
– Ну, предположим, серьезно.
– Мне надо подумать. Это, конечно, внезапно. Я ведь не думал тебя встретить...
– Ну да, шел в магазин, и вдруг – бах, жизнь к черту, даже кефир домой не донес. Это ужасно.
– Ты опять смеешься.
– Да нет же!
– Оставь мне свой телефон. Или у тебя прежний?
– Зачем тебе?
– Я тебе позвоню.
– Ну, да, сперва магазин, кефир, потом всякие пустяки. Да что ты, я пошутила. Да и в ЗАГСе так быстро не регистрируют. У тебя была бы куча времени. Нет, дорогой, живи счастливо со своей семьей, я не буду тебе вредить. Со мной бы ты не ужился. Зря бы испортил жизнь.
По его лицу было видно, что он и сам об этом сию минуту догадался. Простились они холодно.
Снова зашел Эстет, принес пива и игрушку младенцу. Он долго стоял в ванной и смотрел на своего маленького сына.
– Что смотришь? – спросила Матильда без церемоний.
– А что?
– Ты же не любишь детей.
– Да? Видимо, я меняюсь.
– Отрадно.
– Но поздно, да?
– Ну, почему поздно? У тебя еще куча времени впереди. Это женщине бывает поздно, а вы-то хоть на пенсию выйдете – все казаки! Вон, твой отец родил тебя, когда ему было… сколько ему было?
– Я хочу сказать: поздно у нас с тобой…
– Не надо об этом, – оборвала она, сразу сжавшись.
Потом они пили чай на кухне.
– Можно, я останусь ночевать? – спросил Эстет.
– Пожалуйста, родителей нет, можешь спать в другой комнате.
Он был потерянный и одинокий. Похоже, жизнь его не была так гармонична, как он мечтал.
– Ладно, пойду спать, мне завтра рано вставать, – устало сказала Матильда.
Он был для нее совсем чужой человек, и она не хотела скрывать это. Она ушла в свою комнату, потом услышала, как хлопнула входная дверь. Матильда удивилась своему безразличию. Лишь презрение лечит от любви – и она много выпила за последние месяцы этого лекарства.
А через несколько дней благодаря Стрейнджеру она познакомилась с неким Джоном, красивым молодым человеком без определенных занятий. У него имелась собственная семнадцатилетняя беременная клюшка, но, увидев Матильду, Джон забыл про все на свете: все ему надо было быть рядом – слушать ее, покупать ей мороженое, переводить за руку через улицу. Даже купил ей букетик цветов. Девушке своей, впрочем, тоже.
На следующий день Джон позвонил и напросился в гости. Он был скован и не считал нужным о чем-нибудь говорить. Только смотреть на Матильду. Хорошо, что была университетская подруга Ира, и разговор как-то велся. Потом он признался, что был просто подавлен ею, ее умом, образованностью.
Он приходил почти каждый день, недвусмысленно демонстрируя намерения. Потом выяснилось, что он был на колесах и так всегда "хай", что вербальные взаимоотношения воспринимались им как излишние.
Матильда пожаловалась Стрейнджеру, что ей не нравится, как легко этот Джон меняет предмет обожания. Как он может влюбляться в такой неподходящий момент?
– Любовь, как цветы, – смеясь ответил Стрейнджер. – Быстро расцветает…
– И быстро увядает.
– Вот-вот.
– Ты мне советуешь ждать?
– Ну, мать, что я могу посоветовать? Нет слова не могу, есть слово надо.
– То есть?
– Тусовка благословляет тебя на жертву!
– Вот уж фиг! Он же все время молчит! Я не могу общаться с таким человеком.
– Ну, отпиши его.
– Мне неудобно. Меня не тому учили.
С Джоном, естественно, никто говорить не стал. Да это и не помогло бы. Катающийся на разноцветных колесах, он не злоупотреблял вменяемостью. Врубившись в какую-то идею, он маниакально ей отдавался – поэтому преследовал Матильду всюду, в гостях и дома. Выставленный ночью из квартиры, заявил, что останется ночевать у ее двери – и действительно остался спать на лестнице, так что Матильда издевательски предложила ему коврик, чтобы было помягче. Джон не хотел даже коврика. Он или тонко брал в расчет присутствие родителей Матильды, или, напротив, совершенно о них не думал.
– Что за человек ночует у нас под дверью?! – спросила мать. – Почему он не идет домой?
– А что я могу сделать?! – воскликнула Матильда.
– Изволь сама решать свои дела со своими знакомыми. Не нам же его прогонять!
И Матильде отчасти из сострадания, отчасти из нежелания конфликта – пришлось впустить его в квартиру.
Джону того и надо было. Невозмутимо спокойно он поселился в ее комнате, уже тогда совершенно ее. Никому особенно не мешал. Даже не ел почти. Все, что ему было нужно – разнообразные колеса, про которые он знал больше, чем врач средней руки, и мог сразу посоветовать, что принять, когда что-нибудь болело. А болело у нее часто, так что его помощь была ей на руку.
Большую часть дня он проводил в бесконечном созерцании самого себя, не узнавая действительность, почти ничего не делая. А когда пробуждался, то читал первые попавшиеся книжки или извергал бешеный словесный поток, всю накопившуюся ярость. Но не любовь. Матильда нужна была ему как яркое пятно на сером жизненном фоне.
Любимыми его книгами были справочники по медицине и диссидентская литература. Больше не интересовался ничем. Был непритязателен и непробиваемо невозмутим. Ничто его не волновало: лежал и слушал "Black Sabbath" и "Rainbow". Маленький Гор не беспокоил его совершенно. Родителей Матильды он словно не замечал. Зато сам, с волосами до задницы, с полуотсутствующим взглядом – пугал родителей ужасно, сталкиваясь с ними в коридоре. Уходил и приходил с Матильдой, как верный чичисбей, словно боялся, что, уйдя без него, она навсегда исчезнет. Его даже можно было послать в магазин. Спал он сперва на полу, потом перебрался в постель Матильды. Матильда, впрочем, ничего ему не позволяла. Одного опыта ей было достаточно. Зато и спать он ей не давал. А утром ей надо было идти в Универ, куда она героически восстановилась.
Так они прожили месяц – и после неожиданного скандала, вызванного особо настойчивым ночным приставанием, – она его все же выгнала. В этот день с ним познакомился Антон. Дятел.
V. ДЯТЕЛ
Он спустился в метро, как собака – погружаясь в полузабытый после лета запах. По случаю субботы народа было мало. Перед ним сидела девушка в расстегнутой белой куртке, под которой была надета пушистая серая кофточка без рукавов поверх белоснежной рубашки. Модные джинсы узкие внизу и широкие сверху, черные с перекрещивающимися ремешками туфли, на пальцах колечки, серебряные "узлы" в ушах, волосы зачесаны назад и схвачены огромным бантом, губки ярко накрашены, как и глаза. На коленях лежала, сделанная под книгу, кожаная сумка с кожаным ремешком. Зажатый коленками, в пол упирался большой зонт из блестящей коричневой клеенки.
Сколько усилий стоило ей все это достать и изо дня в день удерживаться на плаву – стиля и кем-то придуманной моды? Может быть, она едет куда-то, где будут такие же, как она, идущие вровень с жизнью?
Антон сравнил себя с ней. Потертые клешеные вельветы, мятая грязная куртка, стоптанные кроссовки. Даже если бы были деньги – смог бы он выглядеть так пижонски? Городские люди не нищие. Все в вагоне были одеты достаточно хорошо, но безвкусно. По серо-коричневым тонам одежды, производившей впечатление недельной несвежести, сразу можно было узнать работяг.
"Если когда я буду получать кучу денег, все равно буду одеваться иначе", – решил он наивно.
Покуда же настоящей мыслью была проблема... самоубийства (как положено). Если Раскольников присматривался, как ловчее убить старуху-процентщицу, колебался, бредил, то Антон присматривался, как ловчее убить себя? Если ты погряз в проблемах – причем тут другой, как его смерть поможет тебе?.. Жизнь исчезла, провалилась, чугунно падала сквозь тонкую бумагу реальности – и ничто не могло ее остановить… Или все-таки не убивать? Остановка виделась ему в виде пещеры, в которой не будет ничего, кроме главного.
Но что он знал о пещере, кроме того, что написано в книжках? Пещеру стережет дракон, который охраняет сокровища. Что такое сокровища? Свобода? Озарение?
Однако он не видел никакой дороги к ней, все вокруг казалось надежно изолированным, все щели замазаны цементом, лазы, подземелья – заминированы. Конечно, были те, кто исподволь сражался с драконом, кидался в него издалека камешками, но и они были слишком глубоко законспирированы. Например, была какая-то Система…
О ней он впервые услышал несколько лет назад, в последних классах школы. И если с диссидентами, скажем, все было ясно, то, что такое Система, чем занимается, зачем нужна, кого туда принимают и за какие заслуги – было загадкой? Они имели тайные имена, знаки и пароли. И как будто бы знали какие-то тропы, по которым можно двигаться неуловимо от одного места свободы к другому, как мистические агенты из «Месс-Менд».
Притом, что Антон ходил где-то рядом, его даже самого принимали за Систему.
Другой проблемой была утраченная, развалившаяся любовь. Тут все клокотало и даже прикасаться было больно… Он шел из института после двух пар рисунка, знакомым дальним маршрутом к метро – вставляя себя в раму города: это мешало расползтись и исчезнуть. А он то и дело исчезал, как маленькая радиостанция, заглушаемая большими и успешными… Потом, естественно, придется найтись и вернуться домой. Свободы он еще не нашел. Пещеры тоже. Конечно, можно было бы сделаться бродягой, но тогда рано или поздно его задержат менты…
Он остановился как вкопанный: как он забыл! Суббота, и бульвар на Самотечной площади был полон людей: продавцов и покупателей западного винила. В конце школы Самотек или «комок» стал для него привычным местом «культурного» досуга, где можно было подышать тем, что волновало его больше всего: горячим эфиром рок-музыки. У него не было мужества жить под этими облаками – без раскрашенных стекол, без фантазий самого экстремального толка. Музыка утешала и забирала остатки души.
Девушек здесь почти не было, только те, что пришли за компанию со своими юношами, зато у каждого второго юноши были длинные волосы. Но и с волосами и без волос, молодые и почти дети – все они были из одной партии. Их помешанность на музыке была поистине религиозной, а ее запретность лишь усугубляла ситуацию. Однако, поступив в институт, Антон успокоился: пластинки стали приходить сами собой, ибо в институте все тоже слушали музыку. К тому же книги стали интересовать его больше звуков. По этой причине он почти забросил гитару, которой, подобно многим, увлекся в конце школы, в надежде извлечь из ее недр магию, превращающую прыщавого самоучку в волшебника. И на свои ничтожные деньги он теперь приобретал книги, а не пластинки.
Антон не хотел здесь задерживаться, лишь по инерции замедлил шаг. Все было чарующе знакомо: кочующие фигуры с бумажками, на которых были обозначены разыскиваемые пластинки, скромные конспиративные сумочки известных габаритов, эта странная толпа почти в центре города, занятая непонятно чем, очевидно незаконным, много раз разгонявшаяся, но упрямо собирающаяся вновь. Однажды он попал на настоящую облаву с применением водометов, бивших с поливальных машин. Он бежал с другом через проходные дворы, а за ними гналась милиция…
Сейчас все было спокойно. Пока. Несколько прохожих, так же, как и он, смотрели на толпу с любопытством. Другие косились, стремясь побыстрее миновать опасное место. Наверное, у каждого была мысль о милиции.
Конечно, она была поблизости: несколько серых фуражек, непонятно невозмутимых и равнодушных. Подъехала парочка ментовских машин. Потом он заметил то, что не приметил раньше: часть толпы окружила подъехавших ментов и о чем-то жарко с ними спорила. Подошло еще несколько ментов. Обычная музыка города словно сломалась и смолкла. Много голосов заговорила сразу. Их перекрывал тусклый менторский тон толстого мента.
Подъехало еще несколько машин. На главном пятачке появилось сразу много ментов и дружинников. Внезапно толпа бросилась врассыпную. Грохнул свисток. Мимо него пронеслось несколько молодых людей с тощими сумками и летящими по ветру волосами. За ними бежал прилизанный детина в спортивной рубахе, то ли гнался, то ли тоже убегал. Рядом с Антоном возник свежеподстриженный молодой человек со значком на лацкане пиджака и зачем-то схватил его за руку и за воротник, и стал тянуть в кучу, где развернулась баталия.
– В чем дело?!
– Пошли!
– Не пойду!
– Товарищ капитан, этот не хочет идти!
– Не хочет, понесем! – огрызнулся полный щекастый мент, руководивший операцией.
И Антон покорно пошел, не понимая, что ему могут инкриминировать?
В этот момент из гущи вынырнул еще один парень, высокий, крепкий, с черными кудрями, и, уходя от преследования, устремился как раз в их сторону. Дружинник выпустил локоть Антона и кинулся на перехват. Антон мог спокойно убежать, но не побежал: а чего ему бежать? Разве он в чем-нибудь виноват?
– Этого держите! – закричал мент, указывая на Антона, и его опять схватили.
– А я и не бегу никуда…
Всех задержанных приволокли в отделение в районе Каретных переулков. В основном это были мальчишки, растрепанные, с вытаращенными испуганными глазами. Менты даже не удосужились предъявить обвинение: задержанные и так знали, что попали сюда, само собой, за дело. А лучше бы: без дела, типа, менты просто пошутили, а не шьют им всем скопом спекуляцию, на народной фене – фарцовку. Никого не интересовал факт продажи чего-нибудь или даже факт наличия того, что можно было бы продать. Хотя у большинства задержанных то, что искали менты, имелось и подлежало изъятию. Дальше могло сложиться по-разному: иногда изъятое возвращали, иногда – нет. Людей вызывали по одному к отдельно стоящему столу и составляли протоколы. Это было долгое и нудное дело. Антон начал маяться.
– Вы не можете сказать, за что меня задержали? – вежливо спросил он у дежурного офицера.
– Не волнуйся, разберемся, – равнодушно из-под фуражки.
Но он волновался и ходил по переполненной комнате из угла в угол, пытаясь решить парадокс: столько раз он мог попасть сюда – и ни разу не попал. Просто потому, что быстро бегал. Два года института подняли его самосознание на невероятную высоту, поэтому он здесь – платит за все свои счастливые побеги.
– Не рыпайся, хуже будет, – сердито сказал ему щекастый мент, оформлявший собранных тут правонарушителей.
Антон обратил внимание на волосатого парня, сидевшего в углу. У парня было красивое заросшее бородой лицо, потертая джинсовая куртка. Он сидел невозмутимо, засунув руки в карманы куртки, с видом человека, никогда даже не приближавшегося ни к какой крамоле. Преодолевая робость, Антон подошел к нему и сел рядом, надеясь, что парень, столь спокойно относящийся к происходящему, знает какой-то важный секрет. Однако парень казался отсутствующим, издалека и равнодушно следившим за происходящим. Не найдя ничего лучшего, Антон тоже стал следить за неинтересными перемещениями задержанных, таскавших за собой обрывки разговоров, из которых Антон пытался составить хоть какую-то понятную картину.
– …Чего, Садовского? Не-е. Намысловского знаю, зацепил как-то до кучи, – вещал стриженный парень рядом. – Вчера, говорят, на Ленинском Урбаняк был, бли-ин!
– У меня он на Вроблевском есть, – отвечал ему другой, повыше и потолще.
– Атас мужик! Круче «Везерепота»!
– Да ну?! Не гони!
– Точняк! Говорят, на следующей неделе «Jazz Jamboree» выкинут, рванем, а?!
– На Ленинском?
– Ну да!
Оба говорящие, совершенно нормальные на вид, были истинный меломанами, сыпали именами и оценками и ни о чем другом говорить не могли, даже здесь.
Антон понял, что речь идет о польском джазе. Польский джаз был едва ли не лучшим из того, что продавалось в советских музыкальных магазинах под видом музыки. И разговор о нем нужен был этим двоим не только для заполнения времени: они напоминали двух маньяков, которые и на эшафоте говорили бы про любимый предмет. Тема музыки и пластинок была неисчерпаема. Человек с хорошим винилом был тогда в Москве фигурой в ранге министра, для тех, кто понимал, конечно. И хотя меломания Антона уже пошла на спад и вообще было не до того, но знакомые имена словно убирали из каземата все стены.
Волосатый сосед Джона переменил позу и посмотрел на Антона, словно проснулся.
– Ты кто?
– Человек, – буркнул Антон.
– Я врубаюсь. Откуда ты?
– Отсюда.
Парень усмехнулся и покачал головой.
– В ментах бывал?
Антон ничего не ответил. Не бывал. Стыдно ли это в восемнадцать лет?
– Не стремайся, – сказал волосатый спокойно. – Отпустят.
– Когда?
Парень пожал плечами.
– А фиг знает, пока всех не оформят.
– Меня дома ждут.
– Всех ждут.
– Но за что меня взяли?
– А всех за что?
– Я мимо шел.
– Все мимо шли.
– Я правда мимо шел! У меня институт рядом. У меня пластинки даже нет ни одной!
– Значит, повезло…
– Повезло?
– Ничего не сп-здят!
– Менты коллекцию собирают, – усмехнулся сосед Антона, что говорил о джазе.
– Ага, я так и понял… Пошли они на х-й!.. Я сам собираю! – огрызнулся волосатый.
Сосед понимающе засмеялся.
– И сколько тут сидеть? – опять начал Антон.
Нет, это его совсем не устраивало. Хуже всего была мысль, что его могут выгнать из колледжа: наконец, у них будет отличный повод отправить его изучать пейзаж Афганистана!
– Почему вы меня здесь держите, какое вы имеете право?! – взвился Антон, в очередной раз опасно сблизившись с фуражками.
Менты посмотрели на него, как на идиота, и пригрозили посадить в обезьянник, если он не успокоится. Этот «обезьянник» находился тут же: большая клетка, где пребывало несколько бомжеподобных личностей, с веселым интересом созерцающих толпу вполне приличных людей, вдруг разделивших с ними превратности жизни. Это был словно концерт, устроенный ментами специально для них. Прошло три часа, и конца концерту не было видно.
– Можно к начальнику отделения? – нервно спросил Антон.
– Это еще зачем?
– Меня задержали незаконно! Я хочу объяснить. Меня ждут дома!
Никто его не услышал. И он устремился в коридор, гордо, как свободный человек, знающий свои права…
– Ты куда, лови его!
Но Антон уже ломился в первую попавшуюся дверь, требуя начальника. Его скрутили и препроводили назад, в гущу уставившихся на него меломаннов.
– Дайте мне позвонить! – закричал он и стал топать ногами.
У него началось то, чего он никак не ожидал: истерический бунт, когда он не отвечал за себя и мог, например, схватить и швырнуть стул в окно! Происходящее казалось безумной нелепостью: как они смеют, кто дал им право?!.. Все мучительно приобретенные рефлексы испарились, и он перестал понимать самые простые вещи.
– Ну, ты достал! – сказал мент за столом. – Петруха, открывай клетку!
Бомжи были страшные, но тихие – и смотрели на Антона с испугом, как он в ярости метался по клетке, напоминая себе пойманного льва. «В клетку, в клетку, свободного человека – в клетку!..» – невыносимое, невозможное унижение!
– Могу позвонить тебе домой, если хочешь… – предложил волосатый парень равнодушно, словно невзначай очутившись около клетки. – Как выпустят…
– Отойди, а то туда же загремишь! – ударил ему в спину резкий ментовской голос.
– Напиши на бумажке телефон, – быстро буркнул волосатый и отошел.
Минут через десять в процессе сложных миграций он опять очутился у решетки, и Антон сунул ему бумажку в протянутую за спиной руку.
Спустя два часа дело дошло до волосатого парня. Он был допрошен одним из последних. После чего подошел к клетке, где сидел Антон:
– Удачи, я позвоню!
– Пошел отсюда!
И парень, хоть и с испугом в глазах, улыбнулся, типа в утешение, и почти бегом вышел. Прошло еще полчаса, в комнате никого не осталось, кроме ментов и тех, кто сидел в обезьяннике.
– Теперь лохматого, – сказал мент за столом и кивнул на Антона. – Чего с ним делать?
– Впаять ему сутки, – заявил дежурный мент из-за стекла. – Достал всех!
– Точно!
– Можно поговорить с начальником отделения? – спросил Антон с вызовом в голосе.
За свою недолгую взрослую жизнь он уже знал, что в случае наезда в любом советском учреждении, будь то магазин или паспортный стол, – надо сразу требовать начальника. Как правило, это действовало, персонал начинал нервничать, даже будучи уверенным в своей безнаказанности, и чуть-чуть забирал назад.
– Вот ведь настырный! Чего тебе от него надо?
– Хочу объяснить, что меня задержали ни за что. Могу я…
– Можешь, можешь! – устало пробормотал мент. – Только напрасно надеешься… Эй, Петруха, Иваныч у себя? <пример стихийного постмодернизма автора>
– У себя вроде был.
– Ну, пошли, – сказал мент с усмешкой и повел Антона на второй этаж.
Начальник сидел за большим, бильярдного типа столом под зеленым сукном в темном казенного вида кабинете под портретом Ленина. Тусклые стекла не мешали созерцать почти тюремные решетки на окнах, фанерный декор стен. На столе телефон, перекидной календарь, емкость для ручек, еще какая-то ерунда, рядом сейф, на нем – фуражка. Какие-то грамоты или что-то в рамках на стенах. Плакаты. Шкаф. Сам был средних лет, кубообразный, с квадратной темной отекшей физиономией. Низкий лоб, седина, сердитые мешки под глазами. Очень строгий на вид. Антон никогда еще не был в ментах в виде задержанного и фиксировал все с болезненным автоматизмом.
– Зачем он мне тут? – спросил начальник с раздражением.
– Хотел вас видеть.
– Видеть хотел? Ну, смотри!
– Я хотел… – начал Антон.
– Помолчи пока. Чего сделал?
– Был задержан на Самотечной. Нарушал порядок в отделении, был заперт в «обезьянник», то есть в «спецпомещение»... Грозился разнести все отделение, хи-хи, – усмехнулся мент.
– Да, мне уже докладывали. Секретарш перепугал, сволочь лохматая!
– Может, ему дуровозочку вызвать? – предложил мент, ухмыляясь.
– Можно объяснить? – спросил Антон, как можно спокойнее.
– Объясняй. Иди, я с ним разберусь…
Антон стоял перед ним, как провинившийся ученик перед директором.
– Учишься? – спросил мент, равнодушно выслушав речь.
– Учусь.
– Где?.. Студбилет есть? Покажи! –
Он мрачно поглядел в студбилет и пренебрежительно бросил его на стол:
– Сосед, значит. И чего ты от меня хочешь?
– Хочу знать, за что меня задержали?
– Надо выглядеть нормально – тогда бы не задержали.
– Я выгляжу нормально.
– Да? А волосы зачем длинные?
– Мне нравятся.
– Мало ли что мне нравится! Может, мне нравится голым ходить!
Антон пожал плечами.
– Это к слову! – поправился начальник, и Антон понял, что мент – не мастер слова.
– Я не хожу голым.
– Ты не ходишь, а другой захочет ходить. И что? Все могут голыми ходить, да, по-твоему? Что молчишь, нечего сказать?
– По-моему, это демагогия, – сообщил Антон. Словно его за язык потянули.
– Что?! Это ты где научился так разговаривать? Я тебе, что, мальчик?! Выискал себе сверстника! Ты разговариваешь в кабинете, с представителем власти! Это что тебе, шутки?! Или что?
– Я не шучу.
– Не шутишь! Не шутишь, значит... А, понял: ты хочешь сказать, что умный такой, что тебе все здесь не нравится! Да?!
Антон заподозрил, что начальник шьет ему крамолу.
– Я этого не говорил.
– Не говорил он! Откуда вы взялись такие, твою мать, всех вымели на Олимпиаду, такой город был чистый, нет, опять полно всякой швали!
– Я не шваль!
– Молчи тут! Нет ведь, смелые стали: власть им уже ничто – разговаривают как у себя дома! Каждый сопляк мнение имеет! – твердил начальник, словно убеждал кого-то невидимого, но важного.
– Я не говорил, что власть – ничто.
Во всяком случае, в этом кабинете он еще не успел это сказать. Но это был вопрос времени. В институте он уже давно особо не церемонился. Он боялся урлу на темной улице, способный оценить их негативную свободу и определенное мужество, но ментов он не боялся: эти были такие же рабы, как и все, связанные правилами. Даже если бы они побили его – это ничего не изменило бы. Он боялся лишь унижения. После своей бандитской школы он вообще мало чего боялся. Уровень угрозы должен был быть какой-то совсем зашкаливающе высокий, чтобы зашевелился страх. Действительность редко могла похвастаться таким.
– А что ты говорил?
– Я просто возражал…
– Ах, он возражал! Возражал… Власть надо уважать, понял?! Она не тобой поставлена, а людьми, поумнее тебя!
– Да… Но если она делает что-то несправедливое…
– Несправедливое?! А кто тебе дал право решать – справедливое она делает или не справедливое?! Ты мальчишка! Наши отцы кровь проливали за эту власть, чтобы ты тут брехал о справедливости! Не нюхал жизни, а туда же: справедливость! Справедливо, знаешь, что с тобой сделать?!
Наступила тягостная пауза. «Сдать ГБ?» – это он имеет в виду? Начав день несостоявшимся фарцовщиком, переквалифицировавшись в бузотеры, Антон мог кончить его политзаключенным. И все за несколько часов. Теперь ему было почти страшно от столь стремительных превращений. Надо было подготовиться…
– Будь я не в форме, дал бы я тебе п-зды. Вот это и была бы справедливость, – сказал мент, чуть понизив голос.
Тут у него на столе зазвонил телефон.
– Что?! Да понял я! Ладно, забирай. – Посмотрел на Антона. – Студент ведь, учат еще таких! Куда они все, б-ть, смотрят! Вырастили контру под боком! Но я в твой институт напишу, поглядим, сколько ты там проучишься…
Появился давешний мент и повел Антона вниз по лестнице. Чего они собираются сделать, – думал он. Впаять пятнадцать суток? Может, подстригут еще?
Но внизу его ждали отец и мать, на которой, используя известный оборот, не было лица.
Поздно вечером раздался звонок.
– Это я, мы с тобой в ментах сидели. Хотел узнать, как ты?
– Спасибо, выпустили.
– Ништяк! Ну, ты, конечно, нарывался! Я прям боялся за тебя, думал – хуже будет.
У Антона уже не было сил обсуждать эту историю еще раз: он уже имел бурный разговор с родителями. На самом деле, его все еще трясло.
– Хорошо, в общем, что все нормально кончилось, – помолчав, сказал парень.
– Не знаю еще, они обещали накатать телегу в колледж.
– Ты в колледже учишься? В каком?.. Так ты должен знать Стрейнджера.
– Кто это?
– Как кто? Его, кажется, Вова зовут. Такой невысокий, светловолосый, девушка у него, Оля…
– Знаю, мы иногда говорим… А «Стрейнджер» – это?..
– Что? А, это просто системная кликуха.
– Он, что, из Системы?
– А ты не знал? Интересуешься, что ль? Ты с ним поговори, он тебя сразу врубит, ха-ха-ха! Ну, ладно, пока…
БАШНЯ
День изо дня мы стояли перед лицом Тамаса, мы охраняли и созерцали безжалостный лик пустыни, который постепенно душил, заливал темной водой своей тоски наш юный светлый Раджас.
От кого и кого мы охраняли?
Уже давно нас забрали от матерей и свезли в крепость у крайнего предела империи – в каменистую долину, где ветер лизал курганы с бесчисленными просоленными костями легендарных героев. Летом стояла сушь, а зимой холод. Нас развозили на дозоры во все концы вверенной охране крепости...
(из записок Дятла)
Антона вызвали в деканат, после чего история с задержанием получила в колледже кое-какую известность. В деканате долго решали, как им отреагировать на телегу из ментов? Серьезных последствий она не имела: декан отнесся к «показаниям» Антона с б;льшим доверием, чем милицейский начальник. Волосы декана не волновали: в этом колледже они были своеобразной меткой, сходящим на нет увлечением, хоть и не разделяемым администрацией, но и не порицаемым. Хуже было указание на антисоветские настроения студента. Информация подтверждалась внутренними институтскими источниками, и Антону дали понять, что его пребывание в стенах висит на волоске.
Происшествие усилило его желание ясности. Две недели он постился и молчал, даже в институте. Институт очень мешал, словно его, познавшего истину, заставляли день за днем строить песчаные куличики в песочнице! Чем они занимаются, о чем они думают?! – восклицал он про себя, глядя что на студентов, что на преподавателей. Встречая во дворе Стрейнджера и его приятелей, он смотрел на них загадочным взглядом, словно спрашивая: поняли они, что он уже приблизился к запретной крепости? Но они никак не показывали, что поняли.
Антон видел, что ему надо еще как-то отличиться, чтобы заслужить право быть пущенным туда, куда он хотел попасть. Это могло называться Системой, могло – «Магическим театром» из «Степного волка». Вход только для сумасшедших. Но в это пространство необходимо было войти. Ибо если он не сумасшедший, то кто же тогда сумасшедший?
Дома он почти совсем ничего не ел. Он словно хотел заморить в себе детское эгоистическое животное – карманное чудовище, которое умеет исказить любой поступок, хороший порыв заменить плохим, наполнить его мелочной себялюбивой дрянью.
Нет худа без добра: Антон сразу как бы сдал кандидатский минимум для приема в Систему. Он понял это вдруг, когда Стрейнджер неожиданно остановил его у фонтана…
Стрейнджер был субтильный невысокий парень, самый старший здесь, с сухим изможденным лицом. Годы отразились на нем, как на старом воине… Оля толкнула ногой коробку с грудой фотографий. Антон пригляделся. Ему показалось это летописью малознакомой эпохи. Безмятежные люди на солнечной лужайке по ту сторону собственности. Это было в квартире у Стрейнджера, где он жил с Олей и родителями. Здесь было много растений, которые разводила Оля, и много картинок, которые рисовал Стрейнджер. Они сидели вполне цивильно, говорили совершенно нормально – и при этом после нескольких лет поисков – он видит легендарную Систему?!
Антон сжался внутри. Так быстро?! Она ли это? Спрашивать он не стал.
– Друзья? – лишь уточнил он.
– Разные.
– Ты давно их знаешь?
– Если брать с тех пор, как стала курить траву, то, можно сказать, давно.
Она улыбнулась и ленивым движением откинула волосы.
– Хотя "давно" надо понимать весьма относительно.
– Философ, – сказал Стрейнджер с уважением.
Она вольготно откинулась на спинку дивана. Антон молчал, пытаясь понять все правильно, не выказав ни удивления, ни восторга. На ней были старые джинсы и длинный оранжевый свитер. Своей правильной красотой она напоминала жену декабриста. Вид был немного монашеский, не московский, скорее питерский. Тонкий нос, чуть широкие скулы, подчеркивающие впалость щек, отличные волосы, как у цыганки. Она подняла на него глаза. Карие. Лицо бледное. Совсем еще девочка, но мудрая девочка.
Рядом села Оксана. Темноволосая, с каким-то кавказским загаром и темпераментом, горячая и дерзкая. Посмотрела на него, улыбнулась, потрепала по волосам:
– Просто хотелось пощупать, – пояснила она.
Он сел подальше, как от сильного источника тепла. Первая женщина – так близко, так свободно, без формальностей и неуставных мешающих чувств. Он был уверен, что они не возникнут.
– Не будь таким серьезным, – предложила она Антону. – Знаешь, Запад отходит от волос.
– Ну и что?
– Ничего. Жаль. Это красиво.
– Ты имеешь в виду хиппи?
– Ну, предположим, что.
И все почему-то засмеялись.
Чай пили на полу на расстеленном ватманском листе. Оля сидела, поджав ноги, натянув свитер по щиколотки (она гордилась, что у нее нет ни одной юбки). Ели варенье и слушали Doors.
– Всякие умные люди говорят, что контркультура умерла лет этак семьсот назад, – начал Стрейнджер. – Ну, как шестидесятые кончились.
– Тогда восемьсот! – уточнил Пит.
Смех.
– Ну, и фиг!
– Фиг-то фиг, да кайф уже не тот! – усмехнулся Пит.
– Ага!
– Праздника нет, – заявила Оля.
– Точняк, нет! – это опять Пит. – А был? Я не помню.
– Был, но коротенький.
– Что же теперь делать?
– Учить матчасть! – резанул Стрейнджер.
Смех.
– А я уже, когда экзамен?
Все еще пуще засмеялись.
Стрейнджер и Пит были катализаторами настроения этого странного общества, издевательским юмором раздвигавшие облака депрессии...
Они заговорили о неизвестных Антону людях: что случилось с Умагумой, что отколол в своей квартире Камилл… Захватывающе и эпично… Он им не мешал…
Дятел пытался думать об этих людях. Веселые, уверенные, прямые. Он не видел между собой и ими никакой границы, не было вещи, которой он не мог бы им открыть, которой они бы не поняли, а поняв, не сделали бы попытки помочь. Он был в этом уверен. Сможет ли он когда-нибудь быть таким же?
Оля взяла листок и что-то стала на нем рисовать. Странно, она явно была тоньше и ближе ему, чем Катя. Но в институте ему и в голову не приходило полюбить ее. И теперь не приходило, хотя бы потому, что она уже была девушкой Стрей¬нджера. Неужели априорное знание ничего не стоит? И мы всегда любим недостойного?
Воспоминание о Кате было неприятно. Яд умиравшей любви все еще бродил по крови, вызывая приступы, сродни дурноте или изжоге.
– Что с тобой? – спросила Оля.
– Ничего...
– Ты так морщишься, будто у тебя живот болит.
– Да нет... Ты заметила?
– Я тебя рисую.
– Да? Покажи...
Оля протянула листок. Он не нашел ничего общего, но сам рисунок был интересен.
– Ну, как?
– Очень хорошая линия. Можно взять?
– Бери.
Странно, что он так ее интересовал.
– У тебя глаза какие-то… – начала она откровенно. – Ты вообще похож на монаха.
Он смутился. Что он мог ей рассказать? Что ненавидит эту жизнь еще со школы, что его психика, как падающий самолет, много лет уходящий от столкновения с землей? Что всю сознательную жизнь его мечет от восторженного принятия мира до желания покончить с собой?.. («Даже притворяться не придется, если захочешь откосить от армии!» – как сказал бы Стрейнджер. Эту тему они тоже поднимали.)
А Стрейнджер уже листал книгу, иногда зачитывая из нее что-то нелепое, вроде того, что надо есть тюрю и громко пукать в сортире… Люди прыскали от смеха и щедро комментировали. Было спокойно и как-то по-домашнему. Слишком хорошо для него. Всякая сказка должна иметь (хороший) конец.
– Ладно, – сказал Антон, – я пошел.
– Чего ты сорвался? – спросила Ольга. – Может, еще чая?
– Да нет, надо... – соврал он, чтобы уйти с легким чувством голода. К тому же, раз начал – заупрямился, решил продолжать. Да, собственно, больше нечего было делать. Эти, умные, веселые, могли легко обойтись без него, и уже обходились столько времени, они могли говорить или молчать часами – они уже обо всем переговорили и над всем посмеялись. Его роль превращалась в неясную и какую-то неприятно сопутствующую. Он не был еще их, словно ребенок, подражающий миру взрослых. Нет, он идет своим путем. У него много призрачных дел. Например, чтение книжек, что насовала ему Оля. У него горели руки от желания их скорее прочесть.
Они вышли в коридор.
Простились. Дверь хлопнула за ним. Сумерки опускались во двор, словно ведро в колодец. То есть, на самом деле это они поднимались снизу дворов, когда верхние этажи еще были в солнце. Обманчиво пахло весной. Прямо за углом мелочно бузил неизвестный Антону проспект...
Стрейнджер любил и умел спорить, это была здесь обычная практика, как в афинской Академии…Он считал Ницше продолжателем христианства, хоть он и написал “Антихристианина”. “Любите самих себя” – это не призыв к эгоизму, это значит, что, если человек полюбит себя – он не даст собой манипулировать, он захочет свободы. Раб свободы не хочет, он не любит себя и не ценит своей жизни.
Это было что-то новое с точки зрения рассуждений Антона. Их философские споры приобрели регулярность. Антон вскипал, Стрейнджер подтягивал орудия – и начиналось сражение.
Разговоры о Системе в компании Стрейнджера, конечно, велись, но в целом они тонули в разговорах о политике, религии, философии, хипповой теории вообще. Конечно – музыке. И Рубикон новой жизни казался таким же недоступным, как и раньше.
Тем не менее хиппи показались ему людьми, остававшимися свободными среди цивилизации, не отрицая ее полностью, но и не идя на поводу у тех, кто прибрал ее к рукам. Эта страна не была местом для слабых. Дубовые двери, железные плечи. Поэтому многие и уходили в Систему. Это был шанс слабого.
Антон присматривался, как опытный разведчик в тылу друзей. С настойчивостью религиозного фанатика он проповедовал отказ от всего. Из четырех углов своей жизни он хотел сделать пещеру, чтобы не ловиться и не быть пойманным.
– Это не так трудно, на самом деле, если ты один и тебе ничего не надо, – поспешил заверить он.
– Ничего не надо? Это как? Вообще ничего?! А, там, друзья, книжки, музыка? – смеялись волосатые.
– Это, конечно, надо.
– А то не надо! Нас совок и так всего лишил!
– В жопу факанный совок! – крикнула Оля резко и засмеялась непонятно чему.
– А секс? – вдруг спросил Стрейнджер искусительно.
– Что?
– Тоже не надо?
Антон красноречиво молчал. С сексом у него было никак, и он отнюдь не стремился исправить положение.
– Да ты – аскет!
У Стрейнджера было много женщин. Однажды, как у мусульманина, у него было сразу две, и он не скрывал это, принимая любовь от обеих. Он даже устраивал совместные сессии свободной любви. Тогда он был моложе и веселее. И был горд, что мог удовлетворить обеих. Сам, правда, весь взмок от усердия.
С комичным стыдом на лице он признавался, что половая жизнь у него началась очень рано – из-за зуда любопытства, тяги к открытиям. Но и женщин как таковых он очень любил и не имел тормозов. Не мне хочется, говорил он себе, а мне интересно. Так интересно, что хуже, чем хочется. На кисти руки старая татуировка, сделанная в восемнадцатилетнем возрасте: dope & sex.
Говоря это, он не был пошл и не преувеличивал поэтичности и могучести подвига, никогда не настаивая, что трах – важнейшее из дел человеческих. Секс и романы стояли гораздо ниже дружбы и идеалов.
Он искал лучших. И был уверен, что на свете их страшно много. Этих хороших людей, которых он найдет, если будет искать. А искать, открывать – это была его карма.
Он любил читать, обладал отличной памятью и легким характером. Он был ровен, обязателен, невысокомерен, на него можно было положиться. Ты всегда знал, как он поступит и что примерно скажет. И он был уверен, что знает, как поступишь ты…
Они бредут среди перепутанных перекопанных московских улочек. Темная, законсервированная гора былого шика, с дверьми для жильцов большого роста. Здесь во всем была для него какая-то таинственная избыточность.
– Смотрите, какая мания величая, – воскликнул Антон. – Эти люди о себе много воображали!
– Я тоже о себе много воображаю, – спокойно отозвалась Оксана, скрытая аристократка по духу. Стрейнджер одобрительно засмеялся.
– Конфликт воображения и реальности, – сказал Пит.
– Гармония, – поправила Оксана.
Их как всегда пробивает на юмор. Их пятеро. Две пары – и он, сбоку припеку. Потом присоединяется шестой – Домбровский. Он учится не с ними и здесь не для того, чтобы наслаждаться высотой дверей и окон или профилем крыши. Он любит Оксану, и все это прекрасно знают, но не гонят. Это не смертельно.
Позади лестницы с витыми перилами скрипнула неприметная дверь. Бросилось в глаза: она открылась наружу (назло всем ЕНИР’ам), с переходной камерой второй двери, где ты должен был уравнять давление перед вступлением в концертный зал эпохи, чтобы не задохнуться от сгущения запахов и пыли, занесенных сюда от Маяковского до Гагарина.
Гражданка посмотрела на них испуганно и захлопнула дверь. Они постояли в подъезде, посмотрели в широкое окно в узкий желтый двор, куда медленно опускалось солнце. Вышли на улицу.
– Кайфуют, небось, здесь живут, – сказал Стрейнджер.
Остальные молча согласились. Каждый день они совершали такие туристические прогулки, открывая и увлекаясь этим городом, столь прежде ненавидимым. Смиренно заходя в редкие действующие церкви, профессионально оглядывая недействующие. Однажды Стрейнджер сказал, что собирается в храм на службу.
– Я тоже хочу, – сказала Оля. – Поехали в Елоховку!
У Антона она ничего не спросила, словно это само собой разумелось. Никто из них прежде не был на службе:
– Как сходить на канадцев! – смеялся Стрейнджер.
Не было ни службы, ни батюшки, но сам по себе храм вставлял (пользуясь местным выражением). Антон вспомнил, как гулял здесь с Катей. И путешествие потеряло свою прелесть. Если бы она была здесь, вместе с ними, или, если бы она была одна, а остальных вовсе не было? Если бы она попросила: постриги волосы, будь как все… – ей одной он, может быть, подчинился. Хорошо, что не попросила. Ушла, не нарушив его движения в неизвестную сторону. Куда же он теперь идет? Ему было все равно.
Значит, это и называется “тусоваться”? Лишь они знали, что это такое на самом деле.
Они шли своей небольшой толпой, руки в карманы, вниз по Покровке, мимо снующих людей, со спокойной скучающей миной: видели мы вас всех, понятны вы нам до кишок!
– Глядят, обсуждают, ухмыляются, – кивнул Пит на толпу. – Глядите-глядите, не растаю, жертвы парикмахерской!
Антон вспомнил, как несколько раз наблюдал подобные группки в разных частях Москвы, и всегда они поражали своей инопланетностью. А теперь он сам шел в такой группке… Что, вот это и значит: быть в Системе? Конечно, он думал, что Система – это нечто другое, типа масонской ложи. Но и в таком варианте она его пока устраивала.
Одним махом, как ему показалось, они дошли до сквера у метро “Площадь Ногина”. Молодой мужик пролетарского вида кинул им в спину “пидорасов”.
– Всю-то я вселенную проехал, нигде милой не нашел. Я в Россию возвратился – сердцу слышится привет, – откомментировал Стрейнджер. – Как, кстати, ты относишься к гомосексуалистам? – Он шаловливо толкнул локтем Антона. – Я тебя не смутил?
Антон ничего не ответил. Он и сам не раз слышал подобное в свой адрес. Это была актуальная, но редко обсуждаемая (по умолчанию) тема. Голубые не то чтобы принимали их за своих, но принимали их за достойный объект любви. Впрочем, без взаимности.
– Как ты думаешь, они больные? – спросила вперебив Оля.
Антон пожал плечами. Он пытался быть свободным – Оля ему нравилась, с ней все казалось легко. Как и со Стрейнджером. Но у него пока не получалось: так легко говорить, хватаясь за любую тему. Он даже плохо понимал, почему их взволновал этот предмет? Но был польщен самим фактом вопроса.
– Я их не понимаю, – сказала Оля.
– Поэт Кузмин был гомосексуалистом, – сообщил Стрейнджер.
– Кто-кто? Ты откуда знаешь?
– Да вот знаю.
– Хочешь сказать, что такой умный? – усмехнулась Оля.
– Это мне не идет?..
Стрейнджер все время удивлял чем-то подобным. Ему все шло, хотя казалось странным. Он читал Ницше, Камю и Флоренского и судил обо всем весьма глубоко. Все, что где-нибудь появлялось ценного в литературе или в кино – было ему уже известно. Ему и его приятелям, словно работала какая-то засекреченная почта. Откуда они, черт побери, все это знают?..
– Здор;во! – приветствовал он неизвестно откуда взявшегося волосатого. Так Антон познакомился с Джоном, пришедшим на стрелку с сумкой вещей, свернутым матрацем и большим будильником. Джон имел линялую до белесости джинсовую куртку и хаер до пояса, почему показался Антону очень красивым. И он вообразил, что правильная жена Джона поставила ему ультиматум – и он взял свою постель и ушел, просто уехал навсегда из опостылевшего дома.
Джон молчал и смеялся, как бескорыстно наслаждающийся хорошей погодой, хорошей компанией и своим будильником.
Уже давно он начал строить свою башню под землю. Для себя он придумал концепцию: создатель ценностей. Маленького сказочного кино, чтобы все были счастливы. Снятого сказочным существом, лишь в этом мире принявшим вид человека. И он мечтал о своем месте, где он сможет творить из дарованной ему магии, где он сможет жить и преображать сырое бытие в прекрасное жаркое снов и фантазий. И мечтал о девочке-ассистентке, которая будет помогать ему быть в раю. Он мечтал о девочке, которая будет жить с ним на этом острове, врубаться в его догоны… Дурачок… В нем всегда было мало реализма. И вдвоем, ему казалось, им будет легче пребывать вне его.
Тогда он и нашел Катю. Но она почти ничего не понимала из того, что говорил Антон. Его проблемы были какого-то неизвестного ей свойства. Они попросту не могли помочь друг другу. Пятница послушал восторженный бред Робинзона, покивал и пошел дальше: благо на этом острове хватало людей…
Странно: а вот Стрейнджер понимал его довольно хорошо…
– Пошли?
– Куда?
– На тусовку, куда же? – Стрейнджер усмехнулся. – Я ж тебе говорил!
Была уже почти ночь, не совсем подходящее время для тусовки. Да и сил уже не было. Это был очень суетливый день, с большим количеством черчения и мимо проходящего народа, в том числе Паши Смоленского, волосатого из Смоленска (по совпадению), великого балагура, отнявшего кучу времени. Обсуждалось и чье-то день рождение.
– А, ты все забыл! – воскликнул вечно бодрый и готовый к боям Стрейнджер.
От метро они прибавили шагу и свернули в арку. Миновав галерею мусорных контейнеров, они вошли во двор.
– Что, тебя никак в школе не звали? – спросил Стрейнджер вдруг.
– Дятлом звали.
– Почему Дятлом, по фамилии что ли?
– Ага.
– Ну, Дятел и то лучше, – веско сказал Стрейнджер. – Подумай насчет Дятла.
– Привет, Матильда, – сказал Стрейнджер открывшей дверь девушке. – У тебя бездник, хоть ты и не приглашала.
– Неправда, я всех приглашала! – возмутилась девушка, словно приняла слова Стрейнджера всерьез.
Она была красивой, недоступной и очень взрослой. Длинные темные волосы и короткая джинсовая юбка, легкая блузка на почти плоской мальчишеской груди. На шее – деревянные бусы в несколько витков. Квартира прямо от коридора была заполнена стеллажами с книгами до потолка. Ветхий шкаф мешал проходу, нагнетая вокруг себя душную ауру почти могильной старости, и сам казался поставленным на попа гробом.
– Вот, – Стрейнджер протянул ей небольшую картинку. – Это не моя, Оля нарисовала, но моя идея. И рамка! Она, кстати, приехала?
– Давно уже.
Девушка взяла подарок молча, улыбнулась и долго рассматривала. Картинка Оли как всегда изображала наполовину мифологический, наполовину фантастический мир, стилизованный под модерн и Бердслея.
– А где перента?
– Я упросила их пойти в гости. Скоро придут, звонили уже. Тактичные.
– А дед?
– На даче.
– Везет.
Помолчали.
– Чего не звонишь? – спросил Стрейнджер.
– А ты?
– Я звоню, тебя вроде все время нет.
– А ты есть? Тебя же дома не бывает.
– А ты откуда знаешь?
– Чувствую.
– Сильна ты чувствовать, однако, – возразил Стрейнджер, смеясь. – Это Дятел, – представил его Стрейнджер. – Полезная птица.
Девушка усмехнулась.
– Ты взялся меня забавлять?
– Нет, правда, из нашего колледжа, – сообщил Стрейнджер, словно диагноз.
– Какой у вас все-таки удачный колледж, – сказала Матильда, оценивающе оглядев товар лицом. Потом кивнула, повернулась и ушла на кухню.
– Очень строгая герла, – полушепотом сказал Стрейнджер.
По квартире бегал совсем маленький ребенок, что было странно для такого позднего часа. Казалось, он лишь недавно изучил этот новый способ перемещения и с радостью им пользовался, очень гордый собой. Никто им специально не занимался, и он не страдал от этого. Стрейнджер взял его на руки и стал кидать в потолок. Матильда ревниво смотрела на это с кухни. Дятел почему-то подумал, что ребенок имеет к Стрейнджеру отношение.
Они шли по квартире, как по антикварно-букинистическому лабиринту. Антон никогда не был раньше в подобных квартирах и чувствовал себя здесь очень странно, неуютно, как вор или лазутчик из варварской страны. Откуда он мог знать, что с этой квартирой будет связано много лет его жизни?
В самой дальней комнате этого лабиринта гремела музыка, стоял столбом сигаретный дым, уплывающий через открытую дверь на балкон. За нищенски накрытым столом сидело шесть человек, менов и герлов, и оживленно спичило. Они были кричаще одеты, во что-то пестрое, заплатанное, расшитое цветными нитками. Тут были Пит, Оля, Оксана и еще несколько неизвестных новоокрещенному Дятлу лиц.
Они помахали вновь прибывшим руками:
– Чего так поздно?!
– Так диплом, блин! Подыхаем в маразме, но не сдаемся!
Они действительно ехали из мастерской на Трубе, где Дятел помогал делать диплом в качестве «раба». Двойной диплом сразу на двадцати досках грозил убить любого, приблизившегося к нему на расстояние рейсфедера.
Люди собрали на одну тарелку какие-то оставшиеся крошки. Вино было представлено одной пустой бутылкой, пили чай и кто-то уже предлагал перейти на альтернативное топливо.
– …Влезаем мы всей толпой в троллейбус на Невском, – говорил олдовый человек по имени Федор, – а Янка читает объявление для пассажиров и переводит его на сленг: "Коцайте тикета, пипл, коцайте тикета. Непрокоцанный тикет – дикий стрем, коцанный тикет сканает за отмазку. За непрокоцанный тикет – штраф: три вана".
Все упали от смеха.
– Чуваки, перед вами тип, который живет в пещере, совершенно добровольно, – представил Стрейнджер Дятла, как диковинку. – Крутейший подвижник и аскет.
Дятел покраснел. Совершенно незаслуженная слава.
– Ну и что, а я месяц жил на Гауе в палатке, – сказал Алекс, черноволосый красивый парень. – Дожди лили, охренеть! Я бы предпочел пещеру.
– Ты просто так жил, а он идейно!
– Я тоже идейно! Нас менты винтили!
– Не, чувак, ты в компании, а он совершенно один жил, как Аввакум в яме. Сам до всего дошел, с хиппами только недавно познакомился.
– А чего ты делал-то в пещере?
– Это не пещера, это моя комната, – скромно поправил Дятел.
– Ну, это ты комфортно жил! А чего он говорит – в пещере?
– Ты на него посмотри: не видишь что ль – пещерный человек? – Стрейнджер похлопал Дятла по плечу.
– А ты лучше что ль? – спросил Алекс.
– Надеюсь, не хуже!
Матильда, молчавшая и с улыбкой посматривавшая на Дятла, вдруг спросила:
– Ты что, последователь Толстого?
Дятел опять покраснел.
– Ну, я уважаю взгляды этого писателя.
– Как ты догадалась? – спросил Стрейнджер со смешком.
– Толстой говорил, что человеку нужно лишь две сажени земли, как-то так, если я ничего не путаю, – продолжила Матильда.
– Ну что, правильно, – поддакнули чуваки.
– А Чехов возразил, что две сажени нужны лишь мертвому, а человеку нужна вся земля, – закончил Дятел, страшно перепугавшись.
– Тоже верно.
Дятлу понравилось, как две реплики словно соединились в общей точке, образовав подобие арки.
– Это они договорились! – засмеялся Стрейнждер.
– А я бы пожила так, – вдруг сказала Матильда, оборвав смех. – Мне не нужно всей земли. Скорее, мне нужен хороший человек или несколько. Одному в этом мире – скучно. И страшно.
Все удивленно посмотрели на нее и засмеялись.
– Лишь бы не работать, – съязвил Пит.
Разговор расслоился.
– …В Кутаиси у Сэнди есть друзья, можно будет занайтать, – говорил Федор Питу.
– Главное, до моря добраться, а там разберемся, – отвечал тот со смехом.
Смеялись тут всегда и много.
Матильда знала, кажется, все, кроме музыки. Своей музыки у нее почти не было, и она очень завидовала тем, у кого она была.
– Все обещают принести, и то и это, и никто не приносит! – пожаловалась она.
– Я могу принести, – встрепенулся Дятел.
– Да? У тебя много музыки? У моей мамы только классика… – она привычно засмеялась. – Приноси…
Вот оно! – понял Дятел, когда на следующий день ехал в гости к этой почти незнакомой женщине. Он, наконец, встретится с чем-то великим, как он встретился с музыкой, книжками, религией, Системой. Все это было незаконно – и потому истинно. Хоть и чуть-чуть страшно. Особенно теперь, ибо теперь ему вряд ли удастся остаться в роли наблюдателя, кем он в основном был до сих пор.
Он хотел узнать жизнь. И на этом пути нельзя было бояться. Трусливое сердце прижималось к существующему, пряталось в складках его надежной убогости. Только испытав бытие на себе, можно было стать писателем или философом, кем он мечтал быть.
Они сидели на балконе, то есть она сидела на стуле, а он на тумбе, занимавшей почти весь балкон. И квартира, и балкон – все здесь было захламлено до чрезвычайности. Через открытую дверь Матильда прислушивалась к ребенку, который спал в комнате…
– Стрейнджер? – спросила Матильда. – Нет, зачем, у него Оля, классная герла. Вот Пит и правда за мной ухаживал, а потом обломался.
– Почему?
– Ну, у меня ребенок. А он любит свободу, любит тусоваться, может жить совсем без денег, заниматься лишь своими делами. Зачем ему морока? Хотя он уже почти был готов, но вовремя одумался… – и она засмеялась. – Я как-то пришла к нему с Гором, он что-то чертил, и пока мы пили чай, Гор перевернул его доску вместе тушью… Он сразу и одумался.
Опять смех…
С какими удивительными девушками он познакомился за один год, все они были умны, красивы, обаятельны. В каком дремучем лесу он жил, не зная их! Но Матильда казалась лучше всех. Даже ее ребенок не смущал его, хоть это было странно, так мало напряжения было в ее воспитании, так легко и свободно она управляла Гором, вроде постоянно потакая ему, сводя конфликты к минимуму, и при этом добиваясь главного.
Он смотрел на нее глазами, полными восторга и удивления. Он сам был немного подросшим Гором, просившим воспитания.
Она помнила свой короткий роман с Эбби-Бейби, невнятный бред с Джоном... Она и после сожалела, что все это было, и решила ничего подобного не повторять.
Но тут появился Дятел. Он больше всего заинтересовал ее тем, что в одиночку лопатил кучу книг и философий и всегда знал, как надо относиться к той или иной ситуации, что само по себе было достаточной на нее реакцией, а в его случае – и единственной.
Он смертельно в ней тогда нуждался, это было видно, как совершенно непригодный для нормальной жизни. Этим и взял. “Голубая девочка с глазами-звездами”, – шептал он ей ночью по дороге к реке. Да, это было прекрасно.
Она первая разделась и, как белогвардеец из фильма, пошла в воду. Он обнял ее сзади.
– Обещай, что ты будешь любить меня всегда! – воскликнула она.
– Да, а ты?
– Да, но с одним условием.
– Каким?
– Если это всегда будет таким, как сейчас. Нет, лучше!
– Лучше?
– Конечно. No progressi est regressi. Хочешь? Или боишься?
– Конечно хочу!
– Это зависит от тебя.
– Да, но не все.
– Значит, ты мало меня любишь!
– Неправда!
– Ладно, не обещай ничего. Просто желай, чтобы так было. Обещай, что будешь желать всегда!
– Обещаю!
Женщина припадает к мужчине, смеется, и за ее рукой дрожит вода и горят все звезды, – словно к сивилле и правда спустился бог!
В их любви не было ни страсти, ни вожделения. Это был как договор о доверии и о принадлежности друг другу. В их любви было больше от невинности детей из детского сада, которые не стесняются собственной наготы.
…Конечно, он был так возбужден и взвинчен, что все сделал не так. А потом его били конвульсии. Вся его половая любовь была содроганием и отчаянием, особенно первое время. Он шел на это, как на что-то ужасное, вроде воровства кошелька у пенсионерки. Его надо было приучать, как мустанга к седлу. Впрочем, из своих немногочисленных романов она знала, что у большинства молодых мужчин – точно так же. Ничего естественного в этой самой естественной вещи для них не было. И при этом они сами ее добивались, словно воображая что-то совсем другое.
И все же: как забыть этот первый, романтический период любви, когда двое живут друг для друга, разбиваются в лепешку, ища повод послужить и помочь! Кажется, что вас связывают невидимые энергетические линии, и даже когда вы далеко друг от друга, вы воспринимаете бытие взаимно, легко синхронизуя реальность. Передвижение по поверхности земли приобрело новый смысл – ведь тебя ждут дома! Для него это была первая настоящая любовь, она же решила, что уже избавилась от прежнего любовного эгоизма, да и вообще считала, что любовные жертвы – лучшее проведение женского досуга. То есть того немного времени, которое оставалось у нее после ребенка, домашних и прочих обязанностей и ее слишком нередких болезней, когда она часами лежала пластом на диване, мучаясь немыслимой мигренью, от которой не помогали никакие лекарства, или катаясь с боку на бок от разыгравшегося цистита. В утешение себе она считала, что из-за своих болезней и стала такой умной: пока все здоровые проводили время вполне экстравертно, она читала книги.
Но Дятла это приводило в ужас – и он с удесятеренной чуткостью ловил смутные сигналы о помощи своей болезненной подруги, усугубляя неловкие попытки ей помочь. Он почти ничего не знал и не умел из того, что необходимо в семейной жизни, но с энтузиазмом кидался на опасные участки фронта.
Как он попал сюда? Аскет, который до смерти боялся семьи, детей, долга, работы… Боялся стать функцией и кончиться раньше, чем начался. Боялся женщин, типа его матери, чьим волшебным заклинанием от всего на свете были квадратные метры и забота о детях. В общем, классическая майя во всех ее формах. Это было их хобби. Он ненавидел женщин на каблуках и в косметике. Он боялся всего, что нарушит его полет.
Он мечтал о девушке, которая читает Достоевского, одевается, как мальчик, не притворяется и равнодушна к вещам. Он не знал, что женщина может притвориться и такой, и даже искренне верить, что она такая, когда ей надо прервать свободный бег красивого молодого спартанца.
Ну, а что же они так легко ловятся – если им так дорога их свобода? Им достаточно одного взгляда, одного призывного жеста – и вот они уже бегут за тобой следом, трубя о счастье своего грядущего рабства.
Он был маленький зверек, настороженный, злой, сентиментальный – тяжелый материал для работы. Предан, наивен, неуклюж – так весело было посвящать его в тайны страсти. Одновременно знакомя с культурой, которую он знал очень отрывочно.
– Ты залез в свою пещеру… Женщина – тоже пещера, в глубине которой спрятаны сокровища.
– Я искал в пещере не сокровищ.
– А чего? Знаю: ты хотел укрыться от мира.
– Я хотел познать себя.
– Женщина дает огромные возможности – именно для этого. В ее пещере не только сокровища, но и тайны, опасности…
Она и полюбила его за то, что он был мягкой глиной в ее руках, что его можно было ваять, а он смотрел на нее такими глазами. Скоро, впрочем, она убедилась, что преувеличила мягкость этой глины, а заодно свой талант скульптора.
Все было не так просто, как думал он сначала. Вся эта новая жизнь, опасность беременности и родов… – стоит ли это кратковременного удовольствия? Поэтому свободный секс превратился едва ли не в свободное воздержание от него.
Представления о гигиене были у него своеобразные и очень мальчишеские. Он, например, считал, что не потеет, как Кант. И гордился этим сходством. Из-за чего редко менял одежду. Она не знала, как там было у Канта, но на свой счет Дятел явно заблуждался.
Дятел был странен: говорил всегда не то, что от него ждали, вдруг посреди разговора задумывался о чем-то и выпадал из реальности, словно нырнул в воду. Там ему явно было лучше. По жизни он придерживался мнения Сократа: не доверять никому, кроме себя. Он и ей не доверял – где-то в глубине души. Это было миной всего, что случилось потом.
Он спорил с любыми догмами, не важно, системными или иными, уважаемыми и несомненными. Однажды Матильда обругала буржуазные предрассудки своей семьи: работа, профессионализм, ответственность, здоровый образ жизни, трахаться только после брака…
– Я уже слышать про эту буржуазию не могу, а мне еще сдавать это марксистское дерьмо! – взъерепенился он. – А что плохого в буржуазии?
Это был несколько провокационный вопрос. Хиппи не полагалось любить буржуазию.
– Свобода была придуманы буржуазией, и независимость, разве нет? Равенство – было придумано буржуазией, служение человечеству и альтруизм были придуманы ею же. И за это все она превратилась сейчас в бранную кличку!..
– Ну, да, этих зачуханных пролов освобождали, а они в благодарность всех перевешали! – вдруг согласилась она и засмеялась. – Вот гады!
Вещей он не ценил никаких, любые жизненные блага презирал. Он был сторонник автономного бытия и автономной морали, которая не в интересах государства, не в интересах человека, а в интересах самой морали. Наверное, он был не до конца последовательный, поэтому связался с женщиной, учился в престижном вузе. Учился не без надрывов: во время очередной сессии он покинул комнату, где шел экзамен – и еле дополз до туалета, где упал на грязный кафельный пол от невыносимой головной боли. Перезанимался, видать… Впрочем, с этими и другими надрывами он в результате так и не доучился и вылетел уже в совсем свободный полет – вокруг Мирового древа Матильды, с сокровищами на каждой ветке.
Зачем он связался с ней, во многом столь ему противоположной? Он-то тогда так не считал, по причине полного незнания женщин. Тогда она всегда была на его стороне. За это он ее и любил. Он мог экспериментировать: она обеспечивала его наинадежнейшие тылы. Он мог во всем на нее положиться. Два таких бойца, спина к спине, могли противостоять всему миру!
В свободное время Дятел писал "роман" о ней. И, тем самым, о себе. Он много ей рассказывал, что не рассказывал никому. Тогда она восхищалась и поощряла все странное, что в нем было. Она даже была вегетарианкой, пока любила его. А тут умер дед – и при размене квартиры, вырванном у маман щипцами и пытками, у нее появилась своя жилплощадь. Как нельзя вовремя. Впрочем, тут мы забежали вперед: много лет их жильем была коммуналка.
VI. НИКОГДА
Вначале им казалось, что они где-то оступились, и их сбили с ног в толкотне на тропе, по которой можно было тихо, без головной боли войти в мир взрослых. Тихо войти не получилось, вообще не получилось войти – и они рванули напрямки в темный лес! Чтобы там найти настоящий эпос и предание, настоящее живое тело борьбы, с настоящей кровью и настоящей войной! Лучшую любовь, лучшую музыку, самый крепкий коктейль отношений, сбивающий за раз с ног! Лучшую дорогу к неясным смыслам! К запретному и священному...
Ее трипы под психоделией, ее сны…
Белое тело, летящее в пространстве. Она знала, что это – ее тело. И через него она же попадает в этот мир. И попадают все другие. Она как канал для связи миров. Она не творец, она – посредник. Впрочем, творца и нет. Все жизни есть всегда, есть жизнь целиком, дробящаяся и соединяющаяся, меняющая формы, ищущая новых воплощений, словно актеры в великом мистериальном театре, что ищут новые роли…
Это безотказная лестница в небо. Достаточно было ступить на первую ступеньку – дальше тебя несло, как на эскалаторе, все выше и быстрее (даже так).
Сознание и вся сидящая в нем реальность свивалась, закручивалось в бесконечную трубу-спираль, по которой она летела в пеструю ночь без края. Она сама была этой спиралью, мчащейся в пустоте, творя миры, разлетающиеся от нее, как пузырьки от таблетки алко-зельцера. И при этом она что-то искала. И нашла: огромное темное тело в центре вселенной в цепочках огней, вращающееся в пустоте. Она парила над ним, словно раздумывая – и вдруг почувствовала, что уже не может оторваться – ее неудержимо тянет вниз. И она полетела, как снаряд, быстрее и быстрее, раскаляясь от страсти и желания – и ярким огненным болидом она врезалась в мягкую, рыхлую землю, наполнив себя и ее содроганием восторга…
От этих видений оставалось смутное чувство откровения. Что все правильно, что есть сценарий, что ты сам актер и режиссер. И всей жизнью ты нащупываешь и вспоминаешь, как и во что хотел играть? Ведь, в конце концов, – все это ты придумал себе сам с самого начала…
Мечты, аскетизм, конфликты со всеми, в том числе, друг с другом.
Ничего не бывает идеально, тем более, долго. Лес, куда они забрели, был необозрим, запутан, со скрытыми ловушками на каждом шагу. Они шли по нему веселой гурьбой, уверенные, что достаточно иметь хороших друзей, честные намерения и желание, чтобы всем было хорошо. И всем будет хорошо! Мир снаружи был преградой, секрет которой надо разгадать, чтобы прорваться на ту сторону! – как пел их любимый певец. Их проводником были книжки, задор и желание идеала. И им нравилось, что других руководителей у них нет, что они – смелы и честны, что они все делают и ищут вместе, заново, как новые люди на новой земле.
Но был и другой путь, казалось, в ту же сторону…
– Ты сказала, что хиппи – такой идеалист, который горит идеей, – однажды прервал Стрейнджер Матильду. – Гитлер тоже был идеалист. И большевики, блин, верили в свою идею. Откуда мы берем идею, откуда мы знаем, что это – хорошая идея?
– Наверное, мы чувствуем.
– То есть: нравится она нам или не нравится? Нравится нам эта дорога – мы идем по ней… А потом не знаем, как назад вернуться. И так каждый раз. Но мы, как болваны, снова идем и идем! И при этом все время убеждаем себя, что все знаем!
– А есть другой способ?
– Конечно: Бог. Ты должен следовать той идее, которая нравится Богу. Это единственный ориентир. Больше нет.
– А как мы об этом узнаем? Каждый может считать, что Богу его идея нравится.
– А для этого существует Библия и церковь. Чего легче: пойди и спроси.
Эта с неба свалившаяся истина поразила всех своей простотой. Авторитет гонимого властью священника был высок. Разве совок преследовал бы что-нибудь, не будь это хорошим?
И в Системе наметился определенный тренд. Утомленные бойцы искали прибежища. Православные гуру тащили таких для исправления в храм. Их активно склоняли поменять свой дурацкий гордый хиппизм на благочестивое, столетиями выдержанное православие. Их приучали к этой заснеженной земле, с ее красотой, пассивностью, непонятной мудростью, грустью и обреченностью. Им предстояло проникнуться отдающемуся в сводах пению, запахом ладана и треском свечей. А еще – антагонизмом ко всему, что составляет солнечную сторону мира, которую это учение не знает.
Одним из первых, кто этот тренд почувствовал и поддержал, был как всегда Стрейнджер. В перемене идейных ветров никто не ориентировался быстрее него.
– Наш общий друг Женя-фотограф зовет всех в Оптину, грехи замаливать, – сказал Стрейнджер со смешком.
Это был традиционный еженедельный «сбор племен» в чьей-нибудь свободной на тот момент квартире, в данном случае – в подмосковном Ногинске у Лехи-музыканта. Сперва футбол, потом еда с очень умеренным алкоголем и, наконец, философская часть.
– Какие грехи? – спросила Матильда наивно.
Она лежала на диване, вытребовав его себе, как единственная женщина-футболистка, дико разбитая, даже и буквально (она стояла на воротах), голова на коленях у Дятла.
– А то ты не знаешь? – усмехнулся Стрейнджер.
На этот раз он был один, без своей верной подруги Оли. Оля лежала на Каширке с подозрением на рак мозга. Это трудно было представить: в таком возрасте! Катастрофа лишь подлила масла в огонь…
– Ну, да! – воскликнул Леха. – Что траву курим, живем невенчанными, не исповедуемся, в церковь редко ходим, не по-православному, в общем, живем. Правильно?
– Да… А еще – не молимся ни фига!
– Это важно! – подтвердил Леха. – Из-за этого все болезни.
– А раньше болезней не было? – ехидно спросила Матильда.
– А ты откуда знаешь, что было раньше? – сурово спросил Стрейнджер.
– Из книжек!
– В них полно вранья.
– То есть книжки не нужны?
– Духовные – нужны!
– А в них нет вранья?
– Ну, ты, мать, даешь! – воскликнул Леха.
– Знания из книжек – это мнения людей, – сказал Стрейнджер.
– А откуда настоящие знания?
– Некоторым людям они даются свыше, по молитве.
– Да?! Это кому же?
– Духовным отцам. А ты не знала?
– Нет!
– И о чем же надо молиться? – спросил Дятел из научного интереса.
– Чтобы дважды два не было четыре, – кинул Стрейнджер и засмеялся. Его смех больше напоминал попытку обмануть самого себя. И держать марку.
История с Олей взволновала тусовку. Это не была первая трагедия, но первая – касающаяся их всех настолько близко. Быстро обретенный духовник Стрейнджера и Оли возражал против лечения вообще – настаивая на чудесной силе молитвы вкупе с практикой полноценной православной жизни. Если все болезни от Бога – то и бороться с этим бессмысленно. Но Бог, как послал испытание, так может и спасти от него. Якобы таких примеров тысячи.
Для Матильды отрицание медицины и науки казалось нелепостью:
– Да я бы померла во время родов – если бы не хирург!
– А, может, не померла бы, – возразил Леха. – Это Бог не захотел, чтобы ты умерла, а вовсе не хирург.
– Ну, и померла бы. Была бы теперь в раю, – как бы серьезно добавил Стрейнджер. Казалось, что он ищет для себя будущее утешение.
Тема не была исчерпана.
Всегда считалось, что волосатый, в отличие от совков, должен верить в Бога, как его ни назови: Брахмой, Духом, Творцом – или Окружностью с центром везде. Но в песне вдруг появились новые слова, на важности которых настаивал Стрейнджер: истинный хиппи должен быть православным. И когда он, наконец, всех в этом убедил, последовало новое послание от Стрейнджера: истинному православному совершенно не обязательно быть хиппи. А так как все на тот момент уже стали "истинными православными": освятили квартиры, повесили иконостасы, крестили лбы при виде куполов, постились, причащались, ходили на воскресные службы и обсуждали мировой жидо-масонский заговор, то послание повергло тусовку в сомнение. Стрейнджеру понадобилось полгода, чтобы как всегда убедить всех в своей правоте.
К концу этого срока вся посторонняя духовность оказалась лишней, так как всю ее в отцеженном и проверенном виде им поставляла церковь. Вместо нее "истинные православные" переняли духовные ценности своих недавних врагов: деньги, рыбалку, футбол по телевизору, баню и водку. Дух был в надежных руках священника, можно было не беспокоиться. Упрощение было доказательством смирения. А смирение – главная добродетель. Значит, процесс шел в правильном направлении. Плюс – настоящая семья, идеалы крепкого дома и работа на благо церкви (за хорошие деньги). Материальное чудесным образом соединилось с духовным. Все прежние проблемы отпадали сами собой, как зажившие болячки, подтверждая правильность выбора.
А она была плохой матерью, плохой домохозяйкой, плохой труженицей. То обрушивала на Гора неумеренную любовь, то неумеренный гнев. Она ревниво относилась ко всякому, кто хотел оказать на него влияние, например, к маме. Ей претила последовательность и аккуратность. Все у нее было порывами. В том числе, и воспитание. В этом для нее и заключался хиппизм: уничтожить все демаркационные линии, напридуманные государством и обществом, между людьми, между детьми и взрослыми, между полами. Отменить все правила и законы. Начать все заново – с любви.
– Любовь! – вещал Стрейнджер. – Хиппари позаимствовали это слово у христиан. Но у христиан оно означает любовь к Богу, а хиппари используют его для любви друг к другу – когда им хочется просто потрахаться. Хипповая любовь – это аборты, брошенные дети, наркотики, кидалово на деньги и смерть на случайном флэту. Откуда тебя вынесут и тайно закопают в лесу. Не говорите мне про хиппарей, знаю я их как облупленных!
Ему на роду было написано водительствовать. А раз так, то он и в православии будет не последним. И Стрейнджер исчез. Решили, что он ушел совершать некий духовный подвиг, свободный и отчаявшийся. И все стали ждать великого перевоплощения своего выдающегося друга.
Действующие лица следующей сцены:
Матильда
Дятел – начинающий гуру Системы
Лебот – высокий, крепкий парень с Сокола, художник
Фокси – тонкий, нервный парень с Водного Стадиона. В образе что-то аскетическое и надломленное. Волосы после дурки коротко стрижены
Макс – новый друг Дятла и Матильды, красивый юноша 18 лет, талант широкого профиля
Дядя Шу – один из важных персонажей нового хиппового возрождения
Алиса – девушка Шу (милая, темноволосая и т.д.)
Вова-ламаист – приезжий из Киева
Место действия: кухня «нехорошей квартиры» на окраине Москвы, в одной из комнат которой живут Дятел, Матильда и ее сын Гор
Лебот, протягивая Матильде книжку: Глянь, что я читаю.
Матильда: Ленин! Ты с ума сошел?!
Лебот: Врага надо знать в лицо! Открой…
Матильда: «Раковый корпус»!
Лебот: Ха-ха-ха!
Матильда: Черная магия и ее разоблачение… Смотрю я на все это и думаю: мало нас все-таки выучила советская школа, вам не кажется?
Дятел: Совсем не выучила, слава Богу… Иду я домой вчера, первый час ночи, а у гаражей сторож лопатой в снегу ковыряется. Ну, увидел и начал: почему я такой и что это у меня за мода? Не сказал, что она устарела, как обычно, а что, мол, панки и металлисты нас перещеголяли. "Ну, это смотря в чем", – возражаю. "А у тебя что за стиль? – спрашивает. – Ходить бедно?" "Нет, – говорю, – ходить красиво!"
Макс: Ништяк!
Дятел: Ну, и стал я ему втирать, что мы сделались бедными, став свободными. Это рабы богаты. У нас хватит смелости ходить в чем угодно, хоть голыми. Кстати, этот сторож во все врубался, сам, говорит, был ; la Тарзан в молодости, тоже длинные волосы носил и галстук до пупа. Это он первый произнес слово «хиппи»…
Лебот: Собрались мы, значит, типа оттянуться, портвейн слегка, герлы, стебемся, кто-то что-то свое читает. Вдруг менты, человек пять, двое предусмотрительно под окнами встали, суки! Собрали у всех паспорта, повезли в отделение. Потом выпустили, так ничего и не сделав. Мать потом спрашивает начальника: чем вызван налет? А он ей: "А чего они собрались? Ну, были бы еще однополчане, но ведь они вместе даже не служили!" Приколитесь! Ха-ха-ха!!!
Фокси: Мы теперь ничего не боимся. А чего нам бояться, неужто хуже будет? На минимуме потребностей мы всегда продержимся. Ну, что за беда, что люди похожи на баранов? Зато у нас самая сбалансированная система, как говорят… Они там мучаются, балансируют свою так и сяк, а нам не надо: чего кирпич балансировать? Кирпич он и есть кирпич.
Макс: Чего объясняешь? Все понятно.
Фокси: Вот как?! Так ты считаешь, что у нас все всё понимают? А школа, газета "Правда", программа "Время"?
Макс: Не знаю. Срут на всё это.
Фокси: Не скажи! Есть уроды, которым теперешний кирпич недостаточно квадратен! Вон – у меня за стенкой живет! Дерьмо собачье! Мало их сажали и расстреливали!..
Каждый день тут собирались люди хоть и разные, но сходного образа мыслей, и хозяевам было в высшей степени наплевать, кто сидит у них на кухне. Матильда постоянно отлучалась в комнату, стирать, к плите, хоть люди просили ее остановиться и послушать захватывающую историю про очередное винтилово. Она на минуту останавливалась, жаловалась на жизнь, на соседей, на лажу с деньгами. На то, как стремно выходить во двор, где то и дело пристают гопники, даже малолетние. Несколько раз ругнула Дятла (но он этого словно не заметил). И опять убежала.
Лебот: Гопников надо мочить! Ко мне тут недавно подвалили двое, в шапочках – в арке моего дома, приколитесь! «Эй, пацан, гривенника нет?» Это я им пацан, а сами пэтэушники прыщавые. «Гривенника нет, – говорю, – а п-зды пожалуйста!» Надел одному шапку на глаза и левой придушил слегка. А правой второго за горло и головой об стену, как обещал. Совсем оборзели!
Пипл: Ага! (удовлетворенно загудел).
Матильда (пробегая по кухне): Полюбуйтесь, открываю утром штору, а оно уже стоит…
Она имела в виду новый панельный дом, торчащий перед окнами. Больше всего этот "объект" напоминал только что отрытое доисторическое чудовище, громоздкое и безобразное, извлечением которого из вековых пластов земли занималась вся столпившаяся вокруг него техника.
Матильда: Теперь такие можно строить за два месяца. Предполагается, что в них можно жить. Но жить на самом деле нельзя ни в них, ни вокруг них…
Она словно забыла, что он был почти точной копией ее дома в Зябликово, не казавшегося ей в то время очень уродливым.
Матильда: А тут была такая хорошая детская площадка…
На этой горестной фразе она опять покинула кухню. Лебот тем временем забил косяк, раскурил и передал Дятлу. Тот хорошо дунул и передал вновь возникшей, как пунктир, Матильде. Та замотала головой, ставя на конфорку кастрюлю, тогда косяк направился к Фокси. От того к Максу.
Лебот: В Пицунде я нашел отличную пещерку в Четвертом. Все время о ней думаю. Кинуть все нах-й и убраться туда на полгода. Или на целый год. Совка этого е-учего не видеть!
Звонок в дверь.
Макс (весело): Менты?!
Лебот: Давай их сюда!
Но это был Дядя Шу, его девушка Алиса и молодой невысокой парень по имени Вова-ламаист, недавно приехавший из Киева, с еще небольшим хаерком.
Матильда Вове: Как Москва?
Вова: Насрать мне на Москву, я хотел с московской Системой познакомиться. Мне говорили – это круто!
Дядя Шу (смеясь): Может, правда круто?
Фокси: Чувак нам сейчас все расскажет…
Лебот (смеясь): Не, все фуфло! Гниет Система!
Дятел: Конечно, хиппи – полное говно, всем известно…
Общий смех.
Дядя Шу: Один журналист меня распрашивал-распрашивал про хиппарей, ну, что мы приносим в Систему все, что можем, а берем из нее все, что нам нужно, а потом говорит с удивлением: "Все вас называют тунеядцами и демагогами, а вы, выходит, уже живете при коммунизме!"
Общий смех.
Дядя Шу: Но он обвинил меня потом, что мы не боремся там за что-то, за мир, что ли…
Смех.
Макс: Мы не боремся, мы радуемся!
Дятел: Блин! За что я хиппанов не люблю – вот за такие фразы! Чему вы тут радуетесь?!
Алиса: А ты кто?
Дятел (с хитрой усмешкой): Я-то? А я так тусуюсь.
Лебот: Главное – с кем тусуешься.
Макс: Тусовка – оружие пролетариата!
Матильда Дятлу: Значит, ты больше не хиппи? Тогда мы разводимся! Я не буду жить с не хиппи.
Фокси: Вот, принципиальная герла, уважаю!
Дятел: Да хиппи я, хиппи!
Матильда: Не вижу радости!
Дятел: Да радуюсь я, радуюсь!..
Матильда: То-то!
Смех.
Матильда: Так хочется чего-нибудь хорошего!
Макс: Травы покурить?
Матильда: Да ну тебя! Вот человек собирается жить в пещере. Его можно уважать. А мы все время говорим про государство – и живем в нем.
Дятел: И что ты предлагаешь?
Матильда: Надо все бросить и жить в коммуне… Хотя бы.
Макс (в запале): В коммуне надо жить так, чтобы твоя герла любила всех твоих любовниц, потому что они достойные женщины и ее подруги!
Матильда: А она?
Дядя Шу: Это все в теории! А на деле?!
Макс: А на деле мы не в Калифорнии, у нас даже у пипл; патриархальные предрассудки!
Фокси: Нет у меня предрассудков!
Дятел: А у меня есть!
Матильда (смеясь): То тесть, фак-сейшн отменяется?!..
Вова (с сияющими глазами, выпив полкружки чаю): Странно, что я вас встретил!
Дятел: Совсем не странно. Жизнь – это центрифуга, все крутятся-крутятся и собираются в одном месте, ну, какое им подобает.
Вова: Точно!.. А можно я помоюсь?
Смех.
Матильда: Давай… если не боишься.
Вова: Чего?
Снова смех.
Макс: Херня все! Мне Система, можно сказать, открыла истину: как надо жить! Я как раз собирался в колледж поступать. А тут вижу, чуваки и правда интересно живут! Мы в совке тухлом варимся, а у них прям свобода какая-то. И девки красивые. Меня девки больше всего зацепили. Ну, и кайфы. Как первый раз клеевые колеса попробовал, понял: вот мой путь!.. Ну, стопом скатал, тоже ништяк. Захотел на "Машину" или "Аквариум" – пожалуйста! Прикольн;!.. Так и накрылся мой колледж пи-дой, затусавал я его благополучно. Да и на хрена он мне нужен? Не вставляет меня никакая их гребанная профессия!
Фокси: А многие наоборот: хипповали, пока студенты были, клевые такие вроде чуваки. Теперь жопы стали растить вместо волос.
Со стороны ванной раздался грохот.
Матильда: Упал что ли?! Только этого не хватало!
Вова, показываясь из двери ванной: Только не убивайте меня! Я уронил шампунь и разбил раковину.
Матильда: Ты серьезно?!
Вова: Серьезно. Нет, ты подумай: только уронил и все! Нечаянно. Отличный шампунь. Насквозь!
Матильда: Насквозь?!
Вова: И ни кусочка не откололось.
Матильда: Какого кусочка?!
Вова: От бутылки с шампунем. Во делают!
Матильда: Ты псих или нормальный?
Дядя Шу: Вот и вся любовь!
Вова: Не ругай меня, пожалуйста.
Матильда: Что же теперь делать? Что соседка скажет?!
Вова: Попробую склеить, а что?
Алиса: Пипл, не будем ссориться!
Матильда: Понятно, Алиса, ты уйдешь, а объясняться нам…
Алиса: Хочешь, я останусь?
Смех…
Подпольные концерты и выставки. Полуподпольные, вовсе неподпольные… Лето любви 85-го. Разрешение неформальных объединений. Любера. Кооперативы. Демонстрации и баррикады. Они были в центре всего, в самом бульоне. Все делали вместе: идеальные напарники. Он мрачный, полубезумный Павка Корчагин, в шинели и буденовке с пацификом, она – слабая, веселая Анка-пулеметчица с обнаженной грудью на Гоголях.
Веселая, истощающая, безумная жизнь на пределе их немогучих сил. Хотя порой было страшно: они никогда не победят этих ребят с пробковыми головами, которые не чувствуют ни боли, ни несвободы. Бой казался бессмысленным. И нет масла, нет хлеба, нет спичек. Это в добавление к тому, чего нет уже давно, чего нет всегда... И вот все это вылилось в единственную мысль: уехать куда угодно!
Поэтому все чаще звучали разговоры: как? У них не было пригодного механизма. Их соратник Руль, хиппи-диссидент, обещал обеспечить отъезд как преследуемым борцам с режимом. Их знакомые иностранцы, а у них появились и такие, предлагали фиктивный брак.
А еще была школа, теперь не ее, а Гора, поднявшего переходящее знамя. По всем канонам его вообще не надо было туда отдавать. Но что об этом говорить?.. Государство через детей пробиралось в стан тех, кто воображал себя свободными, принуждая их ходить по мелко разбросанным граблям. Школа, само собой, была спец, но и в ней все было, как и повсюду. А повсюду царила нищета и брожение мысли. Гор учился плохо, приходил с больной головой, грубил. Уроки? Ха, какие уроки – он их не делал так же, как их не делала его мама. Что не мешало ей быть почти отличницей. А ему – нет. Впрочем, как и отец, он обладал талантом нравиться и неплохо подражал успешным ученикам если не в знании, то в изображении знания.
Однажды она явилась на родительское собрание и обратила внимания, как мигают лампы дневного света в классе. Не дав классной закончить пассаж про проблемы с успеваемостью – она подняла руку и дерзко встала:
– Да какая может быть успеваемость при таких лампах?! Я полчаса посидела, и у меня голова раскалывается!
– Вот и жалуйтесь директору, чего вы мне говорите, я, что ли, их менять буду?! Думаете, у меня не раскалывается? Они уходят, а я тут целый день!
– Ну, знаете, детей как-то больше жалко, чем вас! – выпалила Матильда под смешки родителей.
Теперь она ничего не боялась и не стеснялась – и готова была встать горой за безмолвных школьников. Она хорошо помнила то время, когда ее то и дело ставили на место, – и собиралась рассчитаться в полном объеме!
За ней, естественно, закрепилось прозвище склочницы, а Гор, приходя из школы, ругал ее за неправильное поведение, из-за которого у него одни проблемы. Будто все его проблемы создавала она. Зато Дятел был всегда на ее стороне, хоть в школу в качестве родителя никогда не ходил. Однажды он вошел в вестибюль, оглох, его чуть не сбила толпа детей, и решимость идти дальше испарилась.
А потом эпопея с приемом в пионеры… Время было уже другое, и вступать в пионеры никто не спешил. Матильда так и объявила, словно ставила школе ультиматум, что Гор в пионеры не пойдет! На родительском собрании она потребовала вообще снять вопрос с повестки дня и забыть, кто такие пионеры! Странно: ее поддержали почти все родители.
– Так нельзя! Над ними издеваться будут! – вскричала директриса магазина, одна из поборниц прекрасной старины, кто не хотел лишать «счастливого пионерского детства» собственных отпрысков. А заодно и чужих, чтоб пионеры вдруг не остались в меньшинстве.
– Ура, дождались! – торжествовала Матильда с места.
Конец собрания был в духе тех лет: больше никакой обязаловки, кто хочет – вступает, кто не хочет – нет. Бонусов у пионеров никаких не будет.
Так Гор и не стал пионером. Он вообще попал в интересное время: старая модель образования почти сломалась, новой еще не было, и в школьных нравах царила полная неразбериха. Матильда и Дятел люто завидовали поколению Гора, попавшему в это многоголосие. Все встало на свои места, все всем стало, наконец, понятно: совок и коммунизм – плохо, Запад, свобода – хорошо! Никогда прежде не было такого материально тяжелого и оптимистического времени. Главное – победить совок, а там все само образуется!
Зато почти все хиппи старого призыва, кто не исчез неизвестно куда или не умер, – стали разительно не похожи на себя молодых. На них нельзя было положиться, с ними часто не о чем было говорить. Былые системные авторитеты: ау! где вы? Великим знаком было, что Стрейнджер порвал феньки и, как выяснилось, стал монахом в грузинском монастыре. И теперь строгий, в черном неопрятном подряснике, непривычно неулыбчивый и постаревший, с поседевшими волосами и бородой сидел среди них во главе специально собранного стола в квартире у Пита.
Время от времени Стрейнджер, а ныне о. Григорий, то досадливо хмурился, то скептически улыбался, слушая чей-то лепет о культе и духовности, бесконечно наивный для этого нового небожителя. От него ждали мудрого просветленного слова. Ни на какие расспросы он не отвечал: отмахивался. Это все пустое, внешнее. Зато как гурман и знаток говорил о пустяках: о том, кто как служит обедню, о грузинской кухне, о том, что в рясе летом жарко, а зимой в неотапливаемой пещере, где он живет, – холодно.
– Да, брат, – вдруг взглянул он на Дятла, – я тоже теперь в пещере живу…
Он много пил, чего с ним раньше не было – и вдруг, оглядев собравшихся, спросил веселым голосом:
– Ну, что тут у вас делается, рассказывайте! Интересно, как вы тут прозябаете!..
Матильде показалось, что вернулся прежний Стрейнджер, переставший притворятся и давать строгача. И она с удовольствием рассказала про свободу, которая гремела на нищих улицах: сколько мы мечтали об этом – и вот!
– Свобода?! Это что, чтобы все порно смотрели, да? – усмехнулся он.
– Причем тут порно?! Вообще-то, я имела в виду гражданские свободы… – уточнила Матильда.
– А, гражданские… Западные безбожники придумали манечку – а вы и попались! Хи-хи-хи… Когда ты встретишься с Богом – поможет это тебе?
– Да, не о том печешься, герла! О душе думай! – поддакнул Лёша.
– Спасибо! О своей думай!
– Я думаю.
– Да-а, – протянул отче. – Смотрю я на вас и не понимаю: женщины глаголют, мужики… с волосами…
Повисло неловкое молчание.
– Разве вы священники или монахи? Вы мирские люди, а знаете, что апостол Павел говорил? Длинные волосы – бесчестье для мужчины. Первое Коринфянам.
Сам все еще был с волосами: с лысоватым хвостиком. Все, что осталось от прекрасных кудрей!
Это говорил пророк и гуру Системы! Что на это было ответить?
– Ну, я например, художник, – начал Сеня. – А художники всегда…
– Художники? – перебил экс-Стрейнджер. – Ну, если они иконы пишут – это дело гарно. А все остальное, мирская живопись, это все лишь забава и, пардон, фигня. Сатана через глаза завлекает в свою епархию.
Сеня замолчал: он рисовал в основном голых женщин.
– Ну, а я музыкант, – сказал Леха. – Что, тоже нельзя?
– Музыкант… Ты музыку волосами пишешь? (Смех.) И что это за музыка? Если вроде Бортнянского или Веделя… А если современная, чтобы ногами дрыгать… Это крайне оскорбительно для каждого… благочестивого человека, не говоря о христианине!
Как отрезал. Леха сочувственно закивал.
– Я сам так считаю! Знаешь, как я Заппу любил? Всё (широко махнул рукой), все пласты продал, кассеты раздал. Только канон Андрея Критского слушаю. Какая вещь! Прямо в дрожь бросает!
– Ну, тебе есть в чем каяться, – с ухмылкой промолвил отче. – Как и всем нам.
– Понятно, а женщинам надо платок на голову – и на кухню, да? – воскликнула Матильда.
Пит засмеялся и осекся.
– Ты, мать, как была хиппи, так, вижу, и осталась, – усмехнулся отче.
– И не стыжусь этого! Когда-то и ты доказывал, что хиппи – лучшие люди!
– Доказывал… Мало ли, что я доказывал!.. Глуп был. Волосатые на улице и правда казались тогда лучше... Но это все равно, что лучшие кенгуру или лучшие баобабы: смотря с чем сравнивать! Да и лучшими они были недолго, потому что искали только ништяки и оттяги… Я уж на это насмотрелся, никто тут со мной спорить не будет…
И тут он накинулся на главные хипповые догмы, обличая и высмеивая любимое дитя юности – с таким же энтузиазмом, как раньше презренный совок:
– Я помню всех этих хиппи, стареющих подростков со стрита… Сам таким был… На что тут смотреть?! Просто ищут в хиппизме, как на даровой помойке... А чего им нужно? Кайфы! Чтобы все было в ништяк и ничего не парило. Свобода? Это для себя! Любовь? Знаю я хипповую любовь!
– Ты хочешь сказать, что Система и все ее идеалы – миф? – спросила Матильда, нервно закуривая.
– Все тебе определения нужны! Ладно, можешь назвать мифом.
– С мифом-то оно слаще! – засмеялся Пит.
– Это точно. Но лишь истинное слово нашего учителя, Иисуса Христа, избавило нас от мифов, запомни!
– Сто пудов, истину глаголешь, отче! – воскликнул Леха. – Не знаю, как другие, а я давно с хипповым порвал!
– И я! – сказал Пит.
– А я и не был никогда хиппи! – гордо заявил Сеня.
Начался общий разнос хиппизма. Многое тут было сказано верно. Но, однако, Дятел замахал хаером: как, забыть ту сверкающую энергию счастья и молодости, бьющий прямо в лицо свет, который не надо даже выражать в словах?!..
– Разве "избавиться от мифов" – значит: поменять один миф на другой? – спросил он зло. – Выбрать одну из религий и успокоиться в ней, словно тут и лежит вся истина? И чем так хорош Яхве? А почему не Ахурамазда?
– Давай сегодня без Мазды, – усмехнулся о. Григорий, и все засмеялись.
Они уходили подавленные.
– Я так ждала этой встречи. Лучше бы я его не видела! Сохранила бы идеальный образ юности… – пробормотала Матильда.
Для него это было знаком, что идея выдохлась. Выдохлась как старое благородное вино, превратившись в сладкий яд и горький уксус.
Для нее это кончилось внезапным срывом и дурдомом.
После дурдома она сказала себе: и хрен с ними. Все не так плохо. Знамя упало, зато рядом вдруг открылась настоящая свобода, о которой они и не мечтали!
Как-то сразу, в одночасье, они перестали быть маргиналами, их истина засияла, как волосы, вымытые после долгого стопа. Пора было получать дивиденды за стоицизм и одинокий нонконформизм. Но тут выяснилось, что бревно вместе с Лениным несло сто сорок человек. То есть: все были нонконформисты, все хотели дивидендов за страдания, вся страна… Неформалов оттеснили профессионалы, эксперты и практики. Люди губили себя, спеша надышаться раскаленным воздухом капитализма. Можно было все: воровать тоннами – или создать свой театр…
Что-то лопнуло на стадии проекта, что-то накрылось в ходе реализации. Самым долгим оказалось издательство. Они решили делать дешевые покет-буки, причем за счет клиента. Плюс классику. Тащили дело вчетвером, потом вдвоем. Отчего оно все равно лопнуло. Зато Матильда приобрела неоценимый опыт и знакомства.
***
…Все они стали приятелями, весь второй дивизион литературы, все запасные игроки первой сборный, редко выпускаемые на поле: лишь по большому блату и удаче. Вечно злые и неудовлетворенные.
Раньше они считали себя андеграундом, теперь – авангардом. Но литература их была столь же ущербно-умственна, сколь и стерильна, с той же степенью проблематичности или духовной эффективности, как вышивание по канве. Человека не было в их произведениях. Все, что от него оставалось, это точка приложения их насмешки. По существу, они уже угробили человека и его мир, сведя его до трупа, а себя до патологоанатомов при нем, так что даже муха по сравнению с человеком выглядела выразительнее и возвышеннее. Такова была их реакция на мир и его литературу. Реакция мира была аналогичной. Поэтому они прибились к крохотному издательству Матильды, печатавшей всех подряд и не привередничающей.
Тогда-то она познакомилась с Ренатой, их, писателей, интеллектуальной маркитанткой, работавшей в толстом журнале. Она была начитана, добра, влюбчива, свободна (в смысле – не замужем, без детей) и стремительна, как метеор. Мысли, вкусы, взгляды ее были – образец нормальности. Жизнь – сплошная авантюра. Она всех любила, всеми увлекалась, имела заниженную самооценку и неизбежно попадала в жизненные аварии, что никак не меняло направление полета. Она выгодно отличалась от писателей: наивностью и отсутствием зависти.
Матильда постриглась, помолодела, стала одеваться как богема и применять косметику – и сделалась еще самоувереннее (главным образом, визуально). А потом в Большой Машине произошел сбой, и ее вдруг пригласили в замок Вест-Веста, в круг экспертов и практиков: заменить заболевшего товарища. Журнал тоже был новый, но с большими амбициями и неплохими деньгами, особенно первое время. Все получалось отлично, пора было начинать жить всерьез.
Noblesse oblige: она стала ходить на литературные вечера и презентации. Официальная часть – была необходимой жертвой, которую приглашенные и участники приносили ради того, для чего они на самом деле собрались. Настоящее общение начиналось в буфете. Собственно это и считалось “культурной жизнью”. И отмени это, поняла она, – поднялся бы вой до небес и, пожалуй, кто-нибудь сдал бы лиру в утиль и пошел устраиваться в дистрибьюторы.
Тут, в буфете, она познакомилась с литераторами уже первой сборной, из высшей лиги. Чьи герои были невысокого роста, оскорблены и унижены жизнью, обойдены счастливой судьбой… Драматический эффект был хорошо пришит, сцены грамотно выстроены, дозировки эмоций продуманы, концентрация жалости – в классических для русской литературы пропорциях (то есть больших). Вероятно, от успеха неудач своих маленьких героев, сами писатели были сыты, величавы и довольны собой.
Как бы она хотела быть такой же уверенной в себе и довольной! "Надо попробовать попробовать"… – уговаривала она себя.
Она старалась ослепнуть, не до конца, как получится. Уж слишком тут все делалось всерьез, и каждый тут был – фигура! Поэтому все, что он делал, было монументально по определению и заслуживало тиражей, льгот, денег, премий… Она-то считала, что расширяет угол зрения, не изменяя принципам. Напротив – прокрадывается с контркультурным динамитом в логово врага. Но и враг был хитер: соблазнял настоящим делом, опаивал возможностью влиять на души… И ничего не давал.
…Из хиппизма она выползала как из тесного дома, как из секты неполноценных витий и самозваных юродивых – под крыло творческих союзов, профессиональных объединений – к творцам и практикам. Претендентов тут было, впрочем, слишком много, чего никогда не бывает в хорошем деле, чего никогда не было в Системе. Там нечего было ловить, туда шли от отчаяния или романтики.
Они прожили вместе десять лет, не мирно, не заводя новых детей (и без того было нелегко), когда все чаще стали литься беспричинные слезы. Они не досаждали друг другу, не несли никакой вины, может быть, даже все еще любили друг друга.
Причем все эти годы за ней постоянно кто-нибудь ухаживал, обычно двое или трое зараз: то нищий поэт-алкоголик, то ищущий духовности торчок, то начинающий коммерсант с идеями – или кто-нибудь в этом роде. Дятел не воспринимал их всерьез, хотя сам не понимал, в какой опасности находился. Иногда после особенно откровенного ухаживания в романтическом месте, вроде курилки по месту работы, где ей читали стихи и поили кофе, ей хотелось сказать, как девице из «Карамазовых»: им это доставило бы так много удовольствия, а мне так мало труда! Но она не хотела, чтобы Дятел становился невинной жертвой. Она предпочла бы, чтобы это он был перед ней виноват. Конечно, вин у него хватало, и их можно было бы уравновесить небольшой изменой. Он даже не догадался бы. Но это было бы как-то, как у всех, как во всех семьях. А разве они вдвоем не отличаются от всех, разве не это их когда-то толкнуло друг к другу?
Почему все стало так сложно?
Она была мостом, соединявшим Дятла с нормальной жизнью. Но мост оказался для него слишком обременительным. Не он захватывал с ее помощью плацдарм с той стороны, но, наоборот, эта жизнь пробиралась по мосту и жалила его на "его" стороне.
Изгой едва не с рождения, связавшись с хиппи, он научился воспринимать это состояние радостно. Но праздник закончился, свежее вино перестало пьянить. Вместо него текла грязная отравленная вода.
Порой он казался ей сумасшедшим. В их кругу это было почетное звание, и все считали себя в той или иной степени его достойными. Пережив трип, врубались, что могут летать. Летали с летальным исходом. Верили в магию и астрологию. Гадали по картам таро и несли шизофренический бред об устройстве вселенной.
Но Дятел, кажется, был достойнее всех, во всяком случае, время от времени. То и дело его охватывали глубокие депрессии, длившиеся неделями, тяжелое, невыносимое для нее состояние. В таком он однажды ушел от нее – и с трудом вернулся. После чего решил сам лечить свои крутняки на пустом месте.
Иногда она предчувствовала их приход, иногда они наваливались внезапно, как снегопад летом. Это было особенно досадно. Не она ли была такой любящей, красивой? Не ею ли восхищается всё ее издательство? Но не он. Он смотрит на нее, как на врага. Будто не узнает.
– Откуда это берется? – спрашивала она Ренату. – В людях? В общем, любящих и моральных… Эта ненависть, это окаменение?
Задавая вопрос – она имела в виду и себя.
Она и теперь испытывала к нему сентиментальные чувства. Может быть, она поспешила проявить инициативу, как она всегда спешила? Вот и получила. Вот и страдает.
Секс был для нее сродни таинству, тем – что делают двое под покровом темноты, словно преступники, словно приобщаются к чему-то запретному и великому. Одновременно это становилось и актом доверия друг к другу: вы сообщники, вы понимаете ответственность того, что делаете, это уже навсегда останется между вами, это уже нельзя отменить… Секс был договором и даже моделью восстановления изначальной неразделенной двоицы, Пуруши, Адама Кадмона, Антропоса…
В единстве своей жизни и любви с ребенком, вышедшим из нее и когда-то бывшим частью нее, она видела образец для взаимоотношений вообще, прежде всего с мужчиной. Но у Дятла не было этого опыта, и он лишь теоретически мог представить возможность такой двоичной нераздельности. В реальную он не верил.
Его секс был холодным. Он не растворялся в нем, даже в этот миг охраняя свою независимость и право на созерцание эгоистического пупа в голове. Бывали периоды такой эмоциональной холодности, что у них не было ничего месяцами.
Нет, не такой жизни она ожидала! Не такой. В первые годы он играл на гитаре после каждого совокупления – в качестве покаяния.
К семейной жизни он пришел, словно дворянская барышня, с убеждением, что этого нет – и это совсем не нужно. Тело пугало его. Женщина пугала его. Перед ней он испытывал страх и беспомощность – перед ее естественностью и природностью. Яркий бутон – корнями держался в земле, грязной, мокрой и темной, не разговаривающей, отдающей одни приказы. Страстно ищущей летящее по ветру семя, чтобы, схватив его, согреть в мрачной утробе – и выдать на гора новое обреченное существо.
Женщина была рабыня, превращающая воздушный бестелый кислород любви – в плоть и боль.
С такими мыслями – он сам не жил и не радовался, и не давал жить ей. Тяжелый ужасный человек! Ходячее воплощение депрессии и ненависти к бытию. Все умирало вокруг него. Все разъедали кислоты его скепсиса!
Он даже пить не мог, как пили бы другие в его положении, или торчали – и тогда на короткое время обретали гармонию. Такой человек должен жить одни, не отравляя другим существования. Когда-то такой добрый и чуткий, наивный и даже страстный, он стал желчным и нетерпимым. Неспособным ничего изменить. Если раньше его слабость, его беспомощность была трогательной, то теперь это стало обузой, тяжелой телегой, которую тащили они оба по раскисшей осенней дороге.
Новая жизнь хотела действий. Не разового геройства, не святой битвы с сатрапами, а ежедневного нудного труда, где вчерашний герой слушал приказы лысого босса, требующего дисциплины, производительности и любви к простым истинам. За что боролись?!
Он презирал сам себя за невозможность владеть собой, неумение совершить поступок, то есть отречься от "идеалов", от того, что просто и приятно, уйти со своего поля, где ты один герой и воин, перестать быть Дон-Кихотом, а стать Санчо Пансой – причем не при Дон-Кихоте, а при боссе из прежних комсомольцев, в костюме и галстуке. Ради чего? – да ради нее!
Из-за этого она и восстала, тихо, но неуклонно. Иногда ей казалось, что самое естественное для него – покончить с собой. Ибо зачем так жить и мучиться? А кто она: санитарка при обреченном бойце?
Он тоже помнит: она хвалила его, слушала его гитару, называла универсальным человеком Возрождения. Пока они не стали жить вместе. После этого не слушала его игру ни разу. И не интересовалась его рисунками. Зато ей очень важен стал вопрос денег.
Конечно, уйдя от родителей, они столкнулись с этой проблемой. Но не настолько же она была серьезна, чтобы так из-за нее париться!
Он тоже ждал другого. Несколько раз они почти расстались. Почему из этого ничего не вышло? Он все чаще стал вспоминать пещеру, символ чистоты и прогрессивной борьбы с ветряными мельницами. Там было очень трудно, очень грустно, но он был не готов отказаться ни от одного миллиметра земли, завоеванной в тех боях.
Он хотел видеть их как божественную пару, Радху и Кришну, Парвати и Шиву, Лакшми и Вишну и т.д. Только в этом случае брак имел для него смысл. Двое словно обретали онтологическую полноту и становились неуязвимы для мира. Пока они были окружены врагами – их внутреннее бытие было осмысленно и насыщенно. Хоть все равно конфликтно. Но не так, как теперь, когда война против мира больше не связывала их.
Трудно жить со своим двойником женского пола. Их сходство, разделенное полами, превращалось в векторы равной силы, направленные навстречу. Они глядели друг в друга, как василиски, окаменев, не делая ничего, парализуя силы друг друга.
И он вновь решил уйти. И она тоже. Это было всего год назад. Они не жили вместе несколько месяцев. Она не знала, что с ним происходит. Скучала и томилась, но держала слово: ушла так ушла! Если он вернется, то каким-нибудь другим. Прежний он был ей не нужен. И однажды он вернулся.
– Никогда, никогда! – сказала она безапелляционным тоном. Но опять оказалась в его объятиях. Она просто не могла оттолкнуть его, как любого другого, его, так глубоко проникшего в нее за эти годы, так не отпускающего ее.
– Отпусти меня! – молила она.
– Никогда, – говорил он с мрачной жестокостью. – Никогда ты не будешь ничьей больше. И не надейся.
– Ты мучишь меня! Ты убиваешь мою жизнь. Зачем ты держишь меня? Ведь у нас все равно ничего не получится.
– Когда-нибудь получится.
– Я старухой стану.
– Хмуриться не надо – Лада. Даже если станешь бабушкой...
– Вот, ты уже смеешься. А мне совсем не смешно.
– На великое дело надо идти радостно.
– Я не хочу на него идти.
– Значит, считай, что я тебя заставляю.
– Но я не вещь!
– Ты не вещь. Ты главный приз, и я его никогда не отдам.
И все началось снова. Но что-то с ним и правда случилось: после разлуки она увидела другого человека. Природная аскеза сменилась неожиданной страстностью, словно он решил жить беспамятно и вдруг, как другие. Откуда он все это узнал – эти бессознательные движения на грани интуиции? Он никуда не спешил, он будил ее тело терпеливо, как приручают животных, чутко, как опытный врач, чувствуя здесь или там боль и недоверие к себе. Прежде всего добиваясь, чтобы ей было хорошо. Она не знала, что людям может быть так хорошо от близости друг с другом. От таких простых вещей. Приближение, замедление, короткая ложная ретардация, даже ретирада, новый прилив нежности, одна волна, другая, словно ты в море, или любовь – море. Ну, конечно! И вот ты захвачена потоком, тебя уносит, тебя смывает, сметает, тебя нет. Она никому никогда об этом не расскажет.
К своему стыду, она, может быть, первый раз в жизни испытывала желание. Напряжение разом схлынуло, и наступила легкость почти маниакальная. Она не могла перестать смеяться, словно накурилась травы. Но она ничего не сказала ему. Откровенность в некоторых вещах не была у них принята, как обсуждение своей изжоги или цвета поноса. Это не приближало к решению главных вопросов – поэтому и оставалось за кадром.
Странно, именно через этого аскета она открыла для себя мир секса, который согревал их как последнее средство быть рядом.
VII. МАНИГ
Асфальт – черный. Ночь – розовая. Дома – светло-серые. По какому-то случаю ярко горят фонари. Может быть, в честь праздника непразднования. 7 ноября: нигде ни одного мокрого флага. И это уже не кажется странным.
Погода по виду мартовская. Не холодно. Влажный ветерок. Собака внимательно глядит на крадущихся вдоль стены, словно зайцы, кошек.
Ночью приснился сон: шел через белый слепящий снег где-то загородом к платформе и столкнулся с двумя типами, шумевшими навстречу. Произошел разговор, кончившийся прямым попаданием в левый глаз. Через несколько минут он проснулся. Разбитый в драке глаз болел. Он встал и подошел к зеркалу. Ни пятнышка на прозрачной роговице.
Он взглянул на Матильду. Захватив все освободившееся место, Матильда спала. Одна голая коленка, словно ящерица, выползла на солнце погреться. Он еще раз пощупал глаз и пошел в ванную, где bic’овским лезвием сбрил щетину. Поставил чайник, оделся и отправился гулять с собакой (недавно поселившейся в их новой квартире благодаря коварной Матильде).
Железной пружиной хлопнула дверь за спиной. Двор глянул на него глазами часового с вражеской территории. Пенсионеры, уборщица, мамаши с детьми, пьяницы с сизыми носами – все они уже давно были здесь, объединенные судьбой и бытом, чем-то занятые, по-своему счастливые.
С двором не было мира. И этим утром, как и обычно, двор жил сам по себе, и до Дятла ему не было никакого дела, что он откровенно и демонстрировал.
Двор – это как бы преддверие ада: оставь надежду всяк сюда входящий. Он хорошо знал свой двор: каждый день он выходил туда выбрасывать мусор. За спиной у мусорной кучи среди обрывков магнитофонной ленты, огрызков, палок, бумажек, обломков вещей и камней – играли дети, нередко – этим же самым мусором. Здесь же гуляли собаки, отдыхали пьяные, торчал весь день однорукий дурачок с лицом Пастернака из второго подъезда. Каждые два-три часа двор заливали зрители “Видеосалона”. По вечерам они и забредшие пьяницы мочились в подъездах и за углом – в открытую и без предрассудков.
А рядом по скользкому глинистому склону горы между двух переулков, в одном из которых стояла синагога, карабкалась девушка на каблуках, с холеными ногтями. И он опять подумал о мужестве и этом противоестественном стремлении к красоте даже здесь – среди помоек и трущоб, где безобразие и уродство въелось, кажется, в саму кору жизни...
Как они умеют сохранить эту плавность и изящество походки, будто никогда в жизни не носили ничего, тяжелее косметички? Как гордо и независимо они движутся, беременные огромными сумками!
Длинные стройные ноги, короткая шубка, беретик, голубой бант в темных волосах, связывающий их сзади в pony tail... Современность, удерживающая его во времени. Это было то, что жизнь предлагала ему, останавливая от окончательного отрицания. Когда-то он не видел ничего этого, словно слепой или недостойный. И вот теперь начинала устанавливаться очень слабая, но все-таки связь, договоренность о ненападении...
Метро, улица – чудные места для того, кто любит лица, кто наслаждается их неповторяющейся особенностью.
Пусть личико не совсем правильно, пусть даже чуть-чуть развратно, но в нем бездна выражения, уникальная фраза бытия. Для него это интереснее, чем стерильные кукольные личики с неопределенной сутью большинства молодых особ.
Вообще, есть женщины, интересные для картины, и женщины, интересные для жизни. Как правило – это разные женщины...
Антон ничего не мог понять. Он вдруг разучился говорить. Грусть была слишком активна, слишком многоголоса, чтобы найти ее источник. Единственное было ясно: выпал снег, облетели деревья.
Матильда уже встала. Она сидела за столом и пила кофе. Она видела, что он о чем-то думает, и молчала.
Он снова пощупал глаз. Что за притча! Глаз по-прежнему болел.
Поздно встала. Впрочем, как обычно, когда получалось в два приема: до отправки Гора в школу – и после. Кто-то подумал бы: день весь наперекосяк. Конечно, трудно совпасть с жизнью, выходя по делам, когда другие собираются их заканчивать. Ну и что? Не об этом ли она в детстве и мечтала, когда вставала в полвосьмого утра в школу? Ее жизнь теперь только начиналась.
Уже давно ее преследовало смутное желание что-то переменить. Ей казалось, это желание взаимное. Ее жизнь застоялась. Никогда еще ни одна ее жизненная ситуация не длилась так долго. Что-то должно произойти. Она чувствовала это, как хроник – приближение грозы.
...Было обидно, что он не обращает на нее внимания. Словно она солонка на столе. Пусть даже он вчера на нее обиделся (заподозренный в непарном увлечении) – это был не лучший способ начинать день. Она не терпела “нравоучительного” поведения. Уж лучше бы он все сразу сказал, чтобы она могла, смотря по обстоятельствам, возразить или простить его.
Он безучастно сидел и пил кофе. Или чуть-чуть надуто, будто его мучает изжога. Она особенно не любила это его состояние. Оно могло длиться целый день, будто дождик за окном.
…Каждый день он оправдывался за малую любовь, словно грешник за маловерие. Ведь по сути, он ни в чем, кроме этой малой любви – не виноват. Он живет нормально, жене не изменяет. Не пьет, как-то и где-то трудится. И, однако, взвешен и признан легким.
Не это ли та самая любовь, когда берега сходятся, и Бог задал одни загадки? Но одно открытие Дятел все же сделал: женщина любит совсем не так, как мужчина, вкладывает в это слово другой смысл, вообще, она исключительно не похожа на человека, принимая за его образец мужчину, не похожа на то, как ее привыкли понимать и рисовать на страницах литературных произведений всех веков. "Сердце красавицы склонно к измене…" – а дело не в этом: это совсем другой взгляд на любовь.
Приближаясь к женщине с романтическими и чистыми намерениями – ты ошибаешься: женщине не нужен твой романтизм и чистота. Приближаясь к ней с желанием обладания и наслаждения, пусть и взаимного – ты ошибаешься: женщине вовсе не так нужно это наслаждение, а обладание взамен она предложит такое, что сразу захочется воли. "Но жена не рукавица. С белой ручки не стряхнешь…"
Приближаясь к женщине, ты ошибаешься. Она вообще не то, что ты о ней думаешь.
Приближаясь к женщине – будь осторожен.
***
...Нет сомнения, ею снова завладел ее навязчивый бред: им надо расстаться, им надо развестись. Она давно это говорит, но через два дня забывает, в чем была причина ссоры. Да никакой ссоры и не было. Была хандра, какие-то капризы. Может быть, просто ей нездоровится. Или она устала...
Он тоже устал. И все друзья его устали, но как-то дрыгали ножкой. Как и все, он занимался ради денег мелким художественным бизнесом с западными людьми. Арбат в теплые дни превращался в место «работы». Матильда пропадала в журнале. Все вместе давало мало, но достаточно для существования.
Почему его не устраивало жить так, как они жили теперь? У него были его писания и картинки. Он любил спрашивать ее мнение: у нее отменный вкус (вообще, у нее очень хорошо устроена голова). Ложатся они в разное время и просто спят.
Вдруг он ощутил, что ни одной минуты своей жизни не был свободен. Ни в детстве, когда ходил в школу, ни даже когда жил в «пещере». Он осознал, что тогда основным ощущением его был – страх: людей на улице, унижения, а особенно – страх не выдержать и не стать героем… Теперь он каждую минуту должен был кому-нибудь что-нибудь. Он не мог отдаться ни одному делу, не думая о том, что завтра надо поднимать ребенка, искать деньги или работу, и что, если он этого не сделает, она начнет капризничать.
Да, иногда она начинала капризничать и сообщала, что он ее больше не любит. Его это ужасно злило. Но не отвечать ей было нельзя – она не терпела таких вещей. Отвечать же было бессмысленно, потому что все слова она немедленно переиначивала, любые доводы порождали лавину контрдоводов, и из пустого разговор превращался в серьезный. Ему редко удавалось сменить тему настолько ловко, чтобы это не было заметно – и избежать слез.
Вообще, у нее не было средних настроений: или безудержное веселое, рождающее наивные мысли и поступки, или глубоко мрачное, усугубляющееся головной болью, с многочасовым молчанием и полубессмысленными вызывающими действиями. В ней было слишком много чая, как говорил Анатолий, цитируя любимых китайцев или японцев…
Она прекрасно знала английский и могла переключиться на него с пол-оборота посреди ночи. Ей вообще все легко давалось, поэтому она ничего никогда серьезно не учила. Историю она не знала совсем и, кажется, была убеждена, что Земля плоская.
Зато откуда-то знала кучу посторонних вещей из химии, биологии и медицины, поэтому могла поправить Бродского по поводу “бромистого натра”. Естественно, она знала все, что знают одни только женщины: названия цветов, ткани, болезни, лекарства от них, сплетни.
Она любила только веселые книги, хотя умудрялась заходиться хохотом даже от Достоевского.
Ее веселость – словно празднование освобождения от частых телесных недугов.
И еще у Матильды была мама. Странная женщина, способная позвонить в два часа ночи и с несокрушимой настойчивостью еще два часа доказывать, что гардероб и холодильник Матильды, а также дурацкие взгляды на жизнь, где по лености не предполагалось работы, нуждаются в кардинальной реформе, и с этого ее было не сбить. В конце концов, можно было только соглашаться и обещать или бросить трубку.
Даже теперь, когда работа у нее была, мама не сменила гнев на милость. Ведь осталось еще сколько угодно поводов помучить непутевую дочь: попенять на плохое воспитание Гора, его неуспехи в школе, его лень. Или на невнимание к матери. Или на отказ идти на оперу в Большой театр…
В театр она идти не хотела. Но вдруг замечтала о своем домике и садике, как у Ренаты, чтобы сажать там картошку, как все нормальные люди. И о машине, чтобы туда ездить, а не трахаться в жаркой переполненной электричке с потными вонючими совками! И еще о многом она замечтала.
Он все же любил ее, хотя тщательно в это утро скрывал.
...Нет, это невозможно! Ей все это осточертело! Сегодня или, может быть, завтра она уедет в Питер. Маниг, ее новый приятель, имевший там квартиру, давно звал ее к себе. И она на самом деле туда уедет! Одна (они собирались туда вместе). Ну уж нет! Сегодня она уедет в Питер, а он останется здесь. Не в знак наказания, а, может быть, совсем. Вообще, там будет видно. Она-то не будет плакать. Она слишком серьезно относилась к их так называемому браку. Но он сам виноват! Она всегда прекрасно владела чувствами. Гораздо лучше, чем своим настроением. Она могла увлечься, но, по существу, это мало ее интересовало. Еще не было случая, чтобы после пяти минут разговора с мужчиной, он не был готов достать для нее луну с неба. Все это было слишком просто. Мишень легко поражалась, и приключение было лишено азарта и неожиданностей. Но все сошло со своих мест, когда появился Маниг – благодаря его обаянию и отчаянной воле, не считавшейся с условностями, не вникавшей в нюансы.
Они познакомились год назад – благодаря издательству, где она работала. Это не была внезапная страсть: она считала себя неспособной на такую. Если она загоралась, то лишь отраженным светом. Скорее, это было что-то придуманное нарочно, чтобы было не так скучно и серо. И потому, что место было такое подходящее. А еще это был повод взглянуть на себя: она-то считала, что с ней такое невозможно.
В начале зимы, снежной и лютой, она с подругой Ренаткой поехала на конференцию молодых писателей, проходившую в подмосковном санатории. У Союза Российских Писателей на Поварской их ждали два "Икаруса", и толпа писателей, окрыленных водкой и перспективой халявной dolce vita на природе, щедрых на реверансы красивым барышням, которые были тут в зияющем меньшинстве. Но лишь открылись двери автобусов, писатели могучей вакхической гурьбой ворвались внутрь, быстро заняли все места и невозмутимо смотрели через стекло на двух одиноких женщин, переминающихся на тротуаре.
– На колени, на колени! – кричали писатели, имея в виду, чтобы девушки сели им на колени.
– Я не поеду, – сказала Матильда, отвернувшись.
– Я тоже, – в ярости сказала Ренатка. – Ну, я им припомню! – Имея в виду и тех, с кем у нее бывали краткие или продолжительные романы, и всех, с кем не были. А тут таких тоже хватало.
Вместе с ними на улице остался один небезызвестный в узких кругах писатель, Маниг, добровольно вышедший из автобуса, увидев, что девушки остались без мест. Впрочем, в Союзе пообещали подвезти опоздавших и непоместившихся вечером на электричке.
Видя, что дело не спорится, Маниг заставил своего приятеля уступить девушкам место. Чтобы мужественно тащиться поздно ночью на перекладных.
Конечно, его подвиг был вознагражден: по прибытии ему щедро налили, и вот он уже стал слоняться в компании других нетрезвых писателей по коридорам санатория, заходил в номера, в каждом из которых шла пьянка, разговоры о литературе и сведение личных счетов. Каждый номер превратился в этот вечер в кабак, клуб и едва не в бордель.
В двухместном номерке Матильды и Ренаты дым, как и везде, стоял коромыслом. Писатели уже забыли о своем утреннем афронте и только и говорили, что о морали, о традициях русской реалистической прозы, бичующей язвы общества, и о своих врагах, не ценящих их великих художественных заслуг, постмодернистах и циниках, вроде N и NN, живших в номерах по соседству, к которым надо пойти и дать в морду…
Маниг, достойно несший свою эффектную некрасивость, был в меру трезв, подчеркнуто вежлив, молчалив, со спокойным светлым лицом. В конце концов, он был тут маленький герой. За последний час он успел выслушать несколько похвал и объяснений, почему кто-то не сделал того же, и нескольким пьяным девушкам вскружил голову.
– За что пьем? – спросил он.
– За все, – сказал писатель П., бородатый вития средней известности, застрявший в номере, как муха в салате.
– А еще мастера слова! Нет, не годится! Знаете, у древних всякое действие подразумевало под собой таинство. Мне это нравится.
– Какое, бл-ть, таинство?! – вскричал мастер слова.
– Ну, иллюзию, что ты не просто хочешь ужраться, а надеешься изменить мир к лучшему.
– Что, правда? – спросил писатель П. – Вот, зачем, оказывается, я пью! То-то смотрю – мир становится лучше!
– Ты лучше тост произнеси. Способность на осмысленный тост – знак твоего чистосердечия и твердости за столом.
– Ха-ха-ха! За твердость!
– Нет, за этих очаровательных дам, которые тут, как ягнята в волчьей стае…
Разговор велся вокруг щекочущих дух тем. Кто с кем живет, кто сейчас свободен, чтобы приютить на ночь…
При общей свободе нравов Маниг гордился, что, в отличие от других, не изменяет жене. Но из номера не уходил до поздней ночи, даже когда все писатели ушли в более интересные места. "Зачем мне чужая грязная женщина?" – сказал он веско, как бы обосновывая право остаться среди своих и чистых.
Исчез лишь под утро, когда девушки захотели спать.
Матильда понимала опасность: тут не было докучного мужа, мелочного быта, детей. Это был пароход свободы, на всех парах несущийся по замершему русскому лесу. Кто-то пьяный упал в снег с третьего этажа – и его увезла скорая. Кто-то прошел сквозь стеклянную дверь фойе – и поехал по тому же маршруту. Молодая критикесса Л., имевшая черный пояс по карате, чуть не убила пьяного обожателя, скатившегося с лестницы, так и не завершив приступа, а оставшийся без присмотра смиренный Маниг разбил стаканом голову посмодернистскому критику К., за что получил новую порцию всеобщего одобрения. К тому же подвиг был совершен в ходе чисто литературного спора, когда он защищал от критика К. не то Блока, не то Ахматову.
Скорая на этот раз не вызывалась: обошлись местными бинтами. Как и в случаях прочих стычек и членовредительств, как правило, взаимных.
Утром, после завтрака, проходили семинары, где опытные писатели, подлечившись рюмкой-другой, делились с начинающими секретами мастерства. Потом небольшое окололитературное заседание – встреча с известным депутатом и политиком Б. и некоторыми литературными генералами. Тон задала журналистка Ш., которая хотела бы увидеть героя в современном искусстве и высказала надежду, что лидеры страны ей помогут. Депутат и сидящие на трибуне активно откликнулись на просьбу: действительно, в современном искусстве доминирует не герой, а скорее антигерой, и это злой бизнесмен, продажный чиновник... Литераторы же должны воспитывать будущих бизнесменов и политиков, найти новый тип героя – умного богатого с душой и сердцем. Более того, создать систему ценностей, где богатство не являлось бы грехом!
Политик и историк, как он представился, М., даже обвинил русскую классическую литературу, в частности Достоевского, в том, что она не создала правильного образа положительного героя, оклеветала человека дела, вроде Лужина и Рогожина, и вместо него возвела в герои бездельников, неврастеников и лишних людей, как Раскольников, Кириллов и прочие.
– Почему русская литература показывает нетипичного Раскольникова с топором, который компрометирует образ русского человека и искажает представление о нем на Западе? Вместо того, чтобы, как у англичан, показывать образцы честных купцов, героических генералов-колонизаторов, положительных, преданных делу мелких чиновников и дворян?
У идеи немедленно нашлись защитники. Некая поэтесса сообщила, что известное евангельское речение про верблюда и игольное ушко, через которое не пролезет богатый, переведено неправильно, и “верблюд” это на самом деле “канат”, канат же может расщепиться и по волоску пролезть в Царствие Небесное. Волоски же – добрые дела.
Об этих задачах и волосках так или иначе говорили все остальные выступавшие.
– Какой позор! – громко зашептала Матильда Ренате – и стала бешено трясти рукой, сообщая, что тоже хочет выступить. Ее тут еще почти никто не знал, и ее поведение могло показаться дерзким. Но что делать: на нее иногда находило.
Слово ей дали. Она представилась и, задыхаясь и слишком сильно жестикулируя, начала:
– “Несчастна та страна, в которой нет героев!” – сказал один из героев пьесы Брехта. “Несчастна та страна, которой требуются герои”, – ответил ему другой герой. Сомневаюсь, чтобы на писательском совещании где угодно, кроме России, кто-нибудь всерьез обсуждал наличие или отсутствие “ге¬роя”. Скорее всего, это посчитали бы идеологической фикцией и тоталитарным диск;рсом (смех в зале). А писателю нужно либо почувствовать вкусы публики, либо иметь, что сказать. Герой – это приманка именно для массового читателя и атрибут массовой литературы. И ныне он, конечно, существует. Если антигерой – это преступный бизнесмен и продажный чиновник, то герой – это честный следователь или иной бескорыстный борец с преступностью…
Она перевела дух. Зал выжидательно молчал. Депутат Б. с интересом смотрел на нее.
– Но мы говорим не о массовой литературе, не правда ли? – продолжила она, мужественно выдержав паузу. – Герой – это тот, с кем мог бы отождествить себя читатель и начать жить его жизнью, более яркой и более, может быть, трудной. Жизнью, на которую он сам по своей воле не решится. А нам – вот сейчас, в этом зале – предлагают в герои идеального бизнесмена, идеального Лужина, подрумяненного и честного… У Достоевского мало чисто отрицательных героев – и Лужин редкое исключение из них.
Смех в зале.
– Господин М. предлагает нам соцреализм наоборот. (Смех.) Господин М. недоволен Достоевским. Но я предпочту остаться с Достоевским, а не с господином М., чей вклад в искусство, мне, например, честно сказать, неизвестен…
Опять смех, теперь громче.
– То, что некого теперь взять на роль героя – это отговорки, маскирующие лень или неумение писать. Современный герой – это не сытый буржуа и не честный чиновник: такие герои даром никому не нужны. Такие герои скучны, или в них никто не поверит. Нам уже пытались навязать несуществующих героев, всяких героических доярок, летчиков и сталеваров. (Смех.) Современный герой – это пытающийся одиноко выстоять человек. Это личность среди сумбура и переоценки ценностей. Это путешественник сквозь проблемы в зону независимости...
Овации. Она смиренно возвращается на место. Небольшая неожиданная слава. Рената торжествующе жмет ей руку:
– Молодец, так им!
– Не очень было глупо?
– Да что ты!
Матильда была так взволнована, что не помнила ни одного слова из тех, что только что произнесла: так, прыгнула в пропасть, встала, отряхнулась (полета не помнила) – и боялась, что говорила полную банальность.
Господин М. попытался оправдаться и заявил, что он тоже не знает, какой вклад в искусство внесла его «симпатичная» оппонентка, которая не совсем правильно его поняла, а журналистка Ш. нашла в речи Матильды лишь общие слова, за которыми она не увидела никакой конкретики…
Следующей темой встречи стала бедность современных писателей и необходимость их поддержки. Песня эта у писателей была вообще любимая. На что депутат Б. резонно заметил, что “если художник сыт – то художник ли он?”, но от поддержки не отказался, обещав подумать о какой-нибудь очередной премии.
Фуршета на этот раз не было, вместо него были песни областного хора, который старался практически зря: творческая интеллигенция спешила заняться каким-нибудь более интересным делом.
Маниг поймал Матильду и Ренату в холле. Он был восхищен ее выступлением, единственным разумным за весь день. Подруги хотели пойти гулять – и он увязался с ними.
Они ходили по зимнему лесу, Маниг читал смешные стихи и применял эрудицию – бесконечно солидарный во взглядах на качество современной литературы. Он был со многими знаком, знал кучу сплетен, но не мешал говорить, и Матильда нашла благодарного слушателя. Ей было приятно чувствовать, что она на уровне, и умные люди ценят ее – не просто как красивую женщину (бывают и покрасивей), но как женщину умную. А вот это встречается много реже. Вдруг он взял ее под руку, чего она давно ждала, и не отпускал до самого санатория – как свою лесную добычу. Рената смиренно плелась рядом, примеряя на себя новую для нее роль дуэньи.
Теперь Маниг был всегда рядом, словно забронировал место и всем показывал это. В коридоре, где они вдруг очутились одни, неожиданно обнял и поцеловал. Она с интересом прислушивалась к увертюре чужой страсти, смелеющему в пальцах желанию, сантиметр за сантиметром, словно археолог, подбирающихся к ее, очень условным, “сокровищам”, дабы не потревожить еще колеблющийся на весах рассудка стыд – и вдруг заразившихся безумным нетерпением. Она почувствовал, как покрылась потом, и резко вырвалась из его рук.
Весь вечер Рената ожидательно смотрела ей в глаза, готовая подвинуться и уступить им номер, не видя в таких вещах ничего зазорного. Изменами музопожиратели мостили дорогу славе. Это давало переживания и новую информацию, годящуюся в дело. А дело было превыше всего.
Но Матильда не была писателем, не была и маркитанткой при них, как ни хотели бы некоторые таковой ее видеть. Она знала им цену. Знала цену и некоторым другим вещам, всегда важным в ее жизни. Она могла бы пойти на это, но только с обоюдного согласия, то есть с согласия тех, с кем была связана. А эти явно такого согласия не дали бы. Им еще надо было пройти свой путь, обнажающий бездны и недостаточность привычной морали.
Но она не хотела быть дубиной этого познания.
Утром Маниг пришел каяться:
– Я был так тобой очарован, к тому же выпимши был… То есть, ты не подумай, – просто выпимши мы делаем то, что хотим делать невыпимши. Но боимся. Кажется, что все так просто и естественно… Поверь, больше такого не повториться, – закончил тоскливо.
Может, и вправду так думал.
Вернувшись в Москву, она прожужжала Антону все уши этим Манигом, в одночасье ставшим ее героем.
Потом она узнала, что Маниг беспрерывно говорит со всеми о ней, не исключая, кажется, даже свою жену, что уже было чересчур (учитывая разницу в идейном бэкграунде двух пар).
Маниг работал в отделе светских новостей глянцевого журнала. После, а зачастую и вместо работы приезжал к ним в их все более хиревший журнал. Приезжал не один, а в компании фотографа, с которым работал в паре, молчаливого пьяницы.
Все женщины в отделе бросали свои дела. В их производственной тине было праздником явление любого балагура, озорника и шалопая, разящего от дверей новой историей и свежеиспеченной сплетней. Маниг подсаживался к чьему-нибудь столу, насмешливый и милый, с цветочком, шоколадкой, початой бутылочкой конька: по виду – легкая добыча, но всегда как-то ускользавший, стоило какой-нибудь из женщин подойти к нему слишком близко. На хитром лисьем лице написано: "Знаю я вас, чаровницы, не обольщайтесь!" В их журнале он пробивал свои рассказы. И своих друзей, кстати, тоже.
Увы, книжка была предлогом, – и виной тому была Матильда. Иногда он говорил с ней так, словно прилюдно раздевал ее, требуя откровенности. Ей казалось, он лишь разведывал, например, куря с ней в коридоре: насколько бы ее устроило, если бы он держал данное слово? («Поверь, больше и т.д.»)
Она знала цену таким словам: Матильду удивило бы, если бы он его сдержал. Удивило бы и обидело. Однако она, на ее взгляд, ничем этого не выдавала. Не напоминала, впрочем, тоже.
Маниг подарил свою книжку: самиздатский, любовно переплетенный сборник рассказов. Выслушал ее восхищенный отзыв (несколько преувеличенный). И лишь потом взялся ухаживать по-настоящему. По циничной писательской манере стал приглашать поехать к нему в гости. Звал в Питер, откуда был родом. Почти год он, как верная Личарда, ходил к ней в издательство, исключительно видеть ее, как некогда Джон, готовый въехать в ее жизнь, как конница Буденного в казачье село.
Уже тогда, издав, наконец, одну, довольно бурно обсуждавшуюся в их кругах книжку, он обнаружил все признаки самоумаления и безнадежности. Он может, может! – чувствовала она, читая его грустные рассказы, но, как и многим, что-то мешало ему. Поэтому он пил, также, как и другие. И тогда становился слабым, сентиментальным, страстным и сумасшедшим. Дрался в пьяном виде и в таком же виде водил машину, так что, в конце концов, чуть не разбился насмерть. И угробил машину. Зарабатывал он, впрочем, прилично, и подобные потери его ничуть не смущали. Теперь, когда он относительно скромно дожил почти до сорока лет, все в нем зашкаливало, словно он спешил жить и собрать как можно больше опыта, плохого и хорошего, чтобы было, что описывать и рассказывать Матильде. Он буянил, как человек, долго сидевший в клетке, а потом на недели впадал в депрессию и покаяние. Ибо считал себя православным. Казалось, он не очень ценил жизнь, и словно искал кого-нибудь, кто его удержит, успокоит, скажет, что все хорошо. Жена, надо думать, с этим уже не справлялась.
И его хотелось спасать – от него же самого, он пробуждал в женщине инстинкт материнства и заботы. А за наградой он не постоит!
Она томилась. Хуже всего, что у Манига были жена и ребенок. По его словам, это его уже не останавливало.
– Меня остановит теперь только пуля, – бравировал он.
Не то, чтобы она хотела романа. Просто она считала, что стоит большего. И Антон не ценит ее так, чтобы у нее появилась эйфория жизни. Как ее ценят все остальные мужчины, которых она встречала. Он даже не мог понять, каким искушениям она подвергалась – все эти годы, пока почти как монашка жила с ним.
Долг прежде всего. Перед сыном, перед моральными нормами, которых никто не отменял. У нее есть своя честь. Гордость, наконец. Унизил ли Антон ее гордость? Нет пока. У нее нет формального повода бросить его. Хорошо было бы его выдумать.
Зато Маниг, встретив лояльное отношение, воспрянул духом. Она ведь не хотела жизни без любви, тем более секса. Это унижало ее. Конечно, она была слишком рассудочна, чтобы считать секс хорошим средством, ценным при любых обстоятельствах. Но теперь на работу она ходила исключительно, чтобы увидеть одного человека, послушать его рассуждения о том о сем, его комплименты, его намеки, слишком прозрачные, чтобы так называться. И, тем не менее, завораживающие.
Маниг никогда не был доволен собой, его требования к результату превосходили талант (как он считал). Писателей и поэтов он считал последней жреческой кастой, хранящей предания об откровениях, за что и не любил их Платон и все, кто боится неясного, посягающего на зыбкие границы реальности.
А еще он преподавал культурологию студентам Гуманитарного университета, ненамного старше них, поэтому брал не возрастом, а вдохновением. Однажды он пригласил на свою лекцию Матильду.
– Атлантида – тоска греков по своей античности, – рассказывал он притихшей группе. – Каждому времени, каждому народу нужна своя классика: отдаленный период, создавший абсолютные образцы в искусстве, в жизнестроительстве, на которую можно ссылаться, не боясь совершить ошибки, не опасаясь показаться смешным. Это то несомненное прошлое, которое требуется настоящему как орудие для корреляции истории. Часто – демагогическое…
Тут царила похвальная демократия, и студенты бурно обсуждали каждую телегу препа, ничему не веря на слово, чувствуя редкую возможность участвовать в процессе поиска истины, а не быть его жертвами. Раньше этого нельзя было себе и представить! Полтора десятка молодых щенков с азартом наскакивало на матерого волка, а он лениво отбивался, а потом снова брал слово, чтобы сообщить новый тезис.
– Культура – есть уточнение идеала. В течение всей истории она развивалась по спирали вокруг некоего искомого стержня, то приближаясь к нему, то вновь удаляясь. И эпохи, когда идеал был почти различим, – мы зовем классическими. Для этих периодов характерно несколько веков предшествовавшего развития, в течении которых складывалась сумма приемов. Совершенствование приемов одновременно с выработкой строгой концепции существования, когда привычка к послушанию и труду давала предпосылки свободы, – вот из чего в определенный момент рождалась классика.
И снова на тезис отовсюду сыпались антитезисы, как правило, довольны наивные, но, во всяком случае, отражавшие неравнодушие к вопросу.
– Правда эллинизма в том, что высокая красота – всегда этична, у нее нет дистанции между намерением – и поступком, ибо она сама есть сразу и идея прекрасного поступка и его результат. Подтверждение этому в том, что и прекрасный поступок по отношению к человеку и несомненное достижение в области искусства вызывают одно и тоже чувство – восхищение!
Студентки были от него без ума. Он, смеясь, показывал их любовные записки, приглашения на свидания. С особо красивыми и одаренными он вел тонкую иезуитскую игру, делая их центром несколько иронического внимания группы, как бы обнадеживая, но не подпуская близко.
Она сама теперь была, как эти студентки. И когда он не появлялся, весь день проходил в скуке, мелких стычках и головной боли. Как уже давно все дни.
Они ехали, а потом шли почти до ее дома, потом ехали/шли обратно. И только говорили. Только держались за руки. Подсвеченный университет на Воробьевых горах казался тающим куском сахара в стакане ночного чая.
В версии для Дятла это называлось уезжать на задание: презентацию, вручение премии, творческий вечер. Иногда это и правда было так. И Маниг, естественно, случайно оказывался поблизости.
Видеться для них стало насущной потребностью, как наркотик. Она не находила в этом ничего зазорного. Она никого не обманывала. Почему она не может общаться с интересным для нее человеком? Иногда она приходила с Манигом домой – и Антон, вроде, был рад ему. Они спорили о политике и литературных репутациях. Маниг был все же настоящий писатель, выпускник Литинститута, лектор на ставке, не то что дилетант Антон, все время глумившийся над писателями "с дипломом":
– Одни пусть становятся членами союза писателей, а мы будем просто писать… – как бы шутил он.
Так и было: он по-прежнему писал свой "роман", не имевший конца и края, грозящий вместить в себя всю вселенную и все учения о ней. Он писал его, как одержимый, тратя на него все свое время, все время, которое мог бы провести с ней, в том числе, и ночью. Хуже всего было, что все эти жертвы были напрасны, и она отлично это видела. Иногда Маниг вызывал его, нет, не на спор, а как бы наружу из подполья, чтобы Дятел показал уже наконец свой неведомый шедевр, а заодно объяснил суть метода, которым пользовался. О своем творческом «методе» говорил так:
– Мне неинтересны факты. Я предпочитаю, чтобы рассказ возникал не из факта, а из догадки о факте. Или даже не факте… Чтобы он состоял из кусков никогда не существовавшей реальности. Рассказ может обойтись одним вероятным, так как бы незаконно вылезающем из реального и всем хорошо известного... Рассказ для меня – это миф о реальности, где вымысел рассказчика, э-э, соревнуется с вымыслом действительности…
– Вымысел действительности? Хорошо! – одобрила Матильда. – Ведь это и правда так! Действительность – огромный вымысел неизвестно кого, такой недоваренный булькающий суп. И… и если ты поймал волну этого вымысла, не знаю… вошел в резонанс…
– С бульканьем! – вставил Маниг.
– Да!.. Тогда ты становишься настоящим писателем. Вот моя концепция, которую я только сейчас придумала! – смеется она. – Кулинарная. Только не говорите: это потому, что я женщина!
Двое из троих были в восторге и чокнулись бокалами. Дятел пожал плечами и сказал в оправдание:
– У меня нет никакой концепции. Я пишу исключительно из своего нонконформизма. (Маниг поощрительно кивнул.) Потому что считаю творчество единственным назначением человека! (Маниг проницательно улыбнулся.) И единственным способом приблизиться к истине! (Маниг переглянулся с Матильдой.) Никто не может решать: есть у меня право писать или нет. Это и совки не могли, тем более никто не может теперь! Но теперь торжествует утилитарная точка зрения: это должно приносить деньги. Ты писатель, если можешь заработать на жизнь.
– Это тоже критерий, – усмехнулся Маниг.
– А Достоевский – писатель? И при этом он мог заработать на жизнь своими романами! – добавила безжалостная Матильда.
– Ну, если ты считаешь, что Ельцин равен Александру II, а та Россия этой.
– А ты – Достоевскому!
С ее точки зрения – все это были попытки не жить в реальности, прикрываясь высокими словами. Когда-то, когда она была моложе, ей это нравилось. Тогда она считала, что кто-то никогда не даст им войти в реальность и завоевать ее. Ну, значит, и хрен с ней. Мы создадим параллельную реальность и будем в ней счастливы. Это и было их догмой. Их общей догмой.
Но с тех пор много воды утекло. Тот, кто не притворялся творцом, а был им, пусть и не такого "возвышенного" масштаба – доказал это публикациями. Кто умел писать не для себя и не принципиально в стол, работая на поле, где дилетант не отличается от мастера, а хороший текст от плохого, но кто убедил, что его мысль и воображение кому-то нужны, чего-то стоят с точки зрения сложных законов профессии – вот тот и был настоящий писатель. Нет ничего сладостней и легче, чем считать себя непризнанным гением – в силу своей особой честности и недоступной профанам мудрености. Все стоящее обязательно пробьется. Настоящий текст – очевиден для специалиста, пусть вся его идейная оснастка враждебна ему. Конечно, тут очень много привходящих обстоятельств, но крайне редко бывает, чтобы настоящий гений рано или поздно не нашел признания (считала она).
Жизнь позволила ей теперь общаться с этими гениями или полугениями, которые не всегда нравились ей, но, во всяком случае, делали дело, а не притворялись, что делают его. Ей надоели обещания, сослагательность, завышенные амбиции. Ей хотелось: да – да, нет – нет, ей и самой хотелось доказать, что она настоящая – в отличие, увы, от многих, с кем она общалась раньше и которые были хороши лишь в очень специфических условиях тяжело больного совка.
Маниг, надо отдать ему должное, всегда щадил Антона, более того, был готов пристраивать его творения по мере сил в знакомых издательствах, только из этого почему-то ничего не выходило. И если раньше он, порой, довольно горячо спорил с ним, то скоро перестал, глядя на него с каким-то сожалением, словно на проигравшего. В том числе, и в любви.
Муки женщины, начинающиеся с разрывания девственной плевы и кончающиеся родами. Да и этим не кончающиеся, а начинающиеся с новой силой. Муки любви, муки измен. И при этом женщина – рада жизни и принимает ее со всей ее хирургией, болью и дурью.
А мужчина – нет. Так кто же более мужествен?
Что он может возразить? Что мужчины ходят на войну? Вот эти мальчики с тонкими руками и длинными волосами? Он защищает семью? От кого и как? Скорее, это женщина защищает семью и его в придачу.
Может быть, поэтому Дятел с какого-то момента стал активно искать свое мужеское начало, доказывая ей что-то. Только было поздно.
Из разговора с Ренатой:
– Почему может путешествовать только Одиссей, а Пенелопа – его ждать? Особенно, если его и нету вовсе. Тот, который рядом – разве это он? Это просто очередной жених. Их может быть два, десять. Якорь, который держит лодку.
Иногда, конечно, ее надо было держать: ой, держите, сейчас уплыву!
Что же это такое, что такое?!... Вот оно – так она и знала… Не могла ни о чем думать… Идеал ума, красоты, деликатности. Теперь он ей дороже всего.
Случается, что один дух бывает так восхищен другим духом, что, не зная, что для него сделать, хочет обнять, ласкать, тереться. Это, догадалась она, совершенно опровергает Фрейда. Может быть, такое чувство испытывали ученики к Сократу. Не тело чего-то там сублимирует, а дух в приступе восторга и благодарности – ищет мучений и уз. Которые в этот момент тоже кажутся сладкими.
Такого раньше не было: увлечься кем-то, кто совсем не твой. Увлечься, не будучи свободной. Может, она не знала раньше любви – а вот это любовь и есть? Господи, как страшно! Что же это такое? Просто ангина какая-то – и хочешь излечиться, а не можешь. Больше не принадлежишь себе. Тело реально болело, она казалась себе разбитой, может, от постоянной происходившей в ней борьбы.
Так и есть, констатировала она: у нее болезнь. Она всегда на качелях своего настроения. Раньше оно было в основном веселое. Теперь, если качели и имели некоторую устойчивость – то лишь в нижней точке уныния. Когда уже почти нельзя терпеть. И тогда немного отпускало, наступало краткое воодушевление. За весь этот год она так и не разобралась – обстоятельства ли произвели первый толчок, или сами качели спровоцировали обстоятельства?
Последний провал был особенно глубоким. Начался он, кажется, в ту ночь, когда вместо обвала любви, которого она так ждала, все обвалилось для нее слишком быстро (из-за него). А в душе страшный голод, который ничем нельзя утолить.
Она уже давно подозревала, что потеряла вкус к жизни. Любовь была последним достаточно подлинным ощущением.
И все стало складываться одно к одному. Кончились деньги. Сломался кран, телефон. Они были столь божественно не от мира сего (“функционально безграмотны”, как это называлось в одной перестроечной статье), что в то время, как их собственное колено под раковиной было сломано и текло и достать другое было нереально, все это время (много лет) у них в ванной на виду валялось другое колено, оставшееся, по-видимому, от прежних жильцов, но на которое они так и не смогли обратить внимание. На улице женщины с толстыми ногами и перекисью, низкорослые напряженные парни в широких штанах, пьяные с гримасой пресыщенности, посторонние мужики в пальто с низкой талией. Рубль опять падает, как пьяный у ларька. Нету даже солнца, хоть ждать его и не по сезону.
И вот все это вылилось в единственную мысль: все бросить и уехать!
VIII. ПИТЕР
…Провалы в памяти. Она не могла вспомнить: было ли это во сне или наяву? Жизнь ли стала такой бледной или сны такими яркими? Как воспоминания в дурке. Не готовится ли она туда снова?
Она попала туда – конечно, из-за Дятла, его очередного нервного срыва. А ей самой тогда нужна была помощь. Эпоха веселья кончалась. Не найдя помощи ниоткуда – она решила спрятаться в краткое безумие. Женщины умеют такое делать. Тогда, в дурке, ее едва и правда не залечили до сумасшествия. Но сумасшествие сумасшествию рознь. И то, которое текло в ее крови и теперь толкало в спину, было хотя бы сладко на вкус.
Картина собиралась по кускам, как страшное воспоминание, запретное и волнующее, как грех.
…Город был промозглым и ветреным. На вокзале ее, естественно, ждал Маниг. Официально она поехала к своей тетке, а на самом деле – встретиться с ним, чтобы что-то "выяснить в своей жизни", как она это назвала. Для себя она это определила: экспедиция особого назначения.
Весь день они гуляли по городу.
– Ты чувствуешь! – кричал он ей с пьяной питерской экспрессией: – Женщины пахнут апельсинам и ананасами! Когда я вас вижу, кажется, что жизнь создана для того, чтобы любить!
Он был возбужден и казался не в себе. Все было с перебором. Она улыбалась: когда тебя любят, даже зима может быть прекрасной. И когда ты сама любишь, хотя бы из благодарности.
Щадя ее, он находил маленькие дешевые кафе – где они грелись, пили чай и не говорили о главном. Говорили о пустяках: искусстве, Питере, друзьях… Он заводил ее во дворы, прекрасные, загадочные, как катакомбы вымершего города. У каждого была своя история. Здесь они пили вино из горла. Он хотел пить вино все время и заставлял ее.
– Всегда мечтала жить в Питере, – сказала Матильда.
– Провинция… для вас – москвичей.
– Разве? Докажи.
– С полпинка. Знаешь обиду питерца, когда он переезжает в Москву? Тут он был ферзь, все его любили и ценили, а там – никто. Сверчок, мол, знай свой шесток!
– Просто на своей территории всякое животное чувствует себя увереннее и смелее. И здесь это в тебе чувствуется. Даже теперь. Это же азы биологии.
– Все ты знаешь!.. – смеется он с восхищением…
И обнимает ее со все более смелеющим правом это делать.
– Какая у тебя лучезарная улыбка! – то и дело восклицал он, глядя как бы исподтишка, так что она терялась и не знала, как себя вести? – Какие лучащиеся у тебя глаза! Ты просто светишься изнутри!
Звучало это искренне. Видно было, что он совсем сошел с ума от любви. И, в общем, он был прав, она сама чувствовала что-то необычное, и ей было почти стыдно, что она не может сдержать свое лицо. Но, что делать: не может!
– Это плохо?
– Что ты!
Счастье трудно сдержать; даже когда человеку удается не говорить о нем постоянно, оно сияет в уголках глаз. Это были состояния, от которых она за долгие годы отвыкла. Да и не походила теперешняя она на себя прежнюю, и весь ее опыт был другой. Значит, все должно быть другим, равным тому, что изменилось и стало. И эта мысль пьянила, она была невыносима…
– Если бы я был художником – я бы рисовал тебя бесконечно! Ты сама не знаешь, какая ты прекрасная! Как ты такая получилась?!
Действительно, как? Хотелось верить, что она такая совершенная. С другой стороны, Антон был в Москве, с ее Гором, кормил его, отправлял в школу. Имеет ли она право поступать так, как хочется?
– Что с тобой? – спросил Маниг. – Ты жалеешь о том, что приехала?
Вместо ответа она обняла его и поцеловала.
Проходя по Невскому, она вдруг неудержимо захотела зайти в магазин обуви – и, о чудо! – увидела дешевые австрийские сапоги, о которых всегда мечтала. У нее даже денег хватало. Маниг непременно хотел за них заплатить.
– У нас с тобой еще не такие отношения, чтобы я могла позволить тебе это, – юркнула она бессознательно в цитату.
– Так пусть же будут такие!
Настоял, однако, на своем. Теперь они бродили по городу с коробкой с сапогами, глупо и смешно. Да и холодно, в конце концов.
Ночью она поехала к нему, в квартиру его мамы, случайно, конечно, пустую. Тут все уже было готово: вино, еда, свечи…
– К твоему приезду я написал стихи, хочешь – прочту?
Она кивнула, хотя стихи современных поэтов она не воспринимала всерьез.
– Ты не хочешь, чтобы я тебя любил,
Ты не хочешь, чтобы я тебя будил,
Ты не хочешь, чтобы я смотрел в глаза,
Ты не хочешь видеть меня, оглядываясь назад.
Ты не хочешь дать мне ни капли надежды,
Ты не хочешь, чтобы я стоял между
Тобой и всеми, кто для тебя значат
Гораздо больше,
Кто смеется, когда я плачу.
Ты не хочешь слез, ты не хочешь боли,
Ты не хочешь себя отпустить на волю.
Ну и пусть, мне не надо ничего даром:
Я хочу умереть еще не старым,
Не приходя в себя, не нарушая роли –
Как летчик в небе, как пехота в поле…
От любви, от любви, от любви!...
– Это что, песня?
– Как ты догадалась?
– Похоже на будущий шлягер, – усмехнулась она. – Ты стал писать песни?
– Хочу попробовать.
– А где же припев? У песни должен быть припев, – напомнила она, изо всех сил демонстрируя заинтересованность.
– Давай заберемся куда повыше! Давай займемся любовью на крыше…
– Фу, какой ужас!
– Я пошутил. Припева еще нет. Если будет шлягер, и ты услышишь его по радио или ящику – будешь знать, что он посвящен тебе!
– Очень трогательно…
Шлягеры напоминали ей пародии, но как люди ни зарабатывают деньги! Она сама делает много всякой халтуры.
…Тела двигались к развязке. Ей стоило большого труда вырваться из его объятий. От его жил, крови, кожи шел дух мужчины, викинга-завоевателя, смешанный с дорогим дезодорантом и алкоголем. Раньше ее окружали богемные мальчики, от которых если и шел запах, то индийских благовоний, который она ненавидела. Они презирали страсть, все животное, естественное, то одно, что дает силы и счастье. Теперь она увидела мужчину – и растерялась.
– Я еще не готова! – забормотала она, нервно отстраняясь и мечась по комнате.
– Что ты хочешь, что тебе надо? Вина?
– Не знаю. Может LSD? – Она засмеялась. – Или травы?
LSD она пробовала всего раз, но запомнила его могучее всеразрешающее действие. Он удивился, но понял, как приказ, как последнее испытание.
– Извини, LSD нету, только трава. И сейчас нам ее привезут, – сообщил он, кладя трубку, наивно улыбаясь.
– Что, прямо на дом?
– Да. По первому твоему слову.
Пока роковая машина ехала, они разговаривали о литературе и питерском писателе С., друге Манига. Она считала минуты, как идущий на плаху. Пусть еще чуть-чуть, еще немного, не теперь… Поэтому была рассеянна и отвечала невпопад.
И тут они услышали звук подъезжающего такси. Она вся сжалась и задрожала. Когда он вышел из квартиры, она вдруг вскочила и стала лихорадочно собирать вещи – но не успела: он уже входил в комнату.
– Вот… Ты куда собралась?
– Да нет, ничего, что ты, никуда… – бормотала она, нарезая круги по комнате, словно попавший в западню зверь. Наконец, уселась на диван. Он смотрел на нее вопросительно, словно на сумасшедшую.
– Если ты так не хочешь…
Она махнула рукой:
– Мне уже все равно!..
Трава была неплохая, проблемы соскакивали сами собой, как листья. Все стало казаться простым и возможным. В общем, нестрашным…
Маниг хорошо подготовил ее, чтобы она пошла на этот "эксперимент": роман быстрый, как все у нее, без подготовленных позиций, со штормовой любовью, как у Тома Вэйтса. Поэтому на вопрос об Антоне легко сказала, что у них, скорее всего, все кончено. Она и правда в тот момент так думала. Или хотела думать.
Она знала, что последует после такого ответа. Он уже объявил, что даже венчанный брак его не останавливает! Она не очень сопротивлялась. Ей хотелось наказать его, своего строптивого «брата» (а Антон все же оставался ей «братом»). Ей хотелось все сломать и поставить точку. Или просто испытать что-нибудь хорошее, давно забытое, что ослабит ужасное напряжение, давившее все последнее время.
– Что с тобой? – повторил он, отстраняясь, даже испугано. Теперь и он почувствовал, что она не в себе, и то, что она готова делать, продиктовано минутой, разделяющей, впрочем, одну жизнь и другую.
Она уткнулась ему в плечо. Он должен был жалеть ее. Жалеть и принуждать ее сделать то, что она хотела.
Она как наблюдатель смотрела, что может произойти, не жмя на тормоз и не педалируя ситуацию. Он предложил танцевать. Он обнял ее, ласкал ее грудь. Расстегнул джинсы. Она сама сняла остальное, чтобы ему было проще решиться. Они танцевали голые, и его "желание" стояло в нем трубой. Это не было стыдно, хотя она все равно делала вид, будто не замечает.
Она считала, что сделала все, чтобы этого не случилось. Уезжая сюда, она и в мыслях не держала такое развитие событий. Она оказалась недостаточно защищена перед такой мощной атакой. А не надо было отпускать ее одну! Не надо было провоцировать ее на безрассудство! Женщина слаба, ее можно уговорить, ее можно заставить.
Она перекладывала ответственность на того, кто заставил ее. Она будет в стороне, она будет молчать, а он будет разруливать ситуацию, инициатором которой был. Это не ее проблемы, а его.
Она вспомнила, как согласилась на эту поездку, как призывала Манига быть смелее, как в минуту отчаяния уговаривала его ехать! Все было не так просто. Но стоило ли теперь об этом думать?
– Моя красавица нежная...
Но он медлил. Видно было, что он не может решиться. Возбуждение падало в нем, пропорционально росту ответственности или осторожности. И этот факт нельзя было скрыть... Он еще не был готов. Она вырвалась из его объятий.
– Что случилось?
– Лучше я поеду к тетке!
– Нет!
– Да!
– Останься!
– Это может плохо кончиться.
– Все будет хорошо!
Он словно хотел уверить ее и себя, что лишь этот голый танец, этот опасный момент сближения и был его целью. Что то, что было, заменит им все остальное, чего они безумно хотят, но не могут себе позволить.
– Я постелю тебе в соседней комнате, – сказал он спокойно. – Или спи здесь. А я пойду туда…
Она застыла в раздумье. Ей были страшны оба варианты: если это произойдет, и если нет.
Если нет – значит, он мало любит ее, и это открытие было мучительным. Но если произойдет – это будет катастрофа и конец. Но это будет означать, что они любят друг друга, что эта любовь для них важнее всего: долга, опасности, осторожности, благоразумности, всего-всего, на чем держалась их жизнь до того, на чем держится всякая семья, на чем, может быть, держится мир. Который они хотели взорвать. Или не хотели? Еще боялись?
– Я поеду.
– Не уезжай!
Она оделась.
– Не надо!
Она взялась за ручку двери.
– Я тебя люблю!
– Не надо!
– Я тебя хочу!
– Что?
– Я тебя хочу!
– Неправда!
– Правда!
Он поймал ее, как убегающую кошку, и обнял. Его руки двумя змеями скользнули под одежду…
– Если мы это сделаем, мы уже не сможем расстаться! – воскликнула она, словно заклиная его.
– Пусть…
– Ты говоришь это, словно это так легко. А все будет сложно, очень сложно.
– Пусть! – было видно, что он уже принял решение, убийственное для них обоих.
– Ты хочешь этого, весь этот ужас, который начнется?! – цеплялась она за последнюю соломинку. – Ты выдержишь?
– Да. А ты?
– Не знаю…
Он шел на это как на жертву, почти как на казнь. Она оценила это… Так люди решаются завести детей, зная, что после этого их ждет один только кошмар – на всю их последующую жизнь. Они побеждают врожденный эгоизм, и это делает их другими людьми.
От мужчин она хотела подвигов. Завоевать ее в данной ситуации – был подвиг. Как бы дурно с ними потом ни поступила судьба. Такие вещи не могут хорошо кончиться, но она устала от того, что, якобы, кончалось "хорошо", то есть – никак, вяло длилось, по долгу или привычке. Почему мы готовы взбунтоваться против правительства, но не можем взбунтоваться против обыденности? Почему мы не готовы рискнуть всем ради любви?..
Она заметила, однако, что он успел надеть на свою плоть колпачок. Она попросила его снять.
– Ты хочешь от меня ребенка? – наивно спросил он.
– Нет. Но так это выглядит как просто секс. А я хочу страсти и любви…
Она хотела, чтобы в этот момент все сливалось: секс, страсть, беспамятство, ответственность, безрассудство. Только такая смесь эмоций – могла оглушить ее и оправдать то, что теперь происходило. А происходило нечто страшное, что изменит ее жизнь навсегда. К тому же проститутка из дурдома научила ее, что надо делать в таких случаях. Способ не стопроцентный, но достаточно надежный.
Когда, преодолев слабое сопротивление ее стыда, он овладел ею – внутри словно ударил колокол: все было кончено, точнее, все было начато. Закон отменен. Теперь все должно было быть иным, гораздо лучше, чем раньше. Она удивилась этой мысли, но была уверена, что так и будет, и была рада, что сделала это. Иначе эта новая жизнь не наступила бы никогда. Секс не был ни светлой, ни темной стороной. Он был мостом – в какое-то новое место, где тебя еще не было. Но только так можно было туда попасть.
Он был так взвинчен, что завершил процесс, едва успев его начать – даже удовольствия не было в награду за преступление, и теперь лежал рядом, бессильный и подавленный случившимся. Она очень хорошо знала это состояние мужчины – и ждала, что будет дальше? Покров иллюзии спал для него. Вопрос был: насколько быстро она (иллюзия) сможет овладеть им вновь. Насколько у него хватит альтруизма и безумия губить свою жизнь ради иллюзии?
Любовь – это плавание в море иллюзии. Женщина может находиться в нем всегда. При этом она, как правило, увлекается иллюзией мужчины – верой в его любовь к ней. Они плывут на одном кораблике – и вдруг он тонет по непонятной для нее причине – в самый прекрасный момент, – когда мужчине вдруг открывается "смысл любви": физиология и инстинкт, ловушка, придуманная для нас природой. Все это она знала, но не могла ни понять, ни принять.
Она неожиданно быстро заснула, юркнув в сон, как в спасительную гавань, где можно все забыть, что совершил, что теперь начнется, какой ждет ее мрак. Так должен прятаться в сон убийца, так прятался в сон Раскольников…
Утро она встретила в слезах. Новый мир мало отличался от старого, только рядом лежал другой человек. Которого она добивалась (чего скрывать), любви которого хотела. Торжествовать?
Если она расскажет это Антону, он никогда не простит… А она, конечно, расскажет.
И тут, только теперь, она испытала ужас – от того, что сделала. И теперь ей всю жизнь жить с этим ужасом, нести его, оправдывать…
Больше заснуть она не могла.
Каждая московская улица рано или поздно кончалась забором. Они были ловушкой, из которой нельзя вырваться, не впав в депрессию. Они словно намеренно были проложены так, чтобы человек жил, как на острове, не имея связи с большой землей. И днем в редких связующих артериях люди и машины сталкивались не на жизнь, а на смерть. Не будь метро, Вавилон бы вымер, самоуничтожился, безо всякой чумы, о которой фантазировали некоторые писатели.
На вентиляционной решетке перед метро нахохлившиеся голуби. Откуда-то залетевший кленовый лист на ступеньках – словно из проржавевшей жести. Впрочем, снега нет. Осень продолжается. Или не осень, а некое пятое время года, заведшееся в Вавилоне несколько лет назад. Словно перед концом света. Ну, да черт с ним!
Лицо в метро, красивое, как здесь и положено. Матовая однородная бледность Пьеро, запудрившая все признаки рельефа. И на лице лишь черные глаза и малиновый рот. Красиво и жутко.
Девушка с пышновьющимися темно-каштановыми волосами гордо поводит своей маленькой выпуклой попкой в коричневой шелковой юбке с кружевами. Тугая осиная талия, белая кофточка. Взгляд спокойный и надменный. Куртка в руке, чтобы не скрывать чудные кружева.
В вагон вошел мужчина: плоское круглое лицо, густая тупая борода лопатой, густые черные брови и колючие глаза. Все выдавало в нем славянофила. Потом вошел “горец” с русской женой. Шнобель был столь велик, что не вмещается в профиль и лез на лоб даже без намека на вежливость переносицы.
Когда-то в детстве, глядя на горящее ночь подряд окно живущего напротив художника, Дятел робко чувствовал, что это единственная приемлемая для него жизнь. Не жизнь художника, а жизнь свободного человека. Как ни странно, идеал осуществился – и почти без усилий с его стороны. И что же? – вопреки распространенному мнению – нет ничего несчастнее свободного человека, когда каждое утро ты, словно Господь Бог, должен заново заводить часы, то есть задавать себе программу существования: куда пойти, что делать, хотя настроение такое...
Он имел массу наблюдений над ночной жизнью, когда гулял с собакой. Ночной жизнью предметов и деревьев.
Ночь была бурная и громогласная: гремела железными листами на крыше, стучала воротами, угрожающе махала тенями деревьев, шумела эоловой арфой в кронах. В такую ночь должны рождаться боги…
Капель с крыши при несомненном минусе как бы подтверждала истинность мифа об Икаре. Подтверждала тем более веско, что дело происходило ночью, то есть в отсутствие солнца.
Иногда бывает: первый ветреный вечер, пустынный и тепло-знобливый. Болят легкие, и настроение нервное, ипохондрическое – как будто что-то должно случиться: гроза ли, несчастье, мелкое происшествие. В голову лезут неприятные мысли. О жизни, в которой не было ничего настоящего, качественного: все подделка и халтура. Это была неврастения, которой был озабочен Зощенко…
Эта ночь, этот день без Матильды, первый за много-много месяцев.
Она изменила почти демонстративно – и не была счастлива. Ощущения, что теперь они квиты – за все его настроения, обиды и увлечения вещами, не связанными с ней, не приходило. Она его не прощала, тем более теперь, когда он заставил ее сделать то, что, в общем, она всегда презирала. Он был еще больше виноват. Был бы он хорошим – этого бы не произошло. Она была в долгу только перед любимыми. А его она больше не любила – это ясно. Значит, она была свободна. Брак? Никто серьезно к нему не относился. Они жили, признавая свободу друг друга. Вот она своей и воспользовалась. У них был договор о свободе, но не было договора о верности. А договор превыше всего…
Она вскочила и ушла в ванну, где долго лежала в остывающей воде. Оделась, помыла посуду, сделала себе крепчайшее кофе. Сидела, думала. Она чувствовала, что вчерашнее было не в счет, словно ночной бред, словно приснилось. Если бы можно было остановиться хотя бы на этом… Она была почти уверена, что ничего не было. Почти ничего. Не было радости – и совесть была хотя бы отчасти спокойна. Она сделала это не ради похоти и удовольствия. А из принципа. К тому же она была пьяна, укурена, он тоже пьян, что-то такое произошло, какая-то попытка чего-то, как когда-то в юности. Глупое недоразумение. Впрочем, и от таких недоразумений бывают дети…
– Доброе утро, Солнышко! – сказал Маниг, входя на кухню.
А что он мог еще сказать? Ему досталась она – не так уж и мало. Он должен быть доволен.
– О чем ты думаешь?
Она пожала плечами:
– А ты?
Он тоже пожал плечами. С первого взгляда видно было, что его трясет.
– Хочешь кофе?
Он кивнул.
– У меня такого никогда не было, – наконец сказал он. – Я не очень моральный человек, у меня были любовницы. Еще до жены (поспешно оговорился). Немного, но были. По пьяни. Всякие окололитературные барышни. Они ничего не хотели, кроме этого. И я считал, что ничего им не должен…
– Ты мне ничего не должен! – оборвала его.
– Я не об этом! Ты совсем другая. Я чувствую, что это серьезно.
– Правда? Это замечательно!.. – усмехнулась.
Весь день он ходил по комнате подавленный, то снова горячо говоря о любви, то вдруг рассуждая, сколько культура напридумала мифов для оправдания естественной страсти человека. Старая истина: человек не может действовать, не окруженный покровом иллюзии. Не опьяненный желанием… какой-нибудь фигни!
– Это ты про любовь ко мне?
Они сидели на кухне в свете голубого зимнего дня в окне, напротив друг друга, и говорили. Он оправдывал то, что произошло, а она…
– Почему это всегда должно кончаться так? – спрашивала она. – Почему ты так хотел этого?!
– Ну, сделала природа для чего-то два пола… Значит, людям и надо это делать – и бороться с этим совершенно бесполезно, – бормотал он.
– Такая точка зрения никогда не была мне близка.
– Каждый хоть раз изменял… Каждый должен изменить… Чтобы знать, что это такое.
– Я не хотела… этого знать…
– Ты очень стыдлива в этом вопросе. Для тебя очень много значит физическая измена. Ты должна нормально относиться к свободной любви: ты же была хиппи!
Напомнил! Он, кстати, не был, только, по его словам, сочувствовал.
– Хиппи были в основном целомудренны, – возразила Матильда.
– Ну, послушай! Люди должны приносить друг другу счастье. Люди в постели по-настоящему сближаются друг с другом. Это создает доверие!
"А еще кучу проблем ", – вскользь подумала она.
– Должна ли я ради этого доверия спать со всеми мужчинами?
– Нет, только с теми, с кем тебе хочется заниматься сексом.
– Но я совсем не желаю заниматься сексом! – воскликнула она.
– Совсем?!
– Очень редко. Только с очень близким мне человеком, с которым все договорено и решено, который ближе мне, чем брат…
– А со мной?
Она покраснела.
– Может быть…
В ее обычном мире все покрылось такой коростой привычки, что самые естественные вещи казались невозможными.
Он стал бешено обнимать и целовать ее, словно вознамерился тут же овладеть…
– Но ты ошибаешься, если думаешь, что я ехала сюда за этим. Это все так внезапно. Я совершенно не готова… Пощади меня…
– Я просто хотел бы слиться с тобой, раствориться в тебе, познать через любовь с тобой Бога.
– О-о! – ей стало смешно.
Он рассказал, почему потерял интерес к своей жене, образованной и вроде бы умной женщине.
– В самый неподходящий момент, совсем как у Стерна, она может вспомнить, что не погладила ребенку брюки или что в этой четверти у него хуже оценки, чем в прошлой. Это ужасно! Это у нас теперь вместо интеллектуальных разговоров. Все это ее теперь так волнует! Она квохчет как курица над корзиной с яйцами, и вся мировая культура значит для нее меньше, чем ее курятник.
– Это свойство всех женщин, – оправдывала ее Матильда.
– Ты совсем другая! – говорил Маниг с уверенностью.
Хотелось верить этому лицу и человеку за ним. Что он, во всяком случае, не хуже прежнего. Зачем тогда? Чтобы что-то поменять в жизни. Исчезнут одни друзья, появятся новые. Она окончательно проникнет в литературный замок, застолбит там себе комнатку. Он будет ее проводником и помощником. Вдвоем они своротят горы!
Они ничего не ели, только пили, чай, кофе или вино. Нервы были взвинчены до бесконечности. Незаметно наступила ночь.
– Нет, давай на этом остановимся, – уворачивалась она от его объятий. – Мы уже достаточно сделали… Мне надо все обдумать…
– Что обдумать?
– Как жить дальше.
– И как же?
– Не знаю. У нас еще будет время… – лепетала она.
Она настояла, чтобы он постелил ей в другой комнате. Вот такой будет ее подвиг. Чуть-чуть оступилась, ну, что ж делать… Зато теперь остановить это будет посложнее, чем вчера. Он стоял на пороге комнаты, не желая уходить, и смотрел на нее.
– Ты чего? – наконец, спросила она.
– Я не могу забыть, что был в тебе и хочу туда снова!
– Перестань! – с неожиданной серьезностью.
– Что с тобой? – Он все время спрашивал это. Он ее не понимал. По его выходило, все просто. Счастливый человек.
– Не знаю. – Она укрылась одеялом и стала смотреть в одну точку.
Он тихо вышел, она погасила свет. Она боялась, что он все равно придет, что она не устоит. Но ночь прошла тихо. Она слышала, как он ворочался в своей комнате, вставал, уходил на кухню. Она не спала в своей. Ей надо было в дабл, но она терпела, только чтобы не спровоцировать его.
Утро началось с объяснений.
– Тебе плохо со мной? Ты не любишь меня? – спрашивал он требовательно.
– Если бы я не любила, я бы сделала это?! Мне хорошо с тобой.
– Лучше, чем с ним?
– Лучше, только я все время чувствую вину, что делаю что-то неправильное. Изменяю ему.
Она хотела услышать: что это не так, что она не изменяет, или "измены нет", или, самое лучшее, что она свободна, у нее больше нет обязанностей перед моралью и прежней жизнью. Все начинается заново.
Он сел на постель и обнял ее.
– Ты любишь меня?
– Конечно. Но…
– Без всяких "но". Ты уйдешь от него? Ты же сказала, что у вас все кончено!
– Да. Но он еще не знает. Это трудно. Я постараюсь. Не мучь меня. Это все очень сложно.
– Я понимаю.
– Ты любишь меня?
– Очень! Безумно!
Вот! А она-то думала, что никому не нужна, что она пустая и ничтожная. Дятел почти убедил ее. Ее время прошло (или она сама себя убедила).
– Ты ему скажешь?
– Я не знаю, неужели ты не понимаешь, как это тяжело?! – закричала она. – Мы прожили вместе кучу лет, мы хорошо относились к друг другу. Да и сейчас относимся.
– Значит, теперь ты будешь изменять мне… – проговорил он, глядя пристально в глаза. В его глазах стояло что-то ледяное и страшное. Она даже испугалась.
– Да, это ужасно, – выдохнула она и отвернулась.
– Зачем ты это делаешь?
Она достала сигареты и закурила, укутавшись дымом, как одеялом.
– Жечь мосты – мое ремесло, – сказала она. – Знаешь, как бургуны – они сожгли свои корабли, переплыв Рейн. Чтобы не было искушения вернуться.
– Но ты же все равно вернешься, ты!.. – Он оборвал себя.
– Знаю. Я всем делаю больно. Я такая дрянь! Но что же делать! Я наломала дров, мне некуда отступать.
Она быстро выкурила сигарету и снова закурила. Она курила беспрерывно, тушила сигарету и зажигала новую. Это было привычно для нее.
– Может быть, не стоит так много курить?
– Я не могу сейчас без этого, – ответила она. – Вот ты пьешь, а я курю.
Маниг действительно пил, почти без остановки, портвейн, за которым уже сбегал в соседний магазин.
– А как он к этому отнесется? – спросил он.
– Это тебя волнует? Странно. Я не собираюсь ему говорить.
– Будешь скрывать?
– Попробую. Не смогу – вот и скажу. Тогда все и кончится. И тебе придется меня взять, как честному человеку, ха-ха-ха!
– Почему все-таки ты хочешь вернуться? – спросил он.
– Я не знаю. Может, и не вернусь. Зайду взять сына и вещи… Давай не будем сейчас об этом, это все испортит.
– Мы – свободные люди. Мы живем вместе, пока нравимся и подходим друг другу. И свободно уходим, когда больше не нравимся.
– Да, старый принцип. Но мы с ним привыкли друг к другу. Вот в чем беда.
– Люди привыкают к матери и отцу, а потом уходят.
– Когда встречают другого, более важного, – возразила она.
– Ты и встретила. Разве нет? – он наивно улыбнулся.
– Да, но – это глупо, но мне и его не хочется терять. Очень глупо, я понимаю…
– Ты слишком жадная.
– Наверно.
Он тоже закурил.
– У меня скоро поезд, – напомнила она.
– Ты же не хочешь сказать, что это был просто короткий роман в другом городе?
– Конечно, нет!
Она пошла в прихожую.
– Как красиво ты одеваешься!
– Лучше, чем когда раздеваюсь? – кинула она легкомысленно.
– Не возбуждай меня, я за себя не отвечаю!
– Нет, когда я лучше: в одежде или без?
– Конечно – без! Но ты прекрасно одеваешься. Может быть, женщины красиво одеваются, чтобы подавить в себе желание раздеться? – спросил он.
– Интересная мысль. Я над ней подумаю.
– А я хотел бы, чтобы мы всегда ходили голые, как в раю, и занимались любовью всюду и когда нам захочется. А ты бы хотела?
– Да. – Ей уже было все равно, она всего хотела, она была за гранью добра и зла, как ей самой казалось.
Но чем ближе был конец праздника, тем стремительнее менялось ее настроение. Осталось два часа, остался час… Не надо вмазываться, говорят старые торчки, никогда не забудешь… Не надо заглядывать сюда… А потом: ужас встречи, кошмар объяснения… Она словно забыла, что собиралась лишь взять вещи. Вся решимость вдруг покинула ее. Тихо и печально они ехали в Москву. У него был билет в другой вагон, купленный прямо на вокзале, но всю дорогу они провели вместе. Всю эту последнюю ночь.
– У меня есть комната, где я храню дорогие воспоминания. Я положу туда это воспоминание, как самое дорогое. Когда мне не захочется жить, я буду приходить туда и любоваться им. Сама того не зная, ты, может быть, спасешь меня от чего-нибудь страшного…
– Я рада, если это будет так, – сказала она с усмешкой. Сама она знала, что воспоминание об этой ночи не наполнит ее ни счастьем, ни покоем. Вообще, она не любила вспоминать, предпочитая жить на узкой грани настоящего.
– Это же ненадолго, наша разлука, да? – спрашивал он, словно маленький мальчик маму. Он думал, она думает об этом.
– Конечно.
– Как я пойду домой, не представляю теперь! А ты? Что мне с ней делать? О, как она мне обрыдла! Все эти ее ужимки, ее глупости! Она до сих пор не может привыкнуть к этому и все придумывает дурацки слова, как Лимонов: хвостик там и прочие глупости!
– Хвостик? Очень смешно, ха-ха-ха!
– Тебе смешно, а мне?
– Это все же твоя жена. Ты ее выбрал.
– Ты издеваешься?
– Нет!
– Я был глуп, молод, я не знал, что есть такие, как ты. Тебе не понять.
– Знаешь, мне тоже туда – как на плаху.
– Серьезно?
– Серьезно.
– Ну, почему ты тогда едешь? Почему не позвонишь, не скажешь ему? Разве так не легче?
– Нет.
– Я не понимаю!
– Я не хочу об этом говорить, но это как-то подло… Я не могу так! Я хочу сказать в глаза, пусть потом мне будет очень плохо. За все надо платить, – улыбнулась она печально.
– Но зачем?! Ты все испортишь, всю нашу нежную счастливую любовь! Все станет действительно сложно, пойдут все эти скандалы, обиды… Я бы этого не выдержал…
– Ты такой слабый? Тебе не кажется, что любовь надо заслужить? Что ради нее надо пройти и через это? Или что же это за любовь? Тогда это действительно просто адюльтер.
– Если бы ты была свободна!
– А ты?
– Ну, я говорил тебе, мои отношения чисто формальны. Я могу уйти в любой день, меня ничто не держит.
– Хорошо тебе…
– Но почему ты мучаешься? Вспоминаешь былое счастье?
– Что? – удивилась она.
– Ты же вновь уходишь к нему… Ты все еще любишь его, да?
– Я не знаю, кого люблю… – сказала она в самой невинной манере, входя в поезд метро. – Может быть, я уйду от вас обоих. Раз нельзя вас вдвоем совместить… – И засмеялась. Такая она была.
***
Почему он отпустил ее в Питер? По недоразумению. Он в то время сам был увлечен – одной случайной девушкой, заглянувшей в его дом, подругой приятеля. Матильда ничего об этом не знала – до самого последнего времени, когда стала о чем-то догадываться.
Он не мог вспомнить, когда первый раз ее увидел... Тогда он познакомился с кучей народа, и она ничем не привлекла внимания. Может быть, она росла, приноравливаясь к ситуации, может быть, почувствовала себя увереннее – но в его кругу заметно стало внимание к ней и к ее жизни, для него сперва все еще не совсем обоснованное. И чем больше ослабевала прежняя любовь и радость и расширялся спектр поисков в соседних областях – тем более она перемещалась в некий центр взаимоотношений.
Он и не думал никогда в нее влюбляться. Они просто разговаривали: при всех, иногда отдельно, по телефону. Исключительно "по делу". От этих постоянных разговоров их присутствия в жизни друг друга стало столько, что возникла общность, типа дружбы. Тогда перестал работать механизм различения "свой-чужой", она стала маркироваться как "свой", защита была снята. И тогда он с удивлением обнаружил, что скучает по ней, что ему ее не хватает. И что он – влюблен в нее. Вот неожиданность!
Он бросился к ней, как к свежему вину. Он вдруг осознал, что никогда не испытывал любовной страсти, "не имел от женщины детей…"
В ней все было изящно и красиво. Даже ботиночки, стоящие в коридоре – были красивы. Два грациозных черных зверька, высоких, прихотливо изогнутых по форме прекраснейшей ноги, на высоком каблуке, с длиннющей шнуровкой, сбежавшей сюда с женского корсета.
Деятельная праздность – вот точная характеристика ее жизни. Даже стихийная мысль у нее была облечена в стиль.
И хоть у него существовало строгое правило – не влюбляться в жен и возлюбленных своих друзей, считая их заранее существами бесполыми, здесь он почему-то счел себя свободным поступить как заблагорассудится. Хотелось ли насолить гордому приятелю, думал ли он, что приятель не достоин такой птички, был ли соблазн слишком велик? Все вместе. Они тоже завели отдельный от приятеля опыт, пустяковый, но важный, постепенно вытолкнув его за рамку душевных и психологических (пока еще) игр. Да приятелю эти игры и не были нужны.
Женское обаяние – в характерных фразах, интонации, наклоне головы, движении рук. Это все должно быть ни на кого не похоже, должно запоминаться, возникая неожиданно в памяти, и требоваться, как наркотик. Женщина должна говорить так, чтобы ты восхищался тем, как она это делает, больше, чем смыслом сказанного. Прибавьте сюда ажурную черную юбку с черными колготками под ней, приятные духи, вьющиеся волосы, загадочные глаза – и ты уже пойман.
Любовь – дурное, загадочное состояние. Но что же делать? В сердце, в мозге, в лимфатических узлах всегда есть место для нее. Увидишь простую пятку, и так она тебе понравится, что в омут за нее готов. Прозрачно-тонкую, изумительную. И распространяешь любовь к ней на всего человека, даже на душу его, которая тут совсем не при чем.
Он помнит, с чего началась его любовь. Она сидела за столом у них дома, делая за компьютером какую-то нужную ей работу, так, будто, отдыхала или давала урок хороших манер: с пряменькой спинкой, спокойная, совсем не деловая, ладная, изящная и заостренная. Идеальная модель. А он еще ищет, кого рисовать!
Работать, не теряя изящества ни на секунду, – это школа! И еще умно и впопад отвечать на вопросы, не напрягаясь, не изменяя идеальной позы. От нее шел опасный запах женщины, сотканный насквозь из духов, но несший еще что-то хищно-индивидуальное.
Кто она? Она могла бы быть великолепной гетерой, подлинной Аспазией, вдохновительницей какого-нибудь Перикла или Родена. Она любила блеск и движение, имена, глубокие и надрывные сюжеты. Она сама могла блестеть, никогда не появляясь в невыгодном свете, умея в интересах тактики наступить на горло песне, когда голос был слаб. Отличный ум, но никакой последовательности и, может быть, даже – никаких убеждений. Хорошо все, что создает эффект. Главное в ней было, в конце концов, талант расставлять слова и производить жесты.
Любовь – это когда по человеку скучаешь, как по какому-то редкому блюду, как от нехватки витаминов зимой. Организм требует это по праву крови – и ты веришь, что этот человек действительно твой, потому что сама кровь не отторгает его, а наоборот – просит, как пищи, которую можно сожрать, переварить, сделать по-настоящему своим. Любовь – это род каннибализма.
Только любовь может заставить морального человека отказаться от морали. Искушение, которого никто не может выдержать. Причем – твоя любовь, конечно, чистый эгоизм, восторг и новое ощущение жизни. Такой восторг, который превыше всего! Даже предательство он не воспринимает предательством – потому что у него, этого несчастного, уже два связанных с ним существа, и выбор одного – всегда будет предательством другого. В этой ситуации одно предательство становится неизбежным, а, значит, необходимым. А как все необходимое – от тебя как бы независящим и, поэтому, не противоречащим морали. Ловушка, в которую человек охотно попадается.
Он видел, как уверенно приближается к цели, понял по ее недвусмысленным взглядам, словам, ее захвату его руки на улице с извиняющимся “можно?”. И чувствовал, что любовь его, сперва безумная и унизительная, – проходит. Они менялись ролями. Теперь сильным был он, теперь он диктовал дальнейшие повороты сюжета. Только, пожалуй, не оставалось места ни на какие повороты.
Он был у нее дома, сидел с чашкой чая, она прихорашивалась перед зеркалом. Слишком долго, слишком тщательно, слишком демонстративно, словно ожидая чего-то. Вся поза, спина говорили на непонятном языке. Он вспомнил стихи Рильке: “Как в воде снотворный порошок...” Случай был подходящий: любительница поэзии и всего утонченного, она бы оценила. Но он не стал читать... Это была бы слишком явная подписка. А он еще не имел намерения ее соблазнять. Молча пили чай, слушали музыку. То есть – говоря о каких-то пустяках.
Опасность была так велика, что он задрожал.
– Я, пожалуй, пойду, – пробормотал он.
Она не подходила на роль любовницы: он слишком уважал себя и ее. А на роль жены она подходила еще меньше.
– Ты уверен, что хочешь идти?
Нет, он не хотел!
Но почему всю жизнь – этот долг?! Он не был свободен, ни одной секунды. Он уже забыл это состояние – свободы, как заключенный в темнице забывает, что такое голубое небо. А ведь когда-то он все был готов отдать за нее, догадываясь, что без свободы не может быть и счастья.
Он ненавидел себя за эту трусость. Почему он не хочет рискнуть? Хотя бы сделать вид, что твоя жизнь не закончена, что в ней могут быть повороты? Чего он боится, он же всегда может остановиться, если сюжет пойдет не в ту сторону…
Они были одни, он бы мог уехать утром домой, и никто бы ни о чем не спросил…
С этими мыслями он мрачно ответил:
– Уверен.
Поцеловал ее в щеку и сам закрыл дверь.
Он не знал, зачем ждал от нее любви. Нервно ждал ее прихода, не спал по ночам, рисовал красавиц, читал книжки. Хотел быть достойным такой птички. Ее любовь была как доказательство, что он стал лучшим – взамен тому, чего никак не хотела признать Матильда и внешний мир. Он был согласен сделать такой обмен: а все остальное пусть катится к черту! Ее духи сводили его с ума.
А она все ясно видела, кокетничала с ним – а он принимал это за любовь. И, однако, он ей не верил. Она была слишком женщина, чтобы быть искренней. Такой, какой до известной степени была Матильда. Собственно, он хотел победы над самым лучшим соперником, хотел получить самый большой приз. Его любовь была – разыгравшееся тщеславие. И голая похоть.
Женщина слишком подчиняет нас, думал он. Как в древние времена – она пускает тебя в дом, в котором царит, который охраняет, который она создает для вас обоих. В котором тебе, в конце концов, может стать душно.
А еще, начав спать с женщиной – ты рано или поздно забываешь разные вещи, которые были когда-то важны, отпуская свое воображение в опасные области, где нет слов, нет определений, нет достоинства. Ты начинаешь смотреть на все под другим углом, как будто от землетрясения сместилась настройка.
Он думал об этом, возвращаясь домой, трезвый, словно не выпил ни капли из этой чаши.
"Буду ли я жалеть о том, что не случилось? Конечно, все можно вернуть, повторить, но с другим результатом. Ничего нельзя вернуть! Все складывается так – всего один раз. И я сделал свой идиотский выбор". И он едва не улыбнулся, поздравив себя с ним.
Полная луна в изумительно чистом небе – результат мороза, имя которому надо искать среди двузначных числительных. Собака пыталась поднять слишком много лап – оторваться от ледовитой земли (“ядовитой”, как говорил он в детстве).
Еще одна ночь без Матильды…
Он ходил по квартире, пил вино, пытался писать… Вдруг вздумал звонить в Питер… и сообразил, что не знает телефона тетушки. Это можно было исправить, позвонив матильдиной маме, найти предлог. Он был в таком состоянии, что и это не представляло труда. И что: он узнал, что Матильды у нее нет и не было. Она лишь звонила, обещала заехать, но не заехала, и тетушка не знает, где она.
Это ничего не значило: у них в Питере была прорва друзей, и у любого она могла заночевать. Тут же он вспомнил, что и Маниг тоже из Питера… Приложив небольшие усилия, он мог бы позвонить и ему – и узнать, где он находится? Но это уж слишком бы походило на ревность.
А если и так: пусть это она, не он, – пробьет дыру и утопит их судно! Его совесть будет чиста. Будет ли он счастлив? А счастлив ли он теперь? Сюда давно уже надо было бросить камень, чтобы всколыхнуть болото, которое когда-то было морем. Что это значит, если Матильда, кремень честности, обманывает его? Единственный человек, которому он полностью доверял? Как жить в мире бесконечной вариативности, где нет ничего прочного? Не об этом ли говорили их православные друзья, призывая приковать себя к незыблемому камню церкви?
IX. О ЛЮБВИ
Она приехала в Москву раздраженная и полубезумная. И одновременно страстная, готовая что-то искупить и загладить. Антон ни о чем не догадался. Куда там! Он же ни хрена не понимал в людях! Он и сам был почти не человек: ходячий принцип и абстрактное понятие!
И ей с ним жить?! Теперь она уже не сомневалась, что это невозможно.
С ней что-то творилось. Она изменилась: говорила по-другому, движения стали другими. Будто она была не здесь, а где-то далеко. Нервная, не смотрела в глаза. "Плохо спала в поезде", – объяснила она.
Она сразу залезла в ванную и долго-долго мылась. Точнее, лежала там. Это место было как буфер между ней и реальностью. За дверью стояла прежняя жизнь, и выносить ее не было сил. На полке под зеркалом она увидела бритвы Антона. "Вот, если станет совсем уже хреново, есть простой способ. Всегда, в конце концов, есть выход". Это ее успокоило.
– Что с тобой? – спросил Антон, когда она вышла.
– Ничего, все в порядке, а что? Я совершенно такая, как раньше, что ты выдумал?
– Ты уверена?
– А что мне сделается? Знаешь поговорку дедушки-контрабандиста: “Тот, кто пашет и кует – тот кует и пашет, тот, кто пляшет и поет, тот поет и пляшет”…
Она все веселилась, словно поднимала настроение на тонущем корабле.
И правда, может, это все его выдумки? Чего он от нее хочет? Чтобы она его любила? Но заставить любить нельзя. Да и он сам – любит ли ее? Так, как раньше? Вообще как-нибудь? Она просто друг, с которым ему удобно жить в одном пространстве. Наверное, это неизбежная сторона брака. Хорошо, если и так…
Она не рассказывала, как провела время в Питере. Упомянула невзначай, что встретила Манига – и некоторое время провела с ним. Ничего особенного. Он даже не думал ловить ее. Пусть сама скажет все, что считает нужным.
Зато она живо интересовалась, что он делал в ее отсутствие? Он рассказал, что встречался с их общей знакомой. Она вцепилась в это, словно ей только того и требовалось. Неимоверной женской интуицией Матильда что-то почувствовала. Остальное он рассказал ей сам, в качестве акта доверия.
Она восприняла это совершенно спокойно.
– Мне тоже есть, что тебе рассказать, – сообщила она в ответ. – Я, видимо, уйду от тебя.
(Вот тебе! Чтобы не торжествовал теперь, неотразимый любовник, мечта всех женщин!)
– Ты серьезно?
– Вполне.
– Милое известие.
– Ты меня не любишь, для тебя это не будет трагедией.
– Ты себя успокаиваешь?
– Я пытаюсь тебе объяснить…
– Что? Как я должен чувствовать?
– Как тебе будет хорошо. Будешь свободный, завяжешь настоящие отношения со своей возлюбленной, никто не будет мешать.
– Она мне не возлюбленная.
– Не важно. – Она замолчала и принялась курить. Она была потрясающе спокойна, будто разыгрывала его.
– Я тебе не верю.
– Не веришь своему счастью?
– Зачем ты издеваешься?
– Что ты, я не издеваюсь! Я правда уверена, что и тебе и мне будет хорошо…
– И к кому же ты уйдешь?
– Думаешь, не к кому, никому я не нужна?
– Я его знаю?
– Перестань. Ни к кому я не уйду. Просто буду жить одна. Я тоже хочу побыть свободной.
– Я так мешал твоей свободе?
– Да, свободе быть счастливой.
Он покачал головой.
– Все упирается в меня? Ты сама такая безгрешная?
– Нет. Но, как ты понимаешь, со своими грехами я могу примириться, а с твоими – нет, – и засмеялась.
Первой его мыслю было: отпустить ее и успокоиться. Но она добилась своего: он уже ревновал и злился. Значит, не мог уйти. А вот она – могла, но пока не хотела, наслаждаясь своим торжеством. Она всех победила. Зеркальце опять сказало ей, что она на свете всех милее.
Над ними витал пряный запах измены, он не мог его не чувствовать. Не то, чтобы это его пугало. Может быть, даже устраивало. Это был способ вырваться на свободу. Может быть, тогда кончится отчаяние?
Он лишь взял с нее обещание, что она не будет встречаться с Манигом без него. Он не доверял ее платоническому, как он думал, роману с ним, считая ее слишком умной для этого. Но верить ей больше не мог.
“Здравствуй, милый Мальчик. ...Мой муж циничный, злой человек. Он очень умный, он много знает, гораздо больше, чем ты. Но зачем тебе столько знать, мой Антиной, мой Фаон!..”
Это было письмо, вытянутое Антоном из-под пыли черновиков и рукописей на ее столе. Это было воровство, это было ниже всякой порядочности, но Антон считал, что ситуация достаточно возвышенна, чтобы быть выше щепетильности. Подозрения мучили его, и он был готов еще и не на такое.
“Милый мальчик, ты, наверное, решишь, что я не имею права тебе писать... Что я сошла с ума, решившись говорить с тобой о любви...”
Лицо его вытянулось, руки задрожали. Это был почерк Матильды. Она писала его еще до поездки в Питер. Предательство было на лицо.
Она обругала себя за неосторожность и беспечность. Такой артефакт надо было уничтожить в первую очередь.
– Это была игра, – сказала Матильда спокойно. – Литературная игра. Ты же рисуешь своих красоток. Он – это фантазия. Просто фантазия, импровизация.
– Надеюсь. Я разве циничен, как ты там пишешь?
– Вот видишь, нет, конечно. Помнишь у Ахматовой: "муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем".
– А, может, ты так меня видишь или хочешь видеть, чтобы иметь оправдание перед собой.
– Не надо оскорблять.
– Я не знаю, я просто пытаюсь понять...
– Это фантазия.
– Странная фантазия.
– Согласна, странная.
– Вообще-то, он не очень похож на Антиноя, твой Маниг.
– Совершенно не похож. Но почему мой?
– И странно, что ты мне не говорила. О нем. О том, как вы вместе проводили время, что делали?.. О чем говорили?
– Ничего особенного, и рассказывать нечего.
– Про другие свидания ты рассказываешь, даже более мелкие.
– Пожалуйста, я тебе расскажу, если тебе интересно. Все поминутно?
– Не надо, мне не очень-то интересно!
– Ты злишься – напрасно. Да, я не хотела говорить. Ну, такая у нас была договоренность. Он боялся, что ты взревнуешь и запретишь мне с ним видеться.
– С ним? Это тоже странно. Такие интимные договоренности за моей спиной.
– Что в них интимного?
– Ну как же, должны были прозвучать слова: чтобы он, то есть я, ничего не знал. То есть у вас появился свой опыт, который не является моим опытом, своя тайна, в которую я не посвящен. Ты знаешь, чем это пахнет?
– Нет.
– Не валяй дурака.
– Моя позиция не очень выгодна, но, право, никакого ущерба тебе не было нанесено.
– Хм.
Она не решилась сказать. Она знала, как он горд. Она боялась того, что может за этим последовать: душераздирающая сцена и немедленный разрыв. В этот момент она не была готова. Она хотела разрыва, но чтобы это произошло как-то быстро и легко. Почти незаметно. По-дружески. Страх сумасшедшего истребительного разрыва останавливал ее. Она подготовилась к нему своей изменой. Это было тяжелое орудие. Но она боялась того, что получит в ответ. Пусть она и достигнет цели – но не такой же ценой!
Всю ночь она требовала любви, изнуряя его и себя, желая платить всем своим телом за причиненную боль, которую он еще не осознал. И хорошо бы не осознал никогда. Породить из своей вины самое большое счастье, которого иначе он никогда бы не испытал. С удовлетворением она видела, что почти добилась своего. Что если бы хоть изредка она наполняла его такой страстью и радостью – он бы простил ей все.
"Почему люди не могут жить втроем?" – почему-то пришло ей в голову. Она покраснела и отвернулась, хоть никто ее не видел. Ну, правда: почему мужчины вечно соперничают друг с другом? Почему одному обязательно надо вытолкнуть другого? "А у женщин разве не так?" – тут же вспомнила она.
Она гладит орган, в котором он теперь весь воплощен. Уставший бутон расцветает от ее ласк, как цветок от воды.
– Мне нравится смотреть, как это происходит. В этом есть что-то мистическое. На древних это должно было производить впечатление, – сказала она тоном незаинтересованного исследователя.
– Тебе он нравится?
– Мне нравится, что я управляю им. Да, он мне нравится.
– Любишь его?
– Очень. А ты?
– Не знаю, это не очень удобно жить с такой штукой. Таким торчащим пулеметом. К тому же мало подчиняющимся тебе.
– Он реагирует на каждую красивую женщину?
– Вовсе нет.
– Разве ты не обращаешь на них внимания?
– Да нет, просто замечаю, что женщина красива – и все.
– Сожалеешь, что она не твоя?
– Ну, немного.
– А трахнуть ее хочется?
– Ну, что ты все об этом!
– Ночь откровенности…
– Нет, знаешь, не хочется. Я не хочу трахать тех, кого люблю или кто мне нравится.
– А я?
– Ну, тебя иногда хочется, – он усмехнулся.
– Когда же он не подчиняется тебе?
– Ну, иногда просто без причины. Во всяком случае, я их не понимаю. Иногда – когда ко мне приходят эротические мысли.
– А к тебе приходят?
– Бывает. А к тебе нет?
– Ну, иногда. Редко.
– А сейчас?
Она накрылась с головой, словно застеснявшись.
– Сейчас – да, – донеслось из-под одеяла.
– И что же?
– А ты никогда не хотел заниматься любовью с двумя женщинами? – Она откинула одеяло и с вызовом посмотрела на него.
Он пожал плечами.
– Не знаю, не пробовал.
– А хотел бы? Ответь мне.
– К чему этот вопрос? Ты сама хотела бы?
– Тут, наверное, проблема: любить двух одинаково.
– Вероятно, да…
– Но за разное, – добавила она. – И чтобы они не ревновали, не считали себя униженными.
– Ну да, недостаточно хорошими, чтобы заменить тебе всех других.
– Вот-вот, я и говорю, гордыни в вас много. И в нас много, – добавила она.
– Вот о чем ты мечтаешь? – сказал он с издевкой. – Зачем тебе это?
Она обняла его.
– Может быть, мне хотелось бы посмотреть, как ты это делаешь? Как ты мне изменяешь. В открытую, у меня на глазах. В этом было бы даже что-то возбуждающее, ты не находишь?
– А ты… хотела бы делать это втроем? – спросил он. – С двумя мужчинами?
– Не знаю, может быть. Это был бы эксперимент. А ты?
– Вряд ли, нет. Я слишком люблю тебя.
– Прости.
Это и правда была ночь откровений, когда допускались любые вопросы и могли быть получены самые неожиданные ответы.
– Секс втроем… – начал он этой долгой бессонной ночью. – Мне кажется, это могут делать только посторонние друг другу люди.
– Либо любящие кого-то одного или обоих безмерно, – возразила она. – Помнишь фильм "Весь этот джаз"?
– Я не смогу. Я слишком привык быть у тебя одним.
– Я понимаю. Я тоже привыкла. Но я знаю, что ты устал от меня. Тебе не с кем сравнить. Может быть, тебе надо обновить сексуальный опыт? Может, после этого, ты бы полюбил меня больше, нет?
Он пожал плечами. Никогда он не слышал от нее ничего подобного. Ему казалась, что она в бреду. Все последние дни. Но теперь уже – несомненно.
– Ты меня благословляешь?
– Да, только пусть это будет у меня на глазах.
– Это вряд ли может так быть.
– Почему?
– Потому что зависит не только от меня и тебя. Да и вообще, это странные фантазии.
– Наверное. Я совсем не понимаю, что говорю! – и засмеялась.
С возвращением в Москву Маниг превратился в проблему. Говорить с ним по телефону было ее единственным счастьем, но видеть его – было слишком! Она запретила ему даже приходить в издательство, чтобы не травмировать ее. И он все звонил – сперва на работу, потом домой и долго, слишком долго говорил с ней. Он все понимал, но все равно выпрашивал хоть мимолетного свидания, просто пройтись по городу. Ей удавалось скрывать эмоции, оттеснив произошедшее в недоступный буфер сознания. Питерская история была сном, инобытием. Ничего из нее она не могла перенести сюда, в Москву. Здесь, она считала, она не может себе это позволить. Даже невинное свидание. Потому что, если она один раз увидит его – сон превратится в реальность, и она не сможет остановиться. Или он превратится в кошмар, что всего вероятнее.
Их с Манигом жизнь напоминала игру в шпионов, со своими шифрами, звонками с прозвоном… Они воображали себя подпольщиками в стане врага. Враг не должен был знать про их любовь: жена Манига и Дятел. Они могли бы все разрушить, они бы не поняли их возвышенных отношений. Они (Матильда и Маниг) не знали, кого обманывают: свои половины или себя? Они бы предпочли обманывать себя, находя в этом оправдание того, что происходило.
Инобытие, превращающееся в бытие, грозило стать взрывом немыслимой мощи, у нее все замирало внутри, когда она думала об этом.
Нет, не правда. Она могла бы пойти на любые жертвы, даже на жестокость, если бы Маниг, который, как она считала, все это затеял, помог ей. Она была уверена, что его семейные узы – чистая условность.
Эмоции у него всегда на первом месте, словно у женщины, слова – самые-самые. Обещания и клятвы были нерушимы – пока он говорил с ней, пока у него был слушатель. Ему нужна была публика, перед которой он демонстрировал бы лучшие свои качества. Он сам себе верил. Ее, как кролика, завораживала его убежденность, ей казалось, что он знает, чего хочет.
Он действительно хотел, чтобы она стала его женой, но только надо подготовить почву, собрать всю решимость, расшатать ситуацию до той точки, когда она выйдет из-под контроля, – и все закружится в вихре новых возможностей, то есть волшебно преобразится. Так примерно он считал. И тогда все обретут счастье, никого особенно не травмируя.
Она хотела в это верить. О, как она была стойка! Одни раз, только один раз!.. Маниг все же увлек ее, подстерег в плохую минуту после работы… Он сказал, что обязан ее увидеть, потому что в этот день решается вся его дальнейшая жизнь.
Все произошло стремительно, грубо и дико, в пустой редакционной комнате. Они занимались любовью, исступленно, как в первый и последний раз, будто это конец жизни, и больше ничего у них не будет. Она удовлетворяла любые фантазии – и сама стремилась к ним, чтобы возвращение домой, возвращение в прежнюю жизнь было невозможно.
Потом сидели на бульваре, ничего не видя, не замечая ни холода, ни снега. Не могли расстаться.
– Зачем ты заставил меня? Я не могу тебя видеть! Целыми днями я лишь курю и раскладываю пасьянс. Хотя мне надо работать.
– Я понимаю.
– Ах, что ты понимаешь! Подумай о моем положении. Антон, кажется, меня ненавидит. Конечно, какая ему радость сожительствовать с твоей любовницей. Он таких широких взглядов? – ничуть не бывало.
– Разве он знает?
– Я думаю – догадывается. Я жду, что он сам уйдет, не выдержит всего этого. Такая я стала дрянь! А он терпит. Но это было бы не важно, если бы не ты. Ты сам. А ты не говоришь мне ничего!
– Я говорю.
– Мне не такие слова нужны. Я даже не знаю, чего ты хочешь, тем более, если я вдруг залечу. И мне хочется знать. Разве я не права?
– От кого залетишь – от меня?
– Это будет трудно выяснить… – она засмеялась, как обычно.
– Ты же сама не уходишь от него! – упрекнул ее Маниг. – Ты спишь с ним. Он не противен тебе, я просто схожу с ума!
– Ты сам виноват в этой ситуации.
– Ты могла бы жить с ним и дальше, если бы не я.
– Нет, не могла бы. Даже если бы не ты. Просто мне не хватало сил. Ты хочешь от женщины слишком многого. Но если надо, я и это сделаю.
Она хотела узнать, что сделает он?
– Рита! Как ты можешь! Это же серьезно! Говорить со мной о любви, провоцировать меня.
– Я тебя провоцировала?!
– Конечно!
– Я действительно хочу тебя видеть и – не могу видеть! Но я тебя не провоцировала. Может, проявила слабость. Ах, зачем мы это сделали, все было так хорошо!
– Когда?
– Когда мы просто любили друг друга. Без всего этого.
– Разве ты не хотела?
– Хотела, и что?
– Ты ведешь себя малодушно.
– Я? Да, конечно. А ты?
– Я думал, что после этого – все изменится. Ты будешь только моей. Я думал, что у нас все серьезно. А ты потом занималась с ним любовью!
– Ничего подобного! У нас ничего нет. Ну, может, один раз… И это все из-за тебя! Разве не ты этого хотел, не говорил, что у вас все формально? Чего ты тогда хотел, переспать со мной?
– Нет!
– А ты говоришь "серьезно". – Она усмехнулась. – Мне надо идти, иначе я сойду с ума!
– Рита, я люблю тебя!
– Да-да, и я тебя, но, видно, мы в чем-то ошиблись, и мне теперь по гроб жить неверной женой.
– Нет-нет, не надо это говорить! Я все решил, завтра же ты скажешь ему, а я ей – и потом!..
– Сперва ты скажи.
– Хорошо, я скажу.
– Жду звонка…
И она ушла, прижимая руки к разболевшейся голове.
С замиранием сердца она провела следующий день. Была необычайно мягка с Антоном, хотела чем-то скрасить то, что должно было вот-вот случиться. Переживала за него. Пыталась начать разговор и не могла.
Он, кажется, догадывался, что что-то происходит, что-то готовится, но молчал. И телефон молчал тоже.
Все было б проще, если бы не Гор, значивший в ее жизни так много и висевший на ней вечным жерновом любви и заботы. Если бы не он – она могла бы уйти в любой день, ее ничто не держало. С ним она была словно стреноженная лошадь. Он сдерживал ее от необдуманных поступков, слишком скорых решений.
Это было существо красивое, эгоистическое, самоуверенное, талантливое и дерзкое. Он мог летать. Даже воздух казался тяжел по сравнению с ним. Даже она. Не говоря о Дятле.
И вдруг Маниг позвонил и объявил, что только что ушел от жены. Он был какой-то странный и не по-хорошему веселый. И, конечно, пьяный.
И она, никого не предупредив, умчалась к нему на свидание. Он увез ее к другу на опять пустую квартиру. Он не дал ей сказать ни слова и не говорил сам, он только хотел ее, как не хотел ее никто никогда, словно он сейчас умрет. Он был совсем сумасшедшим – видимо, такие люди были назначены ей по жизни. Только он был более необуздан, чем другие, отчаян, страстен, большего хотел и еще меньше отвечал за последствия.
– Ты не рассказал, как все было? – начала она, наконец, утомленная и разбитая его атакой.
– Я все ей сказал. Да она давно догадалась.
– О чем она с тобой говорила?
– О чем? Что в моей жизни все изменилось. Это трудно скрыть.
– И она этого хочет?
– Нет, конечно. Сперва она заплакала, потом устроила сцену и потребовала, чтобы мы с тобой разорвали отношения.
– И ты что? Сказал, что это невозможно?
– Конечно. Сразу и сказал. Что, не верится?
Она промолчала. Сколько жестокости они причиняют ни в чем не повинным людям! За что эти люди должны страдать? И ведь это только начало, ей самой предстоит такое же… Стоит их любовь этих жертв? Стоит ли любовь вообще таких жертв? И любовь ли это после всего или просто эгоизм?.. Любовь к себе, своим радостям, своему счастью. Имеет ли право нравственный человек быть счастливым?
– Чего ты загрустила?
– Это все? Она не пыталась отговорить?
– Пыталась, конечно, а что?
– И ты спал с ней…
– Нет! Что ты! Но она хотела…
– Конечно, это делают все жены.
– Она так страдала!..
– Зачем ты мне это говоришь, чтобы я чувствовала себя дрянью?!
– Нет, прости…
Он надолго замолчал.
– Ну, рассказывай.
– А зачем? Ты считаешь, она притворяется, преувеличивает свои страдания. Чтобы удержать меня любой ценой.
– Это не исключено.
– Но она еще и гордый человек, она не может терпеть это долго.
– И?
– Она сказала, чтобы я ушел сразу и больше не возвращался. Напела мне: Take a road, Jack… And never came back… Что-то вроде этого… (Имеется в виду: «Hit the road Jack and don't you come back no more…» – автор.)
– Это мило… Да, это мило, – повторила она, оценив удачный ход "соперницы".
А, может, все к лучшему? Короткая, как боль, операция. Надо справиться с ложным, неправильным, что образовалось в твоей жизни, искривило ее, предназначенную для счастья, пусть здесь и участвуют другие люди. В конце концов, они тоже виноваты в этой ложности, в том, что ты не была счастлива, не могла лететь!..
Они договорились, что с завтрашнего дня начнут жить в этой квартире, им обоим лишь надо перевезти вещи.
Антон застал ее с сумкой у входной двери. Она была бледная и нервная.
– Куда ты собралась?
– Неужели ты не видишь? Я ухожу. Совсем. И никогда не вернусь!
Сердце в нем подпрыгнуло и упало на самое дно. Все это он давно предчувствовал, но не верил. И теперь ее слова поразили, как топором промеж глаз.
– Ты к нему?
– Да что ты! Просто… к Ренатке.
– Посреди учебного года?
– Тебя это стало так волновать?
Гор вышел из комнаты со своим рюкзаком за спиной. Насуплено смотрел в пол. Он не понимал, зачем ему надо куда-то уезжать на ночь глядя – из-за каких-то идиотских отношений родителей! Антону было его жалко. И себя тоже.
Он сказал, что уедет сам – сперва к другу, потом на дачу, которую строил для них обоих. Хотя, кто знает? Не предполагал ли он возможности такого поворота событий, когда ему понадобится дом, куда он может уехать? Дача была комфортным вариантом пещеры, поэтому он был готов разбиться ради нее вдребезги.
Она стояла потерянная в коридоре. Антон уже собирал вещи.
– Чем заслужу я тебе за все? – пробормотала она, кривляясь и говоря серьезно по своему обыкновению.
– Ты мне ничего не должна. Не думаешь же ты, что я делал бы это любому другому, первому встречному? Я не настолько хорош.
– Ты делаешь это из любви? Это самое лучшее.
Она вдруг обняла его и поцеловала. И отпрянула, увидев издевательский взгляд сына.
– Ладно, Гор, иди раздевайся. Мы пока остаемся.
– Черт! – бросил сын и мрачно удалился в свою комнату.
– Зачем ты его мучаешь?
– А что мне делать? Я – сумасшедшая мать, но другой у него нет, и ему придется терпеть.
Дятел стоял в дверях. Какой он был убитый!
– Останься, до утра.
Он стал стелить себе на полу.
– Я хотела бы последний раз поспать с тобой в одной постели. Просто поспать, без ничего.
– Зачем? Не лучше ли кончить сразу? Пропасть в два прыжка не перепрыгивают.
– Я хочу, чтобы мы расстались по любви. Без слез и трагедий. Как друзья. Иначе мы и не сможем расстаться. Из-за долга или чувства вины. От того, что делаем больно. Мы все же любим друг друга.
– Но этой любви не хватает на жизнь, да?
– Да, наверное. Тебе все же больно? Или нет?
– Больно.
– От того, что мы расстаемся? Или – что я могу уйти к другому?
– И от того и от другого.
– А если бы я тебе изменила, но осталась?.. Прости…
Она замолчала и отвернулась.
– С твоей стороны – это акт милосердия, жертва, да? – спросил он.
– Не говори глупостей.
Он чувствовал, как сердце "на куски рвется", но молчал. Он не хотел показать слабости. Просить остаться, обвинять. Его достоинство было выше всего. Потоптанное достоинство. Может быть, если бы он раньше меньше думал о достоинстве, а больше о ней… Но она требовала слишком многого. Он не хотел быть шелковым и послушным, идеальным принцем, половиной арки. Он предпочитал быть целым, хотя бы одиноким столбом. Камнем в поле. Хотите – используйте меня, как есть, но не пытайтесь обтесывать и делать удобным, "улучшать", приспосабливая для семейной идиллии.
Она смотрела на него огромными глазами. В них были слезы. И он, вопреки своей воле, обнял ее. И она вдруг крепко обняла его. Coup de grace...
Секс амортизировал боль, приносил забвение. Притом, что он занимался им не с кем-нибудь, кому он потом будет за это должен. Он занимался этим с нею, леча рану тем же оружием, что ее наносило. Пусть и последний раз. Это лишь добавило страстности и исступленности.
– А если я залечу? Вот будет смеху! – издевалась она, в том числе и над собой.
Очень весело.
Утром, как и обещал, он уехал. Ничего, что было ночью, не вспоминалось и не обсуждалось. Промелькнуло как возможность, которой никто не захотел воспользоваться.
Следующий день должен был быть самым важным в ее жизни. Она сделала салат и купила торт. Маниг принес вино. Аж пять бутылок. Гор был отправлен к бабушке. Они говорили, спокойно, никуда не спеша. Отключив телефон. Даже не говорили: сидели, держась за руки. Целовались. Танцевали под тихую музыку. Она была, наконец, счастлива. То, что было ночью, – являлось необходимой платой за это счастье. Откупное. Надо было сделать всем хорошо. Это было ее оправдание. Но Манигу она ничего не сказала. Теперь она обманывала его – и это ее забавляло. Она, такая честная, увязла в болоте лжи. А он все спрашивал: как ей удалось заставить его уехать? Что у них было? Очень ли это было страшно? Вот так и удалось…
– Тебе понравилось, как я делала это? – вдруг спросила она.
– Очень. У тебя большой опыт.
– Вот уж нет. У меня нет другого секса, разве ты не знаешь? Ты – первый.
– В каком смысле?
– Мой любовник.
– Наверное, я должен гордиться.
– Ты соблазнил меня, и тебе за это отвечать.
– Я не против.
– Все вы так говорите…
– Ты сравниваешь меня со всеми. Если я – как все, тогда зачем…
– Прости.
Красиво накинув покрывало, она ушла в ванную. Она хотела одеться, но Маниг вновь затащил ее в постель:
– Теперь я твой мужчина, ты принадлежишь мне, и ты не вправе мне отказывать!
Она и не отказывала: разве это уже имело значение? Суровый бог был оскорблен и повержен. К тому же она была уверена, что если Маниг и появится дома, то только видеться с сыном и приносить деньги, как делают все другие.
– Я как будто захватил банк!
– Теперь он пуст. Ты забрал все деньги.
– Он никогда не бывает пуст. Ты так прекрасна!
– Разве я отличаюсь от других женщин?
– Бесконечно!
Она улыбнулась.
– Вот, ты рядом, и мне ничего больше не надо. Как бы я хотел провести так весь день! – воскликнул он.
– А всю жизнь?
– Еще бы!
И все же она видела какую-то тень у него на лице.
– В чем дело? Что тебя мучит?
Он сказал, как ему тяжело делать это здесь, у нее дома.
– Может, все же поедем в другое место?
– В какое?
– Не знаю. Твой муж... Он же ни в чем не виноват.
– Я бы могла много на это возразить, но не буду. Да, он лучший человек – после тебя. Прими это как мою жертву. (Она чуть не сказала – нашу.)
– На самом деле, ты не представляешь, как я ему сочувствую!
– Мужская солидарность?
– Просто, я понимаю, что все это нехорошо. Мы сделали ему больно!
– А что можно сделать?
– И даже не объяснились, не подружились.
– Ты шутишь? Он не мазохист.
– Но я чувствую себя захватчиком. Да, чувствую себя захватчиком. Мы все у него отняли, даже квартиру.
– Ну, квартира – наша общая, даже, собственно, моя. Потом мы ее разменяем – я щедрая. Видишь, я на все иду ради тебя!
– Вижу. Ты прекрасна, я так тебя люблю!
– Пожалуйста, не думай сейчас ни о чем. Есть только ты и я. Это наша первая настоящая ночь вместе!
Потом они курили в постели, первый раз никого не стесняясь, как муж и жена.
– Что скажешь? Почему ты молчишь? – спросила она.
– Я сегодня виделся…
– С кем, с ней?
– Да.
– Ты не говорил… Зачем?
– Я приехал за вещами.
– И она там была?
– Она ждала меня.
– Так. И что?
– Это было ужасно! Она наговорила таких вещей!
– Ты же говорил, что она ведет себя самоотверженно!
– Вела, до сегодняшнего дня.
– И ты раскис.
– Еще бы. Особенно оттого, что я никогда не увижу сына.
– А – это! Сильный довод.
– Что? Опять не веришь?
– Да нет, просто с твоей стороны, видимо, требуется подвиг.
– Не смейся, это так.
– Я и не смеюсь, я же понимаю: это даже странно...
– Что?
– Что у нас все же хватило сил все это сделать. Если ты говоришь правду…
– Ты мне не веришь?
– Верю, конечно. Но почему ты не взял вещи?
– Я перевез их к другу. Я не могу сюда, прости.
Она пожала плечами.
– И я хотел бы еще раз увидеть сына.
– Он еще ничего не знает?
– Он догадывается.
– Осуждает?
– Ну, может, когда он поймет, что это серьезно и навсегда... – начал он с явной болью в голосе.
Она обняла его.
– Разве я не заменяю тебе сына? Разве рядом со мной ты не забываешь обо всем на свете?
– Конечно.
– Ты говоришь: когда он поймет. А он, они – еще не поняли? Ты сказал, что уходишь, – в каких-то неопределенных выражениях?
– Ну, я тоже был сильно подавлен.
– Ты говоришь с таким унынием. Может, ты сам в это не веришь? Тогда и они, конечно, не поверили.
Она вскочила, накинула покрывало и стала нервно кружить по комнате с сигаретой в руке.
– Пропасть не перепрыгивают в два прыжка! Мне тоже тяжело, но я же делаю это!
– Рита!
– Что?!
– Я раздражаю тебя?
– Ты такой, какой есть.
– Наверное, я не такой сильный, как ты?
– Разве я сильная? Просто, знаешь, мне и прежнего довольно…
Наутро он уехал на работу. Договорились, что, пока она не разменяет квартиру, он будет жить у друга, а встречаться то тут, то там.
Она знала: обещания, что Маниг не увидит сына – чушь, бабская ложь! Удар в поддых от обиды и уязвленности. Все так говорят, а потом все бывает как нельзя лучше, и экс-жены еще обижаются, что мало бываешь, не воспитываешь, не забираешь на выходные, не даешь личной жизни.
Об Антоне она думать не хотела. Успокаивала себя: пострадает – утешится. Это жизнь, она должна меняться. Никто не умер, в конце концов! Возможно, он обретет счастье, о котором не подозревает. Хорошо было бы разорвать отношения заранее, без отягчающих обстоятельств, но так у них не вышло. Разве она не хотела? – он же сам удерживал ее. Вот и вышло все, как вышло.
X. КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОЖДЕЙ
Ветер метнулся с бульвара за угол, пронесся мимо мусорных куч прямо к черному подъезду – там, во дворе огромного дома.
Лунный свет обновил несвежесть ночного снега, затаившегося в вооруженном нейтралитете.
Ветер чуть не сшиб – его, его – идущего в пальто и шляпе, высвободившегося из геометрического мира ночного трамвая, почти вовлек в сталкивающиеся стены подворотни, и – счастливо пронырнувшего – вновь отнимал, отсеивал от темноты, от теплоты, подвигал все ближе, ближе – к концу, может быть, к ничему, во всяком случае, к нужному номеру.
Номер, черным иероглифом, никак не разобрать, черной птичьей лапой, в зачеркнутой дали, где-то с самого края земли, гораздо дальше, чем на самом деле. Тащиться, тащиться туда – целые годы, вечности, таящиеся от глаз и начинающиеся за этим углом. Он – Дятел, он отталкивается от них веслом, Дятел, он – зашатался от их неожиданной твердости.
Он поднял голову и добрался дырявыми глазами до самых последних окон. Ночное небо крошило карнизы крыш. Тосковала на ветру разбитая дверь телефонной будки. В черном снегу гнил грязный автомобильный труп. Захваченные врасплох фонари кружились в толпе изнеженных снежинок и отделяли от черных теней черные выхлопы пара. Деревья таращили вверх свои удивленные деревянные глаза.
Тем временем из-за плеча уже косолапо выбиралась толстая старуха. Она пробурчала под нос страшное заклинание всех старожилов:
– Ничего, ничего, ужо, ужо! – вымямливала слова и звуки, обрывки философских систем. Давила, пищала подошвами, шамкала себе под нос и уходила зигзагами все дальше, дальше, превращалась в жирную курицу – бесконечно долго скрываясь в темноту, которая никак не хотела ее принимать.
Тишина, тишина.
Напротив него приоткрылось веко подъезда. Маленький черный пес метнул на него взгляд и разросся лаем. Устало плетущийся хозяин уволок лай под деревья.
Достал с фальшивым спокойствием из глотки кармана пачку сигарет (пытался научиться курить) и вытащил негнущимися пальцами, как конфету из коробки... Вкус был отвратителен, будто жевал дерьмо. Бросил сигарету в снег. Сразу за этим, разметывая снег, пустился, как будто хотел разбиться, но безо всякой надежды... и взялся за ручку двери. В этой позе он простоял несколько лет, потом распахнул дверь и шагнул через край, как задыхающийся из окна небоскреба, и провалился, как в болото... Неприветливая масса качнулась в ответ рутинным запахом мочи.
Справа загороженная коляской дымящаяся темнота угрожала отрицательной величиной подвала. Безымянный трап первого пролета манил маяком полудохлой лампочки на встречу с обтершейся шершавой стеной – по плечи в голубенькой красочке и невзрачном декольте желтой.
По подъезду стояла ленивая телевизионная ночь. Бесхозная коляска, поселившаяся, как птица, над подвалом, клевала пшено ночи. Дятел вынул руки из карманов и поспешно, задыхаясь, расстегнул пальто. Он снова полез в карман, на этот раз за фляжкой коньяку, но достать не успел.
Подняв голову и выставив ухо в направлении двери, он прислушался. Чьи-то шаги примешались к тишине ступенек. Потерявшись в громоздком пальто, разнервничался, но, прицелившись, махнул вверх по лестнице и, минуя первую мертвую гладь между рябью ступенек, увидел, как отдыхающий на кафеле лунный четырехугольник прикрыла ладонь тени.
Он быстро преодолел еще один пролет, второй и последовавшие за вторым, по временам замирая, прислушиваясь. Глаза автоматически считывали с дверей обычный лаконичный урок арифметики.
В следующую секунду он бежал сызнова, через две ступеньки, на одном из поворотов, увлекшись, вспомнил что-то из Лагерквиста.
И вот он на последней пыльной и сверхштатной площадке. Выше лежал лишь заколоченный сезам чердака.
В этом недостойном месте жила его любовь. Царевна была ни заколдована, ни спяща. Заколдовано было место. Он видел его другими глазами. Отталкивающее, тусклое, оно до бесконечности удлиняло пространство между ними, дальше звездных полей. Оно было страшным лесом, и он не знал путей через него. Ни потайная лестница, ни лифт не были этим путем. Никто не приходил на помощь заблудившемуся рыцарю...
С неизбежностью судьбы из рва предыдущего пролета к нему поднимались темные волосы и узкие плечи в темном пальто.
...Минуя край перил, ракурс головы претерпел огромную метаморфозу. К ней прибавилась вторая, идущая рядом.
Женщина удивленно посмотрела на него. Страшное бледное лицо, огромные расширенные глаза. Они остановились у соседней двери. Смотрели друг на друга. Недавно его жена и его друг. Его дом.
Он представил, что она сейчас думает: "Зачем, зачем?! Всем и так тяжело! Ты хотел это увидеть? Смотри. Да неужели ты не понимаешь?! Все кончено!!!" Как колокол.
– Я хотел взять вещи…
– Сейчас?
– Нет!
Шагнул, запахнул полу пальто и быстро, как поднялся, сорвался вниз, лелея неразбавленное отчаяние, к которому невозможно добавить ни одной капли.
"Ведь кругом – клетка, и птица сходит с ума от боли".
XI. АГОНИЯ
Наверное, все было слишком, непозволительно хорошо.
Через неделю из его недомолвок она поняла, что дело неладно. Судьба не хочет, чтобы она вывернулась из этой ситуации так легко. Проклятая судьба!
– Ты виделся с ней?
– Я ездил навестить сына. Все было нормально. Мы нормально поговорили…
– Но что-то случилось?
Он замялся.
– Да, она сама позвонила и умолила встретиться.
– Понятно… И что нового она тебе сказала?
– Ничего.
– Зовет домой?
– Да.
– У нее совсем нет гордости!
– Не осуждай ее, она в очень плохом состоянии.
– А ты считаешь, я – в хорошем?
– Ты не одна, а она…
– Пойми, это же неизбежно, по-другому не бывает! Иначе люди никогда бы не разводились. Все мы привыкли друг к другу. Думаешь, мне легко теперь?! Если бы не моя к тебе любовь, которая готова опрокинуть всё и всех! Вот как надо любить!
– Я понимаю.
– Ничего ты не понимаешь! Ты безвольный. И мне сказать не можешь, и решиться на что-нибудь. Послать меня к черту, например!
– Замолчи! – вне себя закричал он.
– Почему? Я довольно молчала. И ты молчал, ждал, видимо, что рассосется. И не будет проблем. Вы ведь все так боитесь проблем. У вас сто лет жизни впереди, зачем создавать проблемы!
– Я так не думаю.
– Думаешь. Поэтому и нового брака боишься. Это значит, что ты кого-то бросил. А мы же такие чувствительные!
– Это ерунда.
– Нет, ты боишься расстроить жену. Ну, конечно, жена это жена, а я – ну, так, случайный момент биографии. Большой и великой судьбы. Твоя жена наверняка так и думает.
– Почему ты так ее ненавидишь?
– Наверное, потому, что ты слишком любишь. И отдаешь предпочтение. Впрочем, я не претендую.
– Ты сама не знаешь, что говоришь! Наговорила обидных слов. Она хороший человек, и сделает то, что я скажу. Она первая хочет, чтобы все было ясно.
– Первая? А ты? И что значит: ясно? Что-то еще не ясно?
– Рита!..
– Скоро я опять стану Матильдой!
– Что?
– Ничего!
– Ну, подумай, ну, почему ты такая жесткая?!
– Я жесткая? А ты? Ты каким хочешь быть? Хорошим для нас обеих? Так не получится. Вспомни роман «Идиот»!
– Я понимаю, но…
– Не надо никаких "но"! Успокойся, я тебя не шантажирую. Ты можешь чувствовать себя совершенно свободным. Только не думай, что я хочу тебя на себе женить.
– Я не думаю. Почему ты говоришь с такой злостью?
– Ты же хотел ясности? Вот тебе ясность. Она холодная и злая, как нож. Ты, видимо, думал, что это будет не больно? Нет, это очень больно. Жаль, что ты раньше об этом не подумал.
– Я действительно не знал. Но – ты все хочешь крайностей, как лавина! Я так не могу.
– Послушай, – сказала она спокойно. – Неужели ты думаешь, что я пошла на эти отношения, чтобы слушать эти жалкие слова? Теперь я, кажется, поняла, как все это ужасно! Не для того я лелеяла свой максимализм, чтобы кончать так банально.
– Чего ты хочешь?
– Нет, это не тот вопрос. Ты ничего не понял. Я хочу, чтобы ты знал, чего хочешь. И очень знал, и очень этого хотел. А если не очень – то и не надо. Теперь тебе понятно?
– Понятно.
– Больше мы не увидимся, пока ты не поймешь, прощай…
Ну и пусть! Он был нужен ей, просто чтобы разорвать так мучившую ее связь. Поставить точку в той жизни, которую она вела последние почти пятнадцать лет. Антон олицетворял эту жизнь. Жизнь среди людей ущербных и бесполезных, безразличных к своему поражению и неудаче. А она была слишком горда, чтобы признать свое поражение.
А через несколько дней она обнаружила у себя признаки беременности. Но никому не сказала.
***
Море психологии! – он задыхался, он тонул в ней. Он не знал, что он будет думать вечером, он не знал, что он будет думать через два часа. Или чувствовать, подыскивая психологические оправдания.
При его несчастной склонности думать – ему и читать нужно было, чтобы не думать. А то он додумается до таких вещей!
Бывало, что в дни крайнего переутомления всех чувств, действительность выходила из-под контроля и открывалась с совсем неожиданной стороны. Сцена изменялась, внешне оставаясь обманчиво прежней. Начиналось путешествие в новой реальности, среди иначе воспринимаемого мира. Возможно, это было внутреннее передвижение души в пределах собственного бытия – все дальше и дальше к уточнению картины жизни и стиранию белых пятен...
Среди прочего бывали дни, отмеченные печатью особой неудачи. В такие дни было лучше всего не выходить из дома – дабы не умножать возможных опасностей. Очутившись же в городе и поняв, что это именно такой день, надлежало побыстрее вернуться домой, соблюдая все предосторожности, которые соблюдают саперы на минном поле. Особая опасность таилась в машинах. Но и все остальное грозило обернуться мрачным демоном-пожирателем: поезд метро, эскалатор, осенний ветер, летний дождь.
Все задуманное не осуществлялось, планируемое – срывалось. В этот день лучше было избегать досадных встреч, никому не звонить, никому не отвечать по телефону – дабы не узнать неприятную новость.
И все же подмывало попробовать: еще куда-нибудь завернуть по дороге, кому-нибудь позвонить, чтобы почувствовать себя свободным от рока, разрушить, переменить его враждебную однозначность. Но все, как правило, было тщетно.
Но и вынужденное сидение дома было еще тем испытанием: болела голова или живот, падали предметы, убегал кофе, раздражала любимая книга. Всякое движение было опасно и грозило необратимыми последствиями.
В такие дни не читалось, не думалось, в такие дни очень хотелось покончить с собой. Много мужества требовалось, чтобы вот так, не выходя из дома, ни с кем не встречаясь, ничего не делая, просто прожить этот день до конца.
Вот и теперь он чувствовал, что ткань дня расползается под руками, что уже ничего не получится, и Матильда, словно парка, ловко режет едва сплетающиеся нити. Действительность убежала вперед, и там, где он стоял, ее не было. Он не знал, как догнать действительность: за годы брака он разучился ходить…
Ночью стало совсем невмоготу. В судне образовалась брешь, и жизнь вытекала через нее. Он чувствовал, что что-то происходит, но не знал, во благо это или во зло? В конце концов, он сможет работать, ни на кого не оглядываясь, не растрачивая попусту силы!..
Что такое творчество? Это когда между тобой и предметом искусства никого нет. Ничто не мешает бросить всю свою духовную мощь на то, чтобы создать небывшее и несуществовавшее. Как женщина порождает из своего лона, так художник порождает из своего бессознательного. Мастерская – это роддом искусства. Он же всю жизнь рожал в коридоре, в толпе, на подоконнике. И ненавидел за это свою жизнь, которую сам такой сделал.
Что такое любовь? Это когда все вышесказанное становится неважно.
Он уже две недели жил у родителей. Однажды она позвонила.
– Что случилось? – спросил Дятел.
– Ничего. – Голос тихий, очень странный. – Я не могу забыть твое лицо. Там, на лестнице.
– Что это было за лицо?
– Лицо самоубийцы.
Он натужно засмеялся.
– Видишь, я жив.
– Вижу. Слава Богу.
Этот вопрос… Как задать его?
– Ты живешь с Манигом?
– Нет, я живу одна. Но я не могу долго жить одна, ты же понимаешь, – она деланно засмеялась.
– У тебя хорошее настроение.
– Дальше некуда. Вот, услышала знакомый голос и обрадовалась. Я все-таки скучаю по тебе. Привыкла уже. – Она опять засмеялась, но как-то искусственно. – А чем ты занимаешься?
– Смотрю "Городок".
– Смотришь "Городок", ты?!
– А что?
– Ты меня удивил. Ты один?
– Да.
– Пьешь?
– Так, чуть-чуть.
– Понятно. Не ухаживаешь за своей возлюбленной?
– Не надо об этом говорить. Особенно в таком тоне.
– Ну, прости. Мне, в общем, тоже не то чтобы весело.
Это и правда было так. Он смотрел "Городок", а она ходила в храм.
Первый раз ее привезла туда Рената – еще год назад: после ее внезапной истерики, предложив, как надежное, что может помочь. Самой ей уже помогло – в сходной, по ее мнению, ситуации. Храм в Д., несколько остановок электричкой, был проверенный, священник отец Михаил заточен под проблемы мечущихся интеллигентов. Он и сам был из таких, с высшим гуманитарным образованием, снисходительный и либеральный. Между прихожанами шепотом считалось, что у него есть харизма.
Для нее это было что-то вроде оперного театра. Золото, свет, заученные жесты и слова. Торжественно, монументально и совершенно не для нее.
В тот раз был, кажется, праздник Крещения. Классический русский мороз и снег, после бесконечной оттепели. По окончанию службы батюшка прочел одну из своих знаменитых проповедей. В отличие от многих священников, говорящих свои проповеди пространно, хотя не всегда вразумительно, очень доступно и иногда даже (как Д. Смирнов) с юмором – он говорил быстро, хлестко, коротко и серьезно.
Впрочем, она ничего не поняла из нее и ничего не запомнила, потому что все время думала о своем. А Рената все понуждала поговорить с батюшкой, однако Матильда и стеснялась и боялась.
– Да я уже рассказывала ему про тебя сто раз! Он все знает и понимает, не бойся.
Наконец, через неделю или две – как раз опять началась оттепель – она осталась после службы в храме для беседы. Она ничего не боялась умом, но ноги вдруг отказали ей, и она беспомощно села на скамейку. Отцу Михаилу самому пришлось подойти к ней и сесть рядом.
– Не волнуйтесь, священник – не мистический зверь, как думают некоторые современные неверующие. Я не буду делать вам уколов, даже щупать пульс не буду. – Он усмехнулся. – Моя задача просто выслушать. Я давно о вас слышал, – добавил он.
Теперь она, наконец, разглядела его: моложавый, среднего роста, темноволосый, с по-женски мягкими чертами и движениями. В общем, даже красивый.
– Вы слышали обо мне?
– Да, даже что-то читал. И Рената о вас говорила. Она вас очень любит и очень о вас беспокоится.
– Спасибо, конечно, но, может, это и излишне.
– Нет, не излишне. Всякая забота человека о человеке в наше трудное время – не лишняя… Я рад, что вы пришли.
Наверное, Рената из любви и жалости как-то отрекомендовала ее так: как непростую, у которой все иначе, не как у всех людей. Слишком умную. Поэтому он начал издалека. Она тоже.
– Почему так оказывается, что христиане – совсем не лучшие люди? – спросила она.
– Ну, об этом еще Спаситель говорил: врач нужен не здоровым, но больным.
– Почему же они не выздоравливают?
– А откуда вы знаете? Может быть, в ином случае, было бы еще хуже?
– Правда? Еще?..
Он усмехнулся:
– Интересное у вас отношение к христианам.
– Я видела какое-то количество христиан. Люди – ничуть не лучше остальных.
– Возможно. Чужие грехи – потемки, – пробормотал он.
– Они же исповедуются, – вспомнила Матильда.
– Человек исповедуется так же, как он делает все. Если он хитрец, значит, и в исповеди будет хитрить. Исповедь не панацея. Впрочем – вещь полезная.
Они помолчали. Он напоминал врача, советующего лекарство, но не преувеличивающего его силу.
– Вы еще что-то хотели спросить?
– Настоящий брак – только венчанный?
Собственно, ей нужно было, чтобы кто-нибудь благословил ее продолжать его или, наоборот, разорвать, тем более, что брак не венчанный – и нет никаких формальных поводов считать его за настоящий, который она и так в душе разорвала, но не сняла с нее (души) тяжесть. Отец Михаил был другого мнения:
– Если люди живут вместе давно, даже, если это невенчанный брак, это все же брак, и, в общем, неважно в данном случае, венчанный он или нет. Бывают венчанные браки, которые быстро распадаются, и невенчанные, которые длятся всю жизнь. Апостол Павел был против брака вообще, но, тем не менее, говорил: лучше вступить в брак, чем разжигаться. Церковь снисходит к слабости человека, но она вносит в брак новый смысл. Ведь не даром первое свое чудо Христос совершил на свадьбе в Кане Галилейской. Христос не отвергал брака, поэтому это место из Евангелия и читают при венчании. Более того, Христос есть защитник брака. Он не допускал развода с женою, кроме как по вине прелюбодейства.
– А для женщины?
– Вы хотите знать, симметрично ли это относительно женщины?
– Да, в некоторых религиях это возможно. А в православии?
– В теперешнем православии, в общем, вслед за прогрессом, женщина уравнена с мужчиной. – О. Михаил улыбнулся. – Православие не отрицает равенства людей.
– А как же: Бог глава мужа, а муж глава жены?
– Ну, вы же сами в это не верите и вряд ли с этим согласны. Правила эти древние, и хоть и почтенные, но плохо применимы к современной жизни. И церковь не может противоречить гражданскому кодексу, где все полы равны. Иначе получится, что государство более справедливо к людям, чем церковь. Дело не в том, на что вы имеете право с точки зрения закона или догмы. У человека теперь огромное количество прав, и никто не может удержать его ни от чего, в том числе, и священник. У церкви теперь нет никаких рычагов воздействия на человека, церковь теперь исключительно моральная, а не юридическая и карательная сила, слава Богу! И с моральной точки зрения церковь должна не разделять, а соединять людей.
– А если он атеист?
– Все равно. Апостол говорил: жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Если вы и правда веруете и для вас очень важен именно христианский союз, ваша задача – привести вашего муже в церковь и обвенчаться с ним здесь. Это и укрепит ваш брак и, возможно, проблема исчезнет сама собой.
– Он не согласится венчаться.
– Даже под страхом потерять вас?
– Да.
– Он вас любит?
– Не знаю. По-своему – наверное.
– Значит, ему будет больно вас потерять.
– Я не буду его этим шантажировать.
– Я не призываю вас шантажировать, я призываю вас попытаться спасти то, что можно спасти. Отношения между людьми – вещь священная сама по себе, скреплена она венчанием или нет.
Она пожала плечами.
– Какой же смысл в венчании?
– Я предполагал, что вы это спросите. Когда церковь говорит, что двое становятся плотью единой, это значит, что их отношения друг к другу с этого момента лишены обычных отношений мужчины и женщины, где есть похоть и прочие разные вещи. Единая плоть не испытывает похоти к самой себе и вражды.
Он посмотрел на нее.
– Я, конечно, говорю об идеальной ситуации, это не значит, что в реальной жизни все так и происходит.
– Я поняла.
– Но не удовлетворены этим?
– Мы много говорили с ним об этом. Я знаю, что он мне ответит.
– Что?
– Для начала он скажет, что церковь требует при венчании обещать то, что ни один человек обещать не может. То есть она требует таких чувств, которые ни один человек не может гарантировать – что они сохранятся… Ну, вы понимаете…
– Понимаю: клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас…
– Вот-вот! Это же невозможное обещание! Как церковь может его требовать?!
– Конечно, церковь вообще требует много невозможного…
– Да?
– Да. Церковь относится к человеку как к творению божьему, которому доступно все.
– Несмотря на то, что век за веком убеждается, что человеку… все это недоступно?
– Несмотря на это. А в данном случае… Все же обещание само по себе может служить стимулом – напрячься и сделать то, что тяжело.
– Но нужно ли это делать, вот вопрос?
– То есть?
– Ну, сохранять ненужный брак, где двое уже не любят друг друга?
– Люди много говорят о любви, но любовь – очень непостоянное чувство. Церковь на самом деле призывает не к любви, постоянство которой никто не может гарантировать, это правда, а, скорее, к взаимному труду, к такому как бы маленькому подвигу.
– Понятно.
– Что? Опять подвиги?
– Да, как на стройках коммунизма! – она засмеялась.
– Я понимаю: все это очень сложно, если следовать всему буквально.
– Сложно.
– А человеку и так тяжело…
– Да. Разве нет?
Он кивнул.
– Что же делать? – спросила она.
– Что же… Таков этот мир.
– Придуманный Богом!
– Для героических людей!
– Правда?! Вы в это верите?
– Верю. Только в это и верю.
Она покачала головой, не зная, как относиться к этим словам.
– Но ведь таких людей практически нет.
– Кто знает. Тем больше стоит ценить тех, кто их напоминает.
Она помолчала.
– Знаете, он и правда иногда напоминает… Особенно раньше напоминал…
– Вот видите!
– Ну, хорошо, а скажите: лишь церковь может объединять "в плоть едину"? Разве по своему желанию Бог не может объединить любых людей и без санкции церкви?..
– Конечно, мы не можем принудить Господа Бога, – начал о. Михаил.
– Но это не ересь? – поинтересовалась Матильда.
– Ну, с точки зрения интересов церкви, то есть людей, материально от нее зависящих – ересь. – И он засмеялся.
Она тоже улыбнулась.
– А на самом деле?
– Вы думаете, я знаю, что есть на самом деле? Вы слишком много требуете от меня.
– Я не требую…
– Хорошо, не требуете… Все почему-то считают, что у священника есть ответы на все вопросы!
– Нет?
– Нет!
После такого категорического ответа она не знала, стоит ли говорить дальше? И о чем? Тем не менее, ей хотелось чем-то заинтересовать священника, может быть, поразить. Ей даже казалось, что и он ждет чего-то подобного.
– Я думала, что церковь знает все.
– Церковь – может быть, но не отдельный священник.
– Церковь знает мысль Бога?
– Я не могу ответить на этот вопрос.
– Но думаете?
– Его мысль никто не может знать.
– Печально.
– Это нормально, так дети не могут знать мысли взрослых. А если и знают, то не понимают.
– А церковь, типа, самого старшего ребенка? И ведет остальных детей, пока Бог молчит?
– Я бы не сказал, что Бог молчит. Мы просто не понимаем его слов.
– А церковь их разъясняет?
– Вроде того.
– А правильно ли она их разъясняет? Может, она говорит лишь свое мнение? И вообще, может, ей выгодно, чтобы на ее прерогативы никто не посягал, даже Господь Бог. Ты отдал человечество под наше начало, рассуждает она – то есть вы, – вот мы и начальствуем, а Ты, Бог, – не вмешивайся!
– Вы так считаете?
– Это мой муж так считает.
– Понятно. Собственно, он хочет сказать, что мы бы могли обойтись и без Бога?
– Примерно так.
– Значит, наша церковь – это сборище атеистов?
– Ну, я не знаю, надеюсь, что нет. Просто, он считает, в их, вашем, исповедовании Бога нет больше свободы, а есть закон и личный интерес. Это, мол, напоминает, как относились к Богу иудейские первосвященники перед тем, как пришел Христос.
– В чем-то он прав, – вдруг сказал о. Михаил.
– Ужасные вещи вы говорите!
– Ничего подобного. Но все же я верю, что церковь может вам помочь, вам обоим. Потому что я вижу, что, так или иначе, мы заодно. Церкви нужны такие люди, как вы, и ваше "неверие", может быть, для нее более ценно, чем чья-нибудь так называемая "вера".
Она помрачнела. Она ожидала встретить сопротивление, давление, которое или оттолкнуло бы ее или подчинило себе.
– Давно вы причащались и исповедовались?
– Давно, – соврала она, потому что причащалась, кажется, лишь при крещении, а не исповедовалась вообще никогда.
– Ну, так начните с этого, потом, может быть, будет проще.
На улице она пересказала Ренате разговор с батюшкой.
– Не знаю, как тебе быть. Знаешь, у меня есть знакомый монах, почти старец, он тебя запросто благословит. Если тебе это нужно.
– Мне нужно не столько благословение, сколько понимание. Думаешь, я сама не знаю, что мне делать? Просто у меня нет сил.
А тут еще позвонила мама и сказала, что умер Щелкунчик: замерз пьяный на улице. Отпевание в костеле в Милютинском переулке. Она не видела его три года. Оказывается, он был католиком, – в честь своей прибалтийской матери-еврейки.
Несколько раз в течение этого трудного года она приезжала на службы по большим праздникам, звала Антона, и даже не без успеха. «Православие – это низшая форма бхакти…» – бормотал он, но все же шел. Он делал это для нее – и еще для проверки своих юношеских ощущений. А они были противоречивы. Такими же и остались.
В тот день падал мокрый снег. Она позвонила Антону. Ей важно было знать, что у него все хорошо.
– Что бы между нами ни было, ты мне все равно очень близок, – сказала она. – Ведь мы по-прежнему друзья, не правда ли?
Ей хотелось знать: появилась ли у него кто-нибудь, но не знала, как задать этот вопрос?
– Ты спрашиваешь, как я себя чувствую? Я ощущаю огромную пустоту. Когда мы были вместе, несмотря ни на что, мы все же как-то помогали другу, защищали, что ли. Теперь мне кажется, что я как-то ужасно незащищен. Люди, наверное, должны держаться друг за друга, а не расходиться.
– Я рада, что ты это понял.
– И только?
– Чего ты хочешь? Чтобы мы опять были вместе?.. Это невозможно. Я дорого заплатила за этот разрыв, может быть, слишком. Мы оба, как маньяки, рвались к нему – и вот мы теперь свободны. Давай получим лучшее, что есть в этом состоянии…
– Ты сама в это веришь?
– Не знаю, может быть, прошло еще недостаточно времени?
– Может быть.
Но она удивлялась, что он живет так одиноко, не бросается, как другие, в счастливую стихию любви, о чем когда-то мечтал. Чего он ждет? Или боится?
– Прости, если вмешиваюсь в твою жизнь, я заткнусь, если хочешь…
– Нет, мне это даже приятно. И мне правда не с кем это обсудить… – ответил Антон. – Дело не в страхе. Или в страхе… Любой поступок остается с человеком навсегда. Конечно, он может надеяться, что он забудется – и он сам его забудет, что он быльем порастет, что, в конце концов, священник отпустит ему прегрешение...
– Ну, и?
– В общем, бывшее каким-то образом станет небывшим.
Она усмехнулась и молчала: любой ответ был для нее ловушкой.
– Ты боишься ошибиться?
– Боюсь породить новый ложный круг отношений, за которые придется отвечать.
– А старый ложный – это со мной?
– Я не хотел бы думать, что он был ложный. Но из-за чего-то наши отношения накрылись?..
– С Лесбиями всегда так.
– А ты разве Лесбия?
– Все женское мне не чуждо, как ни странно…
А потом позвонил Маниг. Он хотел приехать, но Матильда, напрягши все силы, отказалась от этого счастья.
– Знаешь, ты поломал мне жизнь, – вдруг сказала она. Ее голос был спокойный, словно она говорила о том, что сын потерял в школе варежки. – Все отвернулись от меня. Я чувствую себя грешницей и изгоем. Но я не виню тебя. Я сама во всем виновата.
Она не хотела этого говорить. Она всегда считала, что сама управляет своей жизнью и сама в ней принимает решения. Оказалось не совсем так.
– Ты же свободная сейчас! Что нам мешает видеться?
– Я не хочу становиться твоей любовницей.
– Помнишь, как нам было хорошо, я каждый день вспоминаю это. Это самое счастливое мое воспоминание. Если бы не оно – я бы, может быть, покончил с собой!
– Ты только "может быть", а я уже покончила с собой. В каком-то смысле.
– В каком?
– Неважно.
– Скажи, я хочу знать! Пожалуйста, я буду думать бог знает что!
– Хорошо. Недавно я сделала аборт.
– Зачем?
– Во-первых, потому что не знала – чей ребенок. Во-вторых, потому что никому он не был нужен. В-третьих, потому что я – дрянь. Слабая ничтожная дрянь! И вы все не лучше… Я больше не могу с тобой говорить!..
Он обманул ее: он не взял на себя ответственности, не понес груз решений, не сделал за нее выбор: все свои выборы она делала сама, сама перелезала свои заборы, в одиночестве, не имея настоящей поддержки и помощи. Она не могла ему этого простить.
По ночам она не могла спать. Лишь элениум срубал ее на несколько часов. И она шла на работу с пустой тяжелой головой.
В который раз она позвонила Ренате, ставшей ее главной конфиденткой. Рената жалела ее, при этом стремилась быть откровенной. На работе она была замначальника, то есть выше Матильды по должности и, вероятно, транслировала его мнение. Получалось, что он порядком устал от нее, точнее, от ее привычек прошлого, – не считаться ни с чьим мнением и идти на конфликт, поэтому, при всем своем уме, она не понимает, что на работе не личная жизнь, а именно работа важнее всего, хорошо тебе или плохо.
– И почему ты не носишь бюстгальтер?
– Что?! Это он тебе сказал (имела в виду начальника)?
Молчание.
– Это его смущает?
– Вероятно – да.
– Я не ношу его чисто принципиально, можешь так и передать ему!
– Раньше тебя просто считали странной и высокомерной – это его слова, зато и очень талантливой, – ответила Рената. – Но – есть же предел! Это опять его слова. Желающих занять твое место – очередь на улицу стоит! Никто не станет жалеть.
– И Бога ради! – огрызнулась Матильда. – Если у него комплексы – я не виновата!
– Ну да, ты же барыня, все должно быть, как тебе приятно, а не как им!
– А кто они мне? – удивилась Матильда. – Знаешь, я и раньше ни под кого не подстилалась, и теперь не буду.
– Ты слишком гордая, – произнесла приговор Рената. – Тебе же хуже.
– Я знаю.
И теперь, в качестве некоей жалости, Рената сообщила, что ей звонил о. Михаил и спрашивал, почему Матильда не приходит в храм? Он все это время ждал ее.
– Он боится, что чем-то обидел тебя. Говорит, что ты могла его не так понять. Он очень хороший священник. Но они тоже не сразу во все вникают. Надо, чтобы он тебя получше узнал. Это он мне сказал. Тогда он сможет дать тебе лучший совет.
От нее хотели, чтобы она все увидела, с точки зрения церкви. Увидела, проснулась, переменилась. И все поняла. Все. В следующее воскресенье, несмотря на малую веру, что это чем-нибудь поможет, она поехала. Ехала, скорее, для него или Ренаты, дать им шанс увидеть чудо веры – на примере ее собственной никчемной жизни. Она не была язычницей или неофиткой, она достаточно хорошо знала историю церкви, она слишком много спорила с Антоном о догматах, чтобы безоговорочно уважать их.
Она отрешенно стояла перед иконой Благовещения. Это была устоявшаяся традиция изображать сакраментальный момент: Богородица смиренно и торжественно принимает от красивого ангела (всегда слева) сделанный за нее выбор. Никто не спрашивал, хочется ли ей этого? Возьми и неси, Я сказал! Может быть, поэтому Боттичелли изобразил это немного иначе: ангел подбирается к ней, как охотник к лани, и стреляет своим Благовещением, а Богородица словно хочет увернуться от этого "дара". А у Россетти еще больше: испуганная девушка едва не вжалась в угол от посланника, принесшего ей ветку лилии. Может быть, она и хотела бы быть чьей-нибудь возлюбленной, но вряд ли самого Господа Бога! Но традицию надо вести от Симоне Мартини: тут будущая Богородица не только вся изогнулась от ангела в сторону, словно от насильника, но еще и искривила губы, как от дерзкого и неприличного предложения. Наверное, такие картины – соблазн. Поэтому тут – все так правильно и постно. Человек и миф в своей нормативности, как в соцреализме. Впрочем, икона ей все равно нравилась – своим покоем, красивостью, наивностью.
За этими мыслями ее застал о. Михаил.
– А, вот вы где спрятались! Нравится эта икона?
– Я думала о сюжете.
– И что вы думали о сюжете? – насмешливо спросил священник. Кажется, он был в хорошем настроении.
– Не только о сюжете. Еще о роли женщины в христианстве.
– О-о! Пойдемте, обсудим это…
Ранняя весна, воздух, птицы поют… Они идут по растаявшей дорожке, молча, как направляющиеся к рингу боксеры. Сели на лавочку в запущенном парке рядом с шумной улицей.
– Так что вы говорили о роли женщины?
– Зачем понадобился образ женщины в такой мужской религии?
– Вы считаете христианство – мужской религией? Вы феминистка?
– Нет, конечно, но разве я не права? Может быть, образ женщины понадобился, чтобы смягчить суровость изначального христианства? И привлечь в религию женщин?
– Вы считаете, что это кто-то планировал? Теория заговоров? – улыбнулся он.
– Нет, конечно.
– Вы, как женщина, ищете психологических мотивов. Вы считаете, что христианство унижает женщину?
– Нет. К тому же я знаю, что образ Богородицы не имеет к христианству никакого отношения.
– Как так? – удивился о. Михаил.
– Я читала много книг по мифологии. Богоматерь – ну это же просто богиня плодородия, Иштар, Деметра, Кибела, Матерь Богов, Исида, наконец – жена и сестра Осириса. А он был убит и тоже воскрес. Как и многие древние боги.
Он слушал со спокойной полуулыбкой, словно лепет ребенка.
– Это известно. Вы хотите сказать, что христианство – все это вымысел, хуже того – оно не придумало ничего нового?
– Может быть, мне не хватает веры?
– Я не буду ссылаться на себя, хотя я все это тоже знаю, поверьте. Сошлюсь на Владимира Соловьева, отца Павла Флоренского, философа Лосева. Вы думаете, они не знали того, о чем вы говорите? И при этом они были верующими христианами. Канонически верующими.
– Я не говорю, что я не верю.
– А я говорю: канонически верующими.
– И как им это удавалось?
– Бог не постигается через книги. Он постигается через личный опыт, жизнь, озарение. Ваша проблема – ваши знания. Во многой мудрости много печали, как сказано. Вы не можете верить наивно и буквально, как верят многие. Я читал у одного французского философа: наш рассудок расширяет вокруг нас пустоту. Вы говорите: христианское предание похоже на то-то и то-то, что было до него. Конечно. Христианство венчает религиозные поиски человечества. Это последняя и окончательная религия, отменившая и завершившая все прежние. И как высшая и последняя – она вместила в себя самые важные религиозные мотивы, проходившие через всю историю человечества. Воскресение Бога… А что может быть прекраснее и вернее? Прежде это был просто культ урожая, обновление природы. Человек не отделял себя от рода, племени, природы. Осирис – это не бог, который говорит с человеком. Лишь в Ветхом завете Бог заговорил с человеком. Сперва авторитарно: по образцу царя или грозного отца – люди ведь тоже творили Бога по своим понятиям, – он улыбнулся. – Бог христиан – это Бог, который говорит с личностью, а не с народом, жрецом, царем и так далее.
– Знаете, в "Золотом Осле" Апулея, если Исиду заменить на Иисуса, никто не заметит разницу.
– Может быть. В то время разные культы подбирались к истине универсальной религии. Христианство не возникло на пустом месте, и Христос явился не случайно там и тогда. Почва, как говорится, была подготовлена. Слились две великие религиозные традиции, Запад слился с Востоком – и новая религия имела шанс стать реально всемирной. И то, что Он воскрес… – что вас смущает, видимо, больше всего... Апостол говорит, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Я верю буквально и в воскресение Лазаря, и в воскресение Христа. Ибо если Христос – Бог, то ему подвластно и умирать и воскресать, разве нет? Иначе как бы Он сам говорил, что будет среди тех, кто соберется во имя Его? Это может сделать только живой Бог. Зачем Ему надо было воскресать так буквально? Для иудеев – чтобы исполнилось Писание. Для христиан – чтобы доказать, что смерти больше нет. Смерть отменена. Смертию смерть попрал, – как поют на Пасху. Это же – великое освобождение человека, конец отчаяния.
Он говорил спокойно, но воодушевленно, почти так, как проповедовал с амвона. Ей хотелось во все поверить…
– Но почему, если конец отчаяния объявлен – я не чувствую его? – спросила, наконец, она.
– Вы задаете такие вопросы… Конец отчаяния – это не конец истории. Объявлены новые истины, но человек должен сам постичь их, в том числе, и через отчаяние. Человеку ничего не дается просто так. Все, что он имеет – это завоевание.
– Но ведь евреи все равно не приняли Христа… – напомнила она.
– Бог создал их избранным народом, то есть таким, который как-то более правильно исповедует и знает Его. А взамен Бог обещал, что из него произойдет Спаситель мира. Не нам судить, насколько удачно евреи это делали. Многострадальному Иову, которого можно считать метафорой еврейского народа, было предложено: похули Бога и умри. Однако он все вынес. И Бог не обманул, Спаситель родился. На этом миссия избранного народа закончилась, закончилась их избранность. А с этим трудно примириться. В этом трагедия евреев.
– Вы часом не антисемит? – улыбнулась она.
– Боже упаси! В этом смысле я не совсем классический православный. В православии же даже евреи порой становятся антисемитами. – Он улыбнулся. – Многие считают, что женское – унижено в православии. Но оно в такой же степени унижено во всех религиях. Это не унижение, это обозначение некоего, может быть, более трудного и славного пути. Мало найдется тех, кто согласится превратить женственность в средство достижения просветления.
– А с вами интересно говорить! – воскликнула Матильда.
Он снова улыбнулся.
– С вами тоже.
И она снова исчезла. А потом пришла, в одну из самых плохих своих минут. Ничего не готовя заранее, в будний день, в пустой храм. Отец Михаил как раз собирался уходить и удивился, увидев ее.
– Вы ко мне?
Она пожала плечами. Смотрела куда-то в сторону, как потерянная.
– Мне кажется, у вас что-то случилось… – сказал он, потупив глаза. – Вы сильно изменились.
Опять Рената! Зачем она всем болтает! Ну да, это мило с ее стороны, с его стороны, со всех сторон – проявлять столько внимания… Если бы чья-нибудь жалость могла что-нибудь изменить! Если ее начнут жалеть соседи по подъезду – можно уже точно удавиться!
– Ничего, я просто ушла от мужа. И еще не до конца привыкла. Это пройдет.
– Это не мое дело, можете не говорить. О каких-то вещах тяжело говорить, но если стереть личный план и поговорить о проблеме абстрактно?
"Зачем ему это нужно?"
– Последнее время, я замечаю, женщины часто выступают инициаторами развода, их требования к мужчинам бывают так велики, что никакой диалог становится невозможным. Простите за сравнение, но это напоминает отношение маленького освободившегося народа и прежней метрополии. Никаких компромиссов, никаких соглашений с угнетателями. Да?
Он посмотрел на нее.
– А требования к нам разве не увеличились? Если одна сторона хочет нести меньше, значит, другая должна нести больше.
О, оказывается, она еще способна говорить, даже спорить!
– Я не хочу снять с мужчин ответственности, – кивнул он.
– А если одной стороне вовсе не нужен брак?
– А что нужно?
– Не знаю.
Она замолчала.
– Если бы существовали другие варианты взаимоотношений… Но других, кажется, нет. Или людям их не вынести, – мрачно сказала она.
– Не знаю точно, о чем вы. Есть много искушений, желаний уклониться куда-нибудь. Это девиз современного мира: желай и добивайся желаемого – и будешь счастлив.
– Я не хотела никуда уклоняться. И все же я возненавидела свой брак. Каждый в нем оставался независимой монадой… (тут в ней щелкнул тумблер критика: уместен ли этот словарь?)… В общем, никто… из нас… не считал брак местом, где можно объединиться, тем более разоружиться (попыталась она более доходчиво). И начал это он! Очень он боялся, что брак заставит отказаться его от каких-то важнейших вещей. И ясно показывал мне, что не откажется. Лучше откажется от брака. И я переняла это поведение. Так мы и жили. Непозволительно разоружившись в момент, ну, вы понимаете, – надо было удесятерено вооружиться на утро. Поэтому и эти моменты были редки – ибо требовали сигналов, намеков, действий, а каждая сторона считала это для себя унизительным. Простите за подробности!
– Ничего.
Она уже словно начала исповедоваться. А почему и нет? Он долго молчал.
– Может быть, с его стороны тут было уязвленное самолюбие, вы не думали?
– Думала, но мне от этого не легче.
– Но он может измениться, он может понять, что для него самое важное.
– Я долго ждала, поверьте. И не дождалась. Кажется, вообще ничего этого нет, и я вообразила, что это возможно.
– Вы ошибаетесь, поверьте мне.
– Не знаю. Но лучше жить вообще без брака, чем с таким уродливым.
– Может, вам все же стоило обвенчаться?
– Я хотела, тогда. Теперь рада, что этого не случилось.
– Рады? Разве вам теперь лучше?
– Ну, с вашей точки зрения, это все равно не может считаться браком.
– Почему? Нет, церковь не отвергает государственный брак. Это лучше, чем ничего. Может быть, это не благословлено свыше, но это как бы договор двух людей, а договор подразумевает ответственность.
– Разве нарушение договора – это грех?
– А для вас что-то значит только грех?
– Наверное, да.
– И как вы понимаете его, то есть: что такое грех?
– Я у вас хотела спросить, – поморщилась она и посмотрела на о. Михаила. – Наверное, это то, что церковь считает грехом?
– Точнее, то, что Бог считает грехом.
– А откуда нам это известно?
– Ну, вы словно не знаете: из Священного Писания, откуда же еще?
– Если человек не верит в Бога – это грех?
– Ну, если судить догматически, то да. Хотя в Десяти заповедях этот грех не упомянут, ибо такой проблемы тогда не стояло. Грехом было верить в ложных богов. Можно ли причислить к этому атеизм, как некоторые делают, – не знаю. С другой стороны, неверующий нарушает то, что Христос назвал "наибольшей заповедью": "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим…" Тот, кто не верит в Бога, вряд ли любит Его, не так ли?
Она послушно кивнула.
– Ну, а с-третьей стороны, неверующий – как малый ребенок, не знает еще истины, поэтому и судить строго его нельзя. Где нет закона, нет и преступления, говорит апостол Павел.
– А прелюбодеяние?
– Это классический грех.
– То есть, неверие в Бога – это пустяк, а вот это – очень страшно?
– Я не сказал, что неверие в Бога – это пустяк. Вы искажаете мои слова. Понятие греха применимо только к тем, кто способен его понять и за него отвечать. Ни дети, ни животные, ни иноверцы под этот критерий не подпадают. Малые дети считаются безгрешными.
– А как они могут согрешить?
– Ну, и все-таки. Прелюбодеяние же – это, во-первых, потакание своей плоти, что еще извинительно. Но самое главное – это предательство. А кто у нас главный предатель? – Сатана. Поэтому Данте поместил его в самый последний круг ада, вместе с Иудой, Брутом и кем-то еще. Обман и предательство – вот что дурно в прелюбодеянии.
– А если это сделано открыто, может быть, даже с обоюдного согласия?
– Но зачем? Что это дает человеку?
– Свободу.
– Это дурная свобода, не та свобода, о которой говорит церковь. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода.
Она кивнула головой, как бы признавая авторитетность слов, но вовсе не со смиренным согласием с ними.
– Не есть ли грех то, что жестоко по отношению к кому-нибудь?
– В человеческом понимании – да. Но можно вредить и себе – не понимая этого. Плоть слаба – и сильна по-своему. Следуя путем плоти – можно совсем уйти от духа. По сравнению с радостью плоти, все, что может дать дух, будет казаться эфемерным и пресным. Но это – иллюзия и искушение. Сладострастные люди – ущербные и ограниченные. В общем, можно сказать, грех – это когда человек забывает про дух, то есть забывает Бога – и погружается в земное, где важны деньги, слава, а это порождает зависть и злобу. И половая любовь бывает нужна просто как наркотик. Это помогает человеку забыться, забыть, как он несчастен. Несчастен и одинок. А одинок потому, что не верит, что рядом с ним есть Бог.
"Как у него все гладко выходит! – подумала Матильда. – Верит ли он сам так, как говорит?"
– А вы – ненавидите грех? – спросила она.
– Это уже личный вопрос.
– И все же?
– Нет, я не ненавижу грех. Кто я такой, чтобы судить человека? Грех происходит от нашей слабости, а таковыми нас сделал Бог. Грехи исходят от нас, как вонь от немытого тела. Но Он же дал нам возможность стать сильными. Только не многим это удается, конечно. Некоторым кажется, что не грешить – это жить очень скучно. На самом деле – это каждодневное героическое деяние, потому что искушения и ошибки подстерегают нас на каждом шагу. Как поступать правильно – не так трудно понять, просто это требует от нас усилия и жертвы. А жертвовать мы не хотим, потому что считаем, что и так живем плохо… Тут, конечно, тоже не надо перегибать палку и брать крест не по силам. Стремление к совершенству легко может кончиться падением в обратную крайность. Особенно, если это происходит не из внутренней потребности, а из временного энтузиазма, что свойственно неофитам. Ведь неофит или спорит, как вы, словно сам не верит в то, во что верит, или наоборот – верит во все слепо и восторженно.
– Я не спорю, я задаю вопросы.
– Ну, может, я не так выразился…
Она мрачно вернулась домой.
– Он считает, что неверие в Бога – пустяк, а прелюбодеяние – страшный грех. Вот оно – поповское лицемерие! – сказала она Ренате по телефону.
– Ну, ты должна его понять, он же монах. Говорят, у него была жена и ребенок, но она ушла от него – и он постригся в монахи.
– И что – мне тоже уйти в монастырь! – воскликнула Матильда и разразилась истерическим смехом.
С сыном отношения были все хуже. Она почти не обращала на него внимания – не до того было. Даже уроки его забросила. Не ходила на школьные собрания – не хотела там разреветься. Ей достаточно было малейшего толчка, чтобы она перестала себя контролировать. Как безумная она жалела себя, пребывая в постоянном ожидании катастрофы или немедленного избавления.
Тоска. Нет, не тоска. Отвращение к миру. Такое, что дышать не можешь. А сама-то еще гаже! А сколько воображала о себе, какую хорошую собиралась прожить жизнь. Какую правильную. В каком месте все поломалось? Почему в молодости мы такие чистые, цельные, почему потом так деградируем?! И уже не остановить. В голове полный сумбур: что она любит, во что она верит? Ни во что! Верит ли она в Бога? Зачем она обманывает себя – нет, конечно! А когда-то верила. Или ей казалось. Ей так плохо, а Бог молчит. Если бы Он был, разве Он молчал бы? Или это такой Бог, который не разговаривает с людьми, а лишь отдает приказы, а потом карает? Или Ему вообще наплевать на то, что с нами тут творится? Наплевать же нам на муравьев, блох. Отец не плюет на своих детей? Но кто сказал, что мы Его дети, а не завелись сами, как мухи в гнилом мясе? Поэтому живем так бессмысленно, гадко, мелко… И еще рожаем детей, будто нам можно их доверить! Да нам и котенка доверить нельзя! Мы же эгоисты, мы же только о своем счастье думаем… А потом удивляемся, в какую дрянь нас засосало. И впереди ведь ничего, ровным счетом, только хуже…
В центре была пустота, а по краям бордюрчик из лицемерия и красивых слов, которые больше ничего не значили…
Она наполнила ванную, спокойно легла. Вынула из упаковки заветную бритву. Вот, что может ее спасти от всех этих мыслей, от этой муки. Пространство сжато в точку. Ничего впереди, позади, сбоку. Зрение сконцентрировано, остро, как скальпель. Вот теперь увидела: голая жизнь, без прикрас, без макияжа. Господи, как она ужасна, почему она раньше не видела? Что заслоняло от нее истину? Но теперь – какая ясность, какая свобода! Всегда жизнь владела ею, но не теперь! Стоит лишь полоснуть по ней, пронзить ее, как страшного зверя. Пусть завизжит и отойдет…
Вода медленно окрашивалась красным. Очень медленно. Она расслабилась, решила ждать. Куда теперь спешить? Совсем не больно. Наоборот: первый раз за много месяцев она чувствует покой. Только бы никто не помешал. Но кто? Кому она нужна?
…Ее нашли в ванной еще в сознании, хотя и совершенно помутившемся. Сын вызвал бабушку, та соседа. Сосед дал по двери ногой.
Месяц она провалялась в дурке, откуда ее, наконец, выцарапали родственники. Мать, кажется, оставила бы ее там навсегда. Дурку она плохо помнит: слишком много аминазина прошло через ее мозги, превратив их в мокрую рыхлую губку. Так избавляют от безумия. Но какие-то картины она помнила отчетливо, и тогда жмурилась и мотала головой, чтобы забыть. Особенно первые дни, когда, кажется, было еще хуже, чем до попытки самоубийства.
Потом – успокоилась. Ну и что: больница она и есть больница, ничего особенного. Больниц что ль она не видела? Вот только голова страшно болит и плохо работает. И еще скучно, однообразно… Так однообразно, что захотелось на волю. А если на волю, то, значит, жить. Впрочем, можно еще пожить. Это то же самое, что еще полежать, посидеть, погулять по траве. А там будет видно…
Анатолий (отчим) был нежен и заботлив, он очень переживал о ней, заблудшей пастушке, «отраде седин», «дитя старости моей», пробовал беседовать на отвлеченные темы, как с тяжело больной, предлагал ей какие-то варианты, которые могли бы ей понравиться: пойти в аспирантуру, защитить кандидатскую, даже уехать заграницу и поработать там. В общем, сменить обстановку. Сам он работал последние годы чудовищно много, ездил по открывшемуся миру, читал лекции, писал и редактировал выходящие книжки. Он, наконец, имел полную научную свободу, о которой всегда мечтал. Только: как поздно! Сколько всего упущено!
А с другой стороны, денег на науку не стало совсем, и если бы не помощь бывших «врагов», жить было бы хуже, чем раньше.
Мама отнеслась к поступку Риты, как удару в спину, когда и так тяжело! Конференции, симпозиумы, лекции – а тут сиди с Гором, от чего она совсем отвыкла. А так как делала она все основательно, ответственно – их взаимная жизнь превратилась в ад, что не облегчало состоянии Матильды.
Работали родственники и правда много, словно компенсировались за всю жизнь. И в начале прошлого года у Анатолия начались боли, которые приняли за сердечные. При обследовании в больнице у него был обнаружен рак желудка. Срочно стали делать операцию. Разрезали, вырезали, все прошло нормально, – по словам хирурга Анатолию. Маме было сказано другое: просто зашили обратно, ничего сделать уже нельзя. Но прописали процедуры и регулярное посещение врачей. Что он педантично и делал, все еще пребывая в неведении, даже не заглянув в эпикриз (который был поспешно спрятан).
Теперь главным стало хранить спокойствие, не устроить слишком долгую паузу в разговоре, подбирая правильный тон и слова. Чтобы он не догадался. Потому что сказать ему правду ни мама, ни друзья не решались: он был слишком раним.
– Ты прекрасно выглядишь… Ты держишься отлично… – врали друзья.
А он резко усох и ослаб. И стал напоминать старика, чего Матильда прежде не замечала. Зато стал сентиментальным, как женщина, как-то понежнел, хотя никогда не был особо строг. Чем дальше – тем больше в нем росла странная благостность, вовсе не радовавшая, а пугавшая родных. Лечиться он хотел, где угодно и как угодно, только не в больнице, больница его пугала, он устал от нее, и отмахивался от редких намеков на свое реальное состояние, зато стал интересоваться религией. Ренатка предлагала вызвать о. Михаила для соборования, но мама была категорически против. Она была убежденная атеистка лучшей советской закалки, ничем не напоминая коммунистов, наполнивших храмы, как мухи. В партии она, кстати, никогда не состояла. В отличие от Анатолия. По его словам, он вступил в партию не для карьеры, а потому что верил. Ему нужна была вера.
– Как многие истинные коммунисты я был настоящим идеалистом, – шутил он. Тогда он еще мог шутить.
Она думала о маме: как это – жить с близким умирающим человеком? Знать очень скорую перспективу, и при этом жить так, словно ее не знаешь? Словно все нормально… Мужество ли это, или человек просто адаптируется ко всему на свете? И не видит в своей жизни подвига, потому что подвиг означает и отчаяние… Главное, не задумываться, что играешь на тонущем корабле.
В декабре Анатолий потерял сознание, прямо на пороге дома, на глазах у Гора, с которым он гулял во дворе. Гор пытался поймать падающее тело, но ему это было не по силам. Несколько дней Анатолий провел дома, а потом на скорой его перевезли в госпиталь. Недавно блестящий ученый стал напоминать овощ. Он мог передвигаться с ходунками до туалета и ванной – и то лишь после реабилитации, которую устроила ему в клинике его дочь от первого брака. И виновато улыбаться половиной лица. Вторая отнялась при падении. Почти не говорил. Но все понимал. С первых дней Матильда стала ездить к маме, словно на работу, тащить ее хозяйство, ухаживать за Анатолием, сменяя маму, и, самое главное, разговаривать с ним. Он это любил. Иногда вдруг что-то совершенно ясно отвечал в ответ. Видеть это было невыносимо.
Все надеялись на чудо. И ему действительно стало значительно лучше, он даже опять начал работать. Мать проявляла героизм выдержки, но почти не разбиралась в медицине, по поводу которой у двух женщин никогда не было общего мнения. У мамы было свое мнение на все, в том числе на лечение, и иногда она больше мешала, чем помогала. И при этом пыталась жить обычной жизнью, с концертами и собственной работой. Она напоминала японскую женщину, носившую маску благовоспитанности, что бы у нее ни было на сердце. Впрочем, она и прежде казалась Матильде несколько бессердечной.
Это лето Матильда очень надеялась провести за городом, но в начале июля Анатолию снова стало хуже – и она приехала дежурить, не дожидаясь просьб. А он почему-то решил, что, раз она приехала, то все будет хорошо. А ситуация была ахова: Матильда не могла понять, как мама справлялась одна целую неделю? В общем: поразила своей силой и самоотверженностью. Лишь уколы она не умела делать: для этого и нужна была Матильда.
Днем он еще сидел в кресле, ел с тарелки, даже выпил немного вина. Ночью стало резко хуже. Мама, падая с ног, ушла спать.
Умирающая человеческая плоть – вот, что такое ужас! Когда духа осталось очень мало, но еще так много плоти, иссохшей, беспомощной, болящей, почти глухой. В эту ночь она думала, что он умрет у нее на руках. Он просил держать его за руку, прижимать ладони к его лицу, массировать позвоночник. Только тогда он переставал стонать. Не было и пяти минут, чтобы не надо было что-то для него сделать: перевернуть его самого или подушку, накрыть, открыть или закрыть окно, дать то или иное лекарство, померить пульс. И снова укол.
– Что для семьи выгоднее? – вдруг спросил он. – Похороны или кремация?
Утром было решено вести его в госпиталь. Шансов не было ни в каком случае, но мама словно надеялась на чудо. Или просто оттянуть уход: на неделю, две…
Чтобы ухаживать за ним, Матильда практически поселилась в госпитале, деля дежурства с мамой, иногда с Викой, старшей дочерью, с которой даже подружилась, а до того почти не знала: кормила, вызывала сестру, делала массаж, подставляла «стекляшку» и давала лекарства. Уколы делала сестра. Она же ставила капельницы с глюкозой в закрепленные в вене «бронульки». Через четыре дня их надо было менять, и подходящих мест для них становилось все меньше.
В первую ночь он дал ей поспать час или полтора – в пять или шесть приемов. Не отпускал от себя и на полминуты, и вдруг начинал ругаться, если она не бежала сразу же или уже не стояла рядом. Постоянный массаж: рук, ступней, позвоночника. У нее уже у самой отваливались руки. Если она сидела на месте пять минут – это была удача. А еще его надо было постоянно двигать, сажать, снова класть. А потом везти на эхо. В лифте ему вдруг понадобилась «стекляшка», а ее не было.
– Терпи, – сказала она сурово.
Кажется, он хотел показать всему миру, как ему плохо. Она поняла, почему сбежал сосед по палате: это трудно вынести – без их мотивации. Да и с ней – трудно.
В десять утра приехала мама.
– Ну, как?
– Живы пока.
– Что, ему так плохо?
– Ему нормально, это я про себя…
Матильда рассказала про все эти «смертельные» стоны. Правда ли так больно?
– Он всегда был гиперчувствительный, – сказала мама. – Кстати, такой же была твоя бабушка.
Странно, уж она-то: чистокровная русская, едва не с деревенскими корнями.
Она рассчитывала на неделю-две. Все оказалось много дольше: при современном уровне медицины длить это состояние полужизни можно почти вечно. Даже в больнице, где нет мочесборников, катетеров, да и множества лекарств в придачу.
В свободные дни она читала верстку, постепенно засыпая прямо над чашкой с кофе, которую пила для того, чтобы не заснуть. Зато наблюдала в окно всю смену закатов-рассветов, как утреннее солнце зажигало тусклые краски на башнях за деревьями парка. А в дождь все сливалось в общий серый фон.
Анатолий стонал даже в полузабытье. И вдруг пробовал шутить:
– Я вижу все одним глазом, как циклоп! – сообщил он доктору.
Мозг еще работал, а тело почти нет.
Ее пребывание в госпитале напоминало перманентный массажный кабинет для одного клиента. Лишь массаж успокаивал его. И он просил или даже требовал его практически без перерыва: пальцы и ладони, руки, поясница и спина, шея, ступни, ноги… Полчаса она массировала, давала пить, переворачивала с боку на бок – и на полчаса он засыпал. Или на пять минут. И все снова. Так весь день, так всю ночь. Массировала, а сама едва не спала, не размыкая глаз.
В довершение всего симпатичная сестра Антонина исчезла с поста на несколько часов посреди ночи. Объявившись – дала ему феназепама. Помогло? Как же!
Утром ему стало лучше, и он мрачно иронизирует над собой, подбадривает или извиняется… Или вдруг вспоминает, как в молодости служил под Харьковом, в каких-то Пятихатках, какие там были кристально-чистые озера!.. А потом призывает беречь Гора, беречь здоровье, чтобы, вероятно, не попасть в похожее положение…
В другой день он стал вспоминать Италию, Бари… Потом стал просить отвезти его в Кисловодск. Иногда он очевидно бредил, а в другой день голова работала совершенно нормально:
– Свободу Деточкину! – смеялся он, когда сестра освобождала его от капельницы.
А через день ему опять плохо, ничего не ест, давления никакого, члены онемели, все болело, задыхался. Ночью по ее просьбе ему вкололи промидол.
– Ох, как хорошо! – вдруг услышала она. – Да ты, наверное, видела… Космос…
А у нее так болела поясница! Когда это все начиналась, она думала, что выдержать полтора месяца в больнице – это нереально. Но вот они прошли – и ничего. И конца не видно, словно она здесь навсегда. Какая простая вещь: проснуться и никуда не бежать, ни с полосканием, ни сменять маму. Бывает ли такое? Было ли когда-то такое, будет ли? Такие приходили мысли. А за окном проходило лето, которое она так ждала.
Врач в больнице – волшебник, авгур. Он много знает, у него есть опыт. Но все случаи разные, болезнь протекает по-своему, и под оболочкой тела ему все равно мало что видно, сколько бы ни было рентгенов, узи, экг, эндоскопий, анализов крови и мочи. Он тащит подмышкой пачку историй болезней пары десятков больных его отделения с бесконечным количеством показаний и анализов в каждой. А ведь у больного, как на грех, может быть несколько болезней, в том числе не по его специальности. Поэтому выбор им лечения – в значительной степени риск, наитие, догадки: может, поможет… Врач следует алгоритмам: а, такая, значит, реакция, уменьшилось/повысилось давление, больной стал задыхаться… – тогда пропишем это, увеличим то, сократим другое… В конце концов, призовет коллег для совета. Ничего не помогает? – в реанимационное на усиленную терапию или на стол, резать… И так до бесконечности, пока больной или не выздоровеет или не помрет. Или не улучшит свое состояние настолько, чтобы его можно было бы выписать из больницы со спокойной совестью.
К середине второго месяца Матильда поняла, что все, что может посоветовать и прописать врач – это предположения, и больной как бы кидает жребий: угадает врач его болезнь и найдет способ с ней справиться – или нет? Или, хотя бы, затормозить, пролонгировать процесс твоего умирания? Ну, и, конечно, выдержит ли все это лечение и его издержки твой многострадальный организм?.. Притом, что подавляющее большинство болезней, слава Богу, давно известно, описано, и так или иначе усмиряется проверенными методами лечения, могучими современными медикаментами… И диагностика тоже не стоит на месте. Поэтому твое лечение/умирание в хорошей клинике с профессиональными врачами может протекать едва не бесконечно.
Она «снимала шляпу» пред ними, и при этом она понимала всю их принципиальную беспомощность.
К концу лета, несмотря на беспрерывные капельницы, у Анатолия началась дистрофия, ноги стали, как у голодающих в Кении: тонкие палки, лишенные плоти. Руки не намного лучше. Ни один орган не работал нормально, он не мог справлять нужду. Но при этом давление, кровь, моча – все было нормальным. С ним ничего не делалось, словно он стал бессмертным. И, однако, его не брал даже промидол, он стонал и не спал всю ночь – Матильда вместе с ним.
Она засыпала около семи – и тут входили санитарки, врачи, женщина с завтраком. Она спала через ночь, и в эту бессонную – она продумывала все мысли, что накопились за два дня или десять лет. Все, что никак не удавалось решить: Гор, школа, работа, деньги, Дятел, Маниг... Она косила эти мысли, словно косой, а через день они вырастали снова, как упорные сорняки.
День рождения мамы они справляли в больнице, в госпитальной палате. По дороге от метро Матильда купила вина, чуть-чуть еды и конфет санитаркам. Мама за обеденным столом в палате, вдруг превращенным в «праздничный», попросила ее рассказать о психоделических эффектах, которые мог наблюдать Анатолий под промидолом. Оказывается, скоро после смерти матери она сама имела странное видение: пошла с (теперь уже умершей) подругой в Дом Кино и вдруг увидела, что вся поднимающаяся по лестнице толпа – это скелеты, мертвецы… Никому, кроме нее, она об этом не рассказывала…
А ночью была очередная «воздушная тревога»: опять не шла моча, вызванный Матильдой хирург из соседнего корпуса лениво чистил трубку шприцем-«насосом». Но моча все равно не шла. Анатолий задыхался, отказала левая рука – и Матильда долго терла и разминала ее, а он все не спал, даже после трамала. Она уже смирилась, что вот так пропрыгает вокруг него всю ночь, но полвторого он успокоился – и она тотчас рухнула в сон, как в колодец.
Утром он выглядел не ахти: кожа висела мятыми складками, вытянутое лицо, розово-фиолетовые веки. И запах… Но эта плоть хотела жить! Эта жизнь не хотела исчезать. Куда ей исчезать, у нее же больше ничего нет. Пусть она лишь спит, дремлет или стонет. Но не сдается.
И ей казалось, что она поселилась здесь навсегда, что всегда будет этот вид из окна, который она никогда не забудет, изученный до последней детали в любое время суток, этот зеленый коридор, эти врачи и сестры, которых она уже всех знала, как соседей по дому.
Это была агония, которую продлевали мощными лекарствами. Это был щадящий способ умирания, когда близкие едва не сами торопят события, ибо больше нет сил. И смысла. Человека, по существу, уже не было. Это был совсем не тот человек, которого они знали. Даже вид его был почти не узнаваем. Одно слово, что он жив и еще не оставил тебя… Тут она вспоминала про маму. Когда прожил с человеком столько лет… Это ужасно – но после такого долгого и мучительного «расставания» – боль, может быть, как-то сгладится. Все чувства притупились усталостью. В душе должны бороться противоречивые мысли: «Как же я без него останусь?!» и: «Побыстрее бы это уже кончилось!..» За время болезни ты приучаешься жить иначе, без него, хотя и для него… Это совсем другая жизнь, чем была раньше. Через нее уже легче начать новую жизнь – совсем без него.
Так думала Матильда долгими ночами дежурств на соседней койке. Анатолий уже почти не приходил в себя, не звал – лишь стонал и кричал по ночам. Впрочем, вдруг снова звал и узнавал. И однажды стал просить прощения… За два дня до смерти.
Последнее ее дежурство, свой последний день на земле он провел без еды и почти без питья, в полубеспамятстве, ни на что не реагируя. Лишь кричал и звал Риту. Ясно было, что он задыхался, болело сердце. Руки холодные, давление упало. Она пошла к сестрам, и они вкололи ему сперва трамал, потом промидол. Но и он уже привычно не помогал. И снова эти душераздирающие крики: «А-а-а! Скорей! Ой-ой, не могу!..» – словно она что-то могла сделать. Полуоткрытый рот, задранная рубашка. И потрясающая сила жизни.
Всю ночь он просил воды, но пить нормально не мог, все время захлебывался. Это когда она поила его из ложки. А через соломинку у него не получалось вовсе. Зато весь день метался и метал подушки с койки. Промидол совсем не помогал.
С утра он почему-то стал упрямо звать Гора. Наверное, Гор дома, пока она валялась в больничке, приносил ему воды. Скоро, однако, он уже никого не звал, никого не узнавал и ничего не просил. И переворачиваться уже не мог. Это было похоже на конец, тем более, что сестра не смогла поставить ему капельницу: вены ломаются, в них «нет давления», как объяснила Ирина Сергеевна, главврач отделения. А это означает обезвоживание и потерю всякого питания.
– Что же делать?
– Повезем в реанимацию…
Было б славно, думала она, если б на скорбном этом одре сказать себе перед смертью, что все хорошо. Все хорошо… и нормально – и больше не цепляться за эту жизнь. Но освободить свое измученное и бесполезное тело – ради того нового, что еще может быть. Ну, да, это путешествие будет специфическим и точно без возврата. Что ж, надо сказать себе, что эта пьеса закончена, я сделал все, что мог и: «Коль хорошо сыграли мы, похлопайте…» Не исключено, что не будет больше ничего, – а, может, будет что-то, никогда не виденное. В любом случае, бунтуешь ты или смиряешься, то, что будет – будет неизбежно. Небытие или какое-то особое «бытие», не имеющее никакого касательства к твоему «я», которое вылепила жизнь. «Я» умрет так же, как и тело. Но, может быть, останется что-то, что было в «я» до «я», и что сохранится и после его уничтожения…
Разве не интересно перейти в это новое «что-то», тем более, когда и вариантов других нет?..
…Легко так рассуждать, когда не лежишь на этом одре. Да и прими ты это рассуждение за путеводную истину – что толку, если и тело и мозг тебе уже не послушны? А агония длится по своим неисповедимым физиологическим законам, не спрашивая и не интересуясь твоим мнением? Тебе и самому уже не видно, вечер теперь или утро, и что за люди стоят с бессонными лицами над твоей постелью. Тебя, собственно, уже нет. Есть лишь твоя упорно сопротивляющаяся плоть, истончившаяся, полуразвалившаяся оболочка, страдающая непонятно зачем, стихийно и слепо. И никто не знает, сколько она протянет. Но и за эту тень тебя твои близкие костьми лягут, а медики их поддержат.
Поэтому она предпочла бы быстро и сразу, оставшись в памяти молодой и красивой.
Уходя накануне, она поцеловала его в лоб и сказала: «Пока, завтра увидимся», – то же, что говорила все эти два месяца. Но в этот раз у нее было предчувствие, что этого не произойдет. Поэтому и поцеловала, хотя обычно просто жала руку. Очень уж больно было на него смотреть – и, в общем, все было ясно. Ну, не завтра, так через два дня. Если бы дольше – это было бы какое-то физиологическое чудо! Хотя чудом было все, сколько он держался.
Он умер в четыре утра, – сказал позвонивший из реанимации врач. И они, не завтракая, понеслись с мамой в больницу. А потом она объясняла рыдающему Гору, что смерть существует, чтобы мы любили друг друга. Она заставляет больше ценить то, что находится в узких и недолгих границах жизни. Чем короче фильм – тем важнее в нем каждая сцена. Чем меньше войско – тем ценнее каждый воин…
Теперь маму надо было постоянно утешать, поддерживать ее синхронно пошатнувшееся здоровье. Эта железная женщина неожиданно стала очень слаба, на глазах постарела и согнулась. Хотя по виду была такой же гордой, не признающей ничьей правды, кроме своей. Отношения стали еще тяжелей, все были во всем виноваты, дурны, несовершенны. И она стала все чаще приезжать к Матильде в гости, словно ей не с кем было общаться.
А общаться маме и правда стало почти не с кем, и от былых деньрожденных застолий на сорок человек, профессор на профессоре, не осталось следа. Одни умерли, другие болели, третьи уехали. Вот и ее ближайшая подруга, Зоя Львовна, вдруг оказалась в Америке, вместе с ее сынком, Митей, этим идеальным ребенком и вечным укором…
Притом что мама умудрялась приезжать, не предупреждая, сюрпризом, как неизменно любимый гость. Так в ее представлении полагалось между родственниками. А Матильде полагалось изобразить смиренную дочь. А она не могла, она сама была на грани. Поэтому каждый визит мамы кончался скандалом. Она считала, что достаточно поработала Бурым волком, чтобы иметь право не слушать укоры.
В результате у нее самой возобновились боли в сердце. И стало скакать давление.
– Сердце – слабое место всякой женщины, – шутила Матильда.
Ренатка советовала ей обследоваться, но она отказалась. Гораздо больше сердца, с которым все равно ничего не сделаешь, ее беспокоила боль в груди. Скоро она нащупала на правой груди шарик, размером с десятикопеечную монету (старого образца). А Гор совершенно забросил учебу, грубил, ее вызывали в школу, но она не шла. Пока рядом был Дятел, он не решался вести себя так нагло и свободно. Казалось, он не ставил ее ни во что, не ценил, не боялся, не воспринимал всерьез. Спокойно врал, когда она, в редких случаях, пыталась докопаться до правды. Нет, он не шел с ней на открытый конфликт, он знал, что не выдержит поединка, она забьет его доводами, докажет всю его ничтожность и вину. Раздавит криком, в конце концов!
– Мальчика должен воспитывать мужчина, – талдычила бессердечная Ренатка, вспоминая своего племянника и «счастливую» семью своей сестры. Но где его взять? Все хорошие были давно оприходованы, а начинать новую авантюру отъема чужой собственности она не хотела, ей хватило. Свободные же были либо ужасны, либо неинтересны: полураспавшиеся наркоманы, опустившиеся алкоголики. А счастья все-таки хотелось.
Она легко теперь впадала в истерику, обрушивая на Гора все зло ее поломанной жизни. И он отвечал тем же. В доме стоял постоянный крик, и ничего поделать было нельзя: ее все раздражало! Когда-то в ее детстве так же вела себя ее мама. Как хорошо она ее теперь понимала!
Матильда считала, что ей послано наказание за все, что она совершила. Ренатка считала, что она не совершила ничего особенного, и вообще не произошло ничего особенного, обычные бабские обломы, и лишь гордыня Матильды заставляет ее думать, что у нее все должно было быть иначе.
XII. АМИНЬ
Она стояла на своем прежнем месте, как на посту, в правом пределе у любимой иконы "Благовещение", напоминавшей ей картину Франческо Коссы – и плакала.
– Почему вас так долго не было? – спросил священник, как-то неожиданно появившись из-за спины.
– Вы меня помните?
Он удивленно на нее посмотрел.
– Конечно. Я помню всех, кто приходит в храм по делу.
– А я приходила по делу?
– Конечно. Поэтому я и удивился, куда вы исчезли?
– Я… болела. И… всякие другие дела…
– У вас никто не умер? – спросил он с тревогой. Он внимательно смотрел ей в лицо. Она и сама знала, как ужасно изменилась.
– Отчим умер.
– О, примите мои соболезнования!
– Спасибо…
Он отпустил ее с напутствием больше не исчезать.
– Еще будет время поговорить, да? – спросил он. – Проблемы так быстро не решаются.
Вечерняя служба только началась.
– Я знаю, где вас найти. Это ваше любимое место, – сказал о. Михаил дружелюбно.
Луч солнца бил ей в голову и волосы серебрились. Она быстро вытерла глаза и посмотрела на него. Она уже знала от прежде воцерковившихся друзей, что говорят про о. Михаила. Что он пустосвят и сноб, что любит только образованных православных и только с ними общается. Что решает проблемы своих прихожан не с помощью догматов церкви и канонических правил, а с помощью интеллектуальной беседы, часто вообще не упоминая Писание. Что вокруг него всегда стая из увлеченных им женщин (последнее было неправдой, конечно).
Хотелось поговорить с ним о чем-нибудь важном.
После службы о. Михаил пригласил ее в маленькую комнатку в пристройке к храму. Скромный, какой-то несерьезный иконостас, белые стены, запах ладана. Чисто и аскетично. Цветы на окне.
– Эх, отмучился на сегодня!
– Отмучились?
– Проповедь про Илию, не слышали? Не люблю его, а надо… Огненная колесница так действует на народ! Куда же без нее?..
Низенькая старушка поцеловала у него руку и, низко кланяясь, вышла. Ей стало неловко, что ей уделяют столько внимания.
– Не обращайте внимания, я никуда не спешу. И дома меня никто не ждет, так что… – он махнул широким рукавом рясы и замолчал.
Она еще раз осмотрела комнатку. Что-то в ней было не так.
– А что это за портрет на стене, какой-то индус?
– Это Рамакришна. Только – т-с! Никто не замечает и ладно.
– Вы почитаете его?
– Увлечение молодости. Вот вы же не снимаете свои браслеты. – Он улыбнулся.
Она посмотрела на свои руки.
– Это феньки… – Действительно, зачем она носит их? Что они дают ей?
Она повнимательней присмотрелась к иконостасу, готовая увидеть там неканонических да и вовсе не святых…
– Вы хотели что-то обсудить? – вдруг спросил он.
Она молчала.
– Вы плакали, что-нибудь случилось?
– Пустяки.
– Вы должны мне все откровенно про себя рассказать, – сказал о. Михаил. – Считайте, что я психоаналитик. Если вы хотите, конечно, и верите, что я могу вам помочь.
– Откуда у вас столько сил? Все, наверное, пристают к вам со своими проблемами?
– Это моя работа. Пусть это вас не беспокоит.
– Могу представить, как вам досаждают всякие убогие. Особенно, наверное, женщин много. Ведь у нас сплошь проблемы – вам не надоедает?
Он вздернул плечами, как бы отметая такое подозрение.
Потом был ее рассказ о пропущенных месяцах, не очень подробный, с купюрами, согласно приличиям.
– Эк на вас всего упало! – воскликнул о. Михаил.
– Я молюсь, чтобы не упало ничего больше.
– Конечно, хотя, может быть, напрасно.
– Напрасно?
– Никто не знает, сколько может вынести и зачем ему посылаются испытания.
– А зачем?
– Как зачем: чтобы выйти как золото… Помните Иова? (Она кивнула.) И стать достойным и, хм, совершенным… – закончил о. Михаил, усмехаясь, будто смутившись.
– То есть Бог посылает нам их сознательно? А Он не боится переборщить?
– В смысле?
– Ну, разве никто не сходит с ума от испытаний? Люди даже кончают с собой. Как вы это объясните?
– Ну, и вопросы вы мне задаете! Теология бьется над этим тысячелетия!
– Но вы для себя как-то ответили?
Он помолчал.
– Ответил… Знаете, все было бы очень просто, если бы все совершалось по заповедям: сделал хороший поступок – награда, сделал плохой – наказание. Люди были бы дрессированными медведями. И очень хорошими. А вот попробуйте грешить и не нести наказания! Совершать добро – и не получать награды! Человек выбирает одно или другое в силу душевной склонности, ничего не боясь, даже гнева Божьего, и не рассчитывая ни на чью благодарность. В этом и заключается свобода, которую вы так любите.
– Я люблю свободу? Откуда вы знаете?
– Ну, я говорю вообще, современные люди… А разве вы ее не любите?
– Теперь не знаю…
Он удивленно посмотрел на нее.
– Нас упрекают, что мы ограничиваем свободу, чуть ли не проклинаем ее, а свобода лежит в фундаменте нашей религии – между прочим!
– Бог не ограничивает свободу?
– Нет, ее ограничивает мир.
– Но разве не Он его создал?
– Да, но не как фабрику с автоматами.
– Зачем же тогда вера в Бога?
Поп покачал головой, словно на неуместный вопрос.
– Знаете, с верой все не так просто. Если бы заповеди выполнялись каждый раз, чудеса по молитвам, наказание сразу за преступлением… – ну, и зачем была бы нужна вера? Вы же не верите, что за зимой наступит лето? Или горячее жжет? Вы это знаете. Вера – не физический закон. Это физические законы неизменны.
– А вера – это попытка изменить неизменное, да? Чтобы дважды два не было четыре?
– Ну, да, в каком-то смысле: надежда изменить неизменное. Что есть что-то выше физических законов. В конце концов, мы и физические законы плохо знаем, и вера тогда – просто констатация этого незнания, недостаточного знания, скажем. Что есть что-то помимо известного и очевидного.
– Мне кажется, это даже научно, – призналась Матильда.
– Возможно. Вас это радует?
– Я не против! – засмеялась она. – Я же из научной семьи, все мои родственники – ученые. Это я одна – урод среди них!
– Да? – он усмехнулся.
– Знаете, а вы как-то даже меня утешили.
– О, я рад! Пейте чай.
Он налил из электрического самовара горячего чая, достал из маленького ящика на стене печенье. Они пили чай и долго молчали.
– Женщины очень уязвимы, – начал он опять. – Их не только в храмах много, но еще в сектах и в сумасшедших домах. По мне – в храме все же лучше. (Улыбнулся.) Женщина более ранима. Ей было хорошо, пока мужчина за все отвечал. А она отвечала только за дом и детей. В православных и мусульманских семьях это до сих пор так. Женщина обрела свободу, к которой она оказалась не совсем готова. Вот вы, женщина образованная и, кажется, сильная. Вас что-то мучит, вы чего-то боитесь?
Говорить? Не говорить? И что говорить? Она и так уже раскрылась, как могла. Что он от нее еще хочет? Да и что сказать: что она хочет мужчину? Это банально. Нет, если она хочет мужчину, то такого, который, она чувствовала бы, был выше нее, как бы это ее ни смущало, который ее любил бы, терпел, прощал и тащил на себе весь воз проблем, в том числе ее. Давал мудрые советы, был надежен, и при этом не унижал бы ее, не подминал под себя, напротив, всячески показывал бы, что она – главная! От избытка своего благородства, конечно... Почему таких нет, это же так просто!
– Да, я боюсь. Мне очень плохо, – начала она туманно. – Не сейчас, но часто. Я много думала о смерти. От ужаса не могу иногда спать. Мне кажется, что мне легче умереть, чем жить. Эта невыразимая, неисправимая пустота! В центре!
Она оборвала себя и посмотрела на священника, который слушал ее совершенно спокойно, внимательно разглядывая пол.
– Где: здесь или там?
– Пустота?
"И зачем я заговорила о пустоте?" – Все показалось ей глупым, как только обернулось в связанные слова.
– Сколько вам лет? – вдруг спросил он.
– Тридцать три.
– О-о!
– Что о-о! – глупа не по годам? Или?..
– Только не глупа. Вы очень занятны.
– Вы думаете, какая девчонка! Разошлась и несет околесицу... Я ведь лечилась в дурдоме, вы не знали? Дважды.
Он отрицательно покачал головой.
– Это вы не рассказали.
– Это, в общем, не важно. Просто, кажется, никто не может меня понять... – Она замолчала. Антон ее понимал – то, что было в ней человеческое, но совсем не понимал то, что было в ней женское. Она вспомнила все бесполезные разговоры с ним – эту непробиваемую стену. И ей опять захотелось плакать.
– Ну, обиделись! Вы объясните, а я попытаюсь. – Он был насмешлив. Но это ее не смущало.
– И объясню. Меня все считают странной, а я просто откровенная. Ну и что, если я верю человеку и не боюсь быть смешной? Не полная же я дура. Я полной чуши говорить не буду... А если дура – можете мне честно сказать.
– Ладно, вы говорите, а там посмотрим. Мне, правда, интересно.
– Это лишь больное воображение. Я лежала в дурдоме и думала. Там ведь нечем заняться. И вот я думала… Вот, если бы я все же умерла… Лишь ветер над безымянной могилой, и больше ничего... Да… ненужность – природа отказывается от тебя, она тебя предает. И все друзья… все чувства и радости – исчезают, заменяются каким-то ужасным словом "мертвый". Стало так одиноко и еще страшнее. Словно заранее прощалась с жизнью... давала ей уйти из себя... Ммм... Но в то же время подспудно я чувствовала, что есть другие люди, которые живут тут же рядом, которые могут пожалеть. И испытала к ним ужасную благодарность, в которой не было никаких таких чувств, любви, м-м, обиды, – правда… – неслась она безоглядно, словно с обрыва, закрыв глаза. Она убеждала себя, что он ее понимает.
– Вам одиноко, я вижу. Я буду вашим другом, хотите?
– Так быстро, вы меня не знаете.
– Хотите?
– Хочу. Но подождите, я еще не кончила (ей показалось, что он хотел взять ее за руку, ибо она так увлеклась)... И вот после этого я еще больше захотела убить себя. Убить то, что дорого, ради того, чтобы не получить ничего – это мучение и сладострастие...
– Что – сладострастие? – переспросил он.
Она посмотрела на него и испугалась. Он глядел на нее внимательно и чуть насмешливо:
– Интересные мысли…
– Да нет, чего же интересного? – возразила она сама себе. – Кого-то там будут мучить, а я буду ананасовый компот есть…
Он кивнул, как бы говоря, что узнал цитату.
– Но тут-то вы сами себя мучить хотите и при этом ананасовый компот есть. Разве такое бывает?
Она усмехнулась.
– Меня и саму это тогда удивило. Но разве это не лучше, чем в подгузнике, под капельницей, замучив всех своих родных… как у Пушкина…
– У Пушкина?
– Простите, наговорила на десять лет, – оборвала она себя уже окончательно.
– Я не все уловил, простите, и половину забыл. Но, вообще… Вы действительно такая или все придумали? – спросил он после долгого, как ей показалась, молчания, которому, боялась она, не будет конца.
– Я ведь тогда совсем сумасшедшая была. Но эта мысль как-то засела во мне. А что, страшно?
– Да нет. Думаю, это все вранье и литература. Передохните, выпейте чаю...
“Дура-дура, разболталась!” – злилась она на себя.
Он налил из самовара горячего чая.
– Напрасно вы так думаете, я ничего не придумываю. Зачем мне это?
– Хорошо, хорошо, успокойтесь!.. Да, странная у вас любовь, – начал он опять.
– Я же говорю, никто не поймет.
– Почему не поймет. Это нормальная вещь – самолюбоваться своим несчастьем, разбереживать раны, чтобы ощущение сущест¬вования было острее. Так многие делают.
– А вы разве такого не испытывали? Никогда-никогда?
Он не ответил.
– Так в чем, по-вашему, моя проблема?
– Проблема? – он посмотрел, словно не понимая, о чем она спрашивает. – Люди, молодые еще люди, исповедуются мне в таких грехах, что… В смертельных болезнях, что они потеряли Бога, что они хотят, но не могут жить… А некоторые и не имели Бога, и плохо представляют себе, кто такой Христос – и зачем он нужен? Вы не можете представить себе меру темноты некоторых душ, невежества в самых вроде бы элементарных вещах. Когда видно, что случай абсолютно безнадежный – и хочется просто махнуть рукой. (Он так и сделал.) И вы еще говорите про проблемы!..
– Я понимаю, – выдохнула она. – Простите мой бред. Это все такие пустяки! (Говорить – не говорить?)
– Нет. Ведь это тоже жизнь. Я сам просил вас рассказать. Вы спросили: в чем ваша проблема? Я скажу банальность: в вас самой. Вы гордая, вы не можете подчиняться, вам невозможно жить в неравных отношениях.
– Это так.
– Самое сложное, что и церкви будет трудно вас удержать. Ведь вам очень трудно смирить себя.
– Вы меня мало знаете, а читаете, как по открытой книге, – улыбнулась Матильда.
– Я буду вам слишком сильно льстить, если скажу, что ваш случай – совершенно уникальный.
– А я и не расстроюсь. Наоборот: значит, у меня есть надежда, что есть опробованные методы… лечения, я имею в виду.
– Методы-то есть, только я не уверен, что вы готовы их принять, – улыбнулся священник. Он взял ее за руку, весело и поощрительно посмотрел в глаза.
– Конечно, я не все могу принять.
– Вы уверены, что до всего можете дойти сами. Внешние догматы вам ни к чему. Вот вы говорили, что хотели венчаться, а я вам не верю.
– Почему? Я же не говорила, что хочу венчаться неизвестно с кем.
– По вашей логике: с человеком надо сперва долго прожить, а потом венчаться?
– Конечно. Я понимаю: по догматам церкви – это жизнь в грехе. Но надо ли бросаться в омут брака, тем более венчанного, ничего не зная друг о друге?
– Вот видите, вы отвергаете одно из основных правил. А ведь оно по-своему мудро, как и большинство правил и догматов. Оно требует от человека ответственности. Обвенчавшись – тебе уже некуда деться. Пути назад нет. Не того человека выбрал? Ну, так можно выбирать до бесконечности. Ни один человек до конца не будет хорош.
– Это какой-то фатализм, – возразила Матильда.
– Можно сказать и так. Жизнь вообще фатальна. И если бы мы чаще об этом вспоминали, то, вероятно, меньше бы грешили.
– А если бы мы всегда об этом помнили – могли бы мы быть счастливыми? – спросила Матильда тихо.
Отец Михаил хотел ответить, но тут в дверь постучали, и вошла давешняя маленькая старушка. Матильда вырвала руку, которую он с неохотой отпустил.
– Батюшка, там вам зв;нят…
Священник хлопнул себя по лбу:
– Я совершенно забыл! К сожалению, мне пора. Попросили, понимаете, освятить квартиру, подработать, так сказать…
Он предложил подвезти ее до города на своей машине, довольно подержанной иномарке. Водил он очень смело и почти нагло.
– Менты уважают попов, – сообщил он. – Корпоративная солидарность, так сказать.
– Корпоративная?
– Конечно. Они мирская власть, а мы – духовная.
– Вот как!
– Кстати, как у вас со слухом? Может быть, придете к нам в храм петь?
– Петь? Может быть. – Эта мысль показалась ей забавной. "Мне еще и петь охота". Он взял у нее телефон и дал свой.
– Вообще-то, я не даю свой телефон.
– Почему?
– Пусть со своими проблемами приходят в храм. А дома я хочу отдыхать, как все люди. Разве это не справедливо?
Она кивнула.
– Но вас я буду рад слышать. И помочь вам, чем смогу, если у вас появятся во мне нужда. Договорились?
Он внимательно глядел ей в глаза, словно ждал какого-то ответа.
– Обязательно звоните. В любое время. И приходите в храм. Серьезно.
Порой он говорил совершенно, как обычный человек, только в рясе – и ей это нравилось. Даже как-то пикантно выходило. Только смысла в этом никакого не было.
Решиться исповедаться священнику, чужому человеку – родилось внезапно. Может быть, именно потому, что против этого бунтовала вся ее гордость. Что он может сказать ей нового, чего она не знает? Чего она сама не осудила? Если он более праведен, чем она, более сильный, он мог бы утешить ее, как сестру, именно в том, что она не может носить в себе. И все же он – мужчина. Она не привыкла говорить о своих проблемах с мужчинами. Что они могут понять? Разве только по благодати священнику дается больше мудрости? Ей захотелось попробовать – смирить себя. Это все равно, что публично обнажиться. Нет, много хуже; публично обнажиться – разве это проблема?
Она не была в этой теме сведущей и во всем полагалась на Ренату. Ее подруга, доведшая себя за последние месяцы почти до монашества и тяжелого религиозного фанатизма, за которым (чуть позже) последовало естественное остывание и разочарование, удивилась, обрадовалась и стала действовать.
– Значит, так: утром ничего не есть, лучше и накануне, – тараторила Рената по телефону. – Ну, и все прочее, сама знаешь… И сними ты эти свои браслеты. Зачем они тебе?
– Это феньки.
– Что значит "феньки"?
– Ну, такие хипповые украшения.
– Вот именно.
В ближайшее воскресенье она причастилась и первый раз в своей жизни исповедалась. Заглянув в лицо священнику, она искала на нем какого-то особенного выражения: осуждения, может быть, или даже гадливости. Но не увидела ничего, словно он уже привык к таким вещам и не был удивлен ни на йоту. Да и что она могла сообщить такого уж нового? Все одно и то же. Ей даже стало стыдно: не за грехи, а за их банальность. Хотелось как-то удивить священника. Но удивить она могла разве что чем-нибудь хорошим, а в этом не исповедуются. Хорошее, подумала она, у нас разное, а плохое – у всех одинаковое. Интересно было бы спросить на этот счет его мнения.
После службы она вновь подошла к священнику, который вел совершенно деловой разговор о ремонте со старостой или кем-то еще, простоватым и довольно неприятным по виду мужчиной, который все оправдывался и махал руками. О. Михаил строго твердил свое и совсем не обращал на нее внимания. Ей стало скучно, и она пошла к выходу. У церковной ограды она задержалась, чтобы прочесть про грехи масонства. Тут ее нагнала давешняя старушка и сообщила, что батюшка хочет ее видеть. Он встретил ее в трапезной и посмотрел с какой-то подчеркнутой симпатией, как бы подготавливая горькое лекарство.
– Рад, что вы сумели себя заставить. Это нелегко. Вы правильно поступили.
Ей показалось, он посмотрел на ее руки.
– А что, украшений нельзя?
– Вообще-то, нежелательно. С другой стороны, что же с вами, женщинами, делать?
– Суетность?
– Ну, конечно. К тому же – они отдают язычеством.
– Мне следует их снять?
– Это уж вы сами решайте.
– Они скоро сами разорвутся. Они очень непрочные. Там леска внутри, очень тоненькая.
– Это почему-то дорого вам?
Она пожала плечами.
– Исповедование веры требует отказа, помните, что говорил Христос? Как можно войти в Царство Боже – без жертв? В наше время жертвы чаще всего бывают чисто символическими: юбка и платок в храме, служба по воскресеньям. Посты – уже для более твердых. Это не средства стать ближе к Богу, угоднее ему. Это, скорее, работа с собой, демонстрация намерений… – Он улыбнулся.
Она промолчала и посмотрела на него: все ли это, что он хотел ей сказать? Он как-то посерьезнел и откашлялся.
– Если без предисловий – ваш случай довольно распространенный, но от этого, понятно, не легче.
Он вздохнул.
– Знаете, мне и самому тяжело. Когда человек зараз исповедуется за всю жизнь, так, знаете, все наслаивается. Голова кругом идет, ха-ха-ха!
– Так все ужасно? – пробормотала она со страхом.
– Нет-нет, вовсе нет, я же говорю. Просто обычные слова тут не подходят, мне тоже требуется подумать.
Он устало сел на лавку, даже видом показывая тяжесть ее грехов, лежащих сейчас на нем. Пригласил сесть тоже.
– Да и что мне говорить: вы и сами все понимаете, не хуже меня. Вряд ли я скажу вам что-нибудь новое.
– И все же.
Священник задумался.
– Вы рассказали про самоубийство. Я не хотел бы о нем говорить, к тому же вы сами его осудили, да?
Она кивнула.
– Жизнь – трудная вещь, она, вообще, – для сильных людей. Но сильных людей нет. Ну, может, есть несколько, но это исключения. Человек – слаб по природе, и когда у него самого не хватает сил, ну, что-нибудь сделать, совершить, он обращается к другим людям за помощью, правильно? И люди помогают. Но люди – когда помогут, когда нет, когда помогут так, что станет хуже, чем было. Ведь у них у самих мало сил. И тогда человек обращается к Тому, у которого сил – неограниченное количество, и Кто может дать их тебе сколько хочешь, стоит лишь тебе попросить об этом. Попросить не о новой машине, конечно, квартире и даже не о том, чтобы не умирал дорогой человек, а о том, чтобы найти силы выдержать это, найти силы жить и принимать эту жизнь.
– А почему не попросить о том, чтобы не умирал? Христос же воскрешал мертвых.
– Христос воскресил несколько мертвых. Но представьте, если бы Он воскрешал всех по просьбе их родственников, если бы Бог менял законы мира по любой молитве, сыпал бы чудесами, как из рога изобилия – в какой хаос погрузился бы мир! Все законы этого мира были бы отменены, да и смог бы он сам существовать?
– А зачем ему существовать?
– Ну, зачем-то, значит, нужно. Зачем-то Господь его создал – по своей неизреченной мудрости, нам недоступной. Разве можем мы все понять в Его замыслах? Когда в детстве мы идем в школу – всегда ли мы понимаем, зачем? Без нее было так хорошо, а теперь все стало так трудно. Считайте, что земная жизнь – это школа страдания и воспитания души.
Он некоторое время молчал.
– Впрочем, если у вас такая вера, что горами движет, тогда, конечно…
– А у вас не такая?
– Увы, значит, нет. Горами не движу. Только пожертвованиями! – он засмеялся. Посерьезнел. – Поэтому самоубийство, как сказал классик, это закономерный акт атеизма, неверия и нечувствования Бога.
– А как же самоубийство с иконой в руках – у того же классика?
– У-у? – поморщился он.
– «Кроткая». Основана на реальном случае, из газеты…
– Вот ведь как с вами трудно! Всегда-то найдете возражения… Что мы знаем о том, э-э, случае? Может, она взяла эту икону на всякий случай, как современные новые русские вешают их в свои "мерседесы"? А, может, ей никто не объяснил, что самоубийство – грех. Никто не вел с ней таких бесед, как у нас с вами. Человек не может до всего дойти своим умом, к тому же необразованным. И чтение Евангелия не все может ему объяснить. И даже если он просто ходит в церковь. Тут должны быть духовные подвиги, алчба высших истин…
Замолчал.
– Да, наверное, в тот момент я не верила в Бога. Нет, точно – не верила. А если и верила, то истерично, как та самоубийца с иконой: забери меня отсюда скорей, не могу больше!
– Кто земной мир отвергает, тот замысел Его отвергает, бунтует против Него и Его замысла. Не понимает земным умом и считает, что, значит, и нет смысла. Это, если, конечно, признавать, что замысел был. В этом весь вопрос. Не было замысла, земная жизнь – случайность и ненужное страдание, добровольно сносимое – ну, и к чему? Зачем мучить себя? Мы же не мучим себя добровольно, когда нас жжет огонь? Тогда самоубийство совершенно естественно.
– Но ведь не все кончают с собой?
– Ну, у некоторых не все складывается так плохо, некоторые чувствуют не так тонко и не задумываются, кто-то придумывает всякие развлечения, водку пьет. А кто-то все же верит. Что в жизни есть смысл. Греки верили в один смысл, буддисты в другой, а мы, христиане, в третий. Я считаю, что наш смысл – самый правильный, но не мне судить…
Вот за это он ей нравился: за отсутствие догматического отрицания всего и всех, кто верит не так, как он. Во всех религиях этого очень мало, а уж в православии, кажется, и вовсе нет.
– Теперь касательно второго, если вы этого хотите…
Она сжалась.
– Нет, не про аборты. Это все делают, все каются и делают вновь. Я даже говорить об этом устал. Вы ведь и сами все про это знаете. Не мне вас, как мужчине, осуждать. Но как священнику – конечно. В общем, отпустил вам – и довольно…
Оправил рясу, подумал о чем-то. О том: не слишком ли он гуманный?
– На исповеди вы признались, что изменили мужу. Обычно меня спрашивают в таких случаях: надо ли ему рассказывать? Ведь это может привести к разрыву брака. Я считаю, что надо, хотя это мое личное мнение. Брак, основанный на лжи, всегда непрочен.
– Я помню, вы говорили, что защищаете брак.
– Да, защищаю, но не любой ценой. Ложь все равно его не защитит. Но вам-то нужно не это. Для вас ваш поступок и есть формальный повод для развода. Но ведь для развода вы и не нуждаетесь в церковной санкции. Вы как бы хотите себя в чем-то убедить: не то в том, что ваш брак ненастоящий, не то, что если брак ненастоящий, то и грех ненастоящий. Во-первых, по канонам церкви – всякая половая связь вне брака – прелюбодеяние…
– А во-вторых, этого брака уже нет и никогда не будет.
– Это значит, вы не хотите об этом говорить?
Она кивнула.
– Ну, значит, поеду делом заниматься.
– Опять квартиру освещать?
– Берите выше: банк! Вас подвезти?
Он сам позвонил ей.
– Почему вы не приходите в храм? И даже не звоните?
– Простите, батюшка. Знаете, дела всякие… – врала она.
– Обязательно приходите. Скоро Великий Пост. Это время, когда надо ходить. Нам есть о чем с вами поговорить. Хорошо?
– Конечно… Как там ваша работа? Ну, квартира или банк, который вы освящали?
– Да, освящал, вам это не нравится?
– Зачем вы это делаете?
– Знаете, это обычная практика. Светят дома, квартиры, джипы и даже ванны с джакузи, знаете, что это такое? Это серьезная статья дохода священника. Священники не купаются в золоте, как некоторые думают. К тому же это мой близкий приятель. Воцерковленные православные считают это благочестивым – жить в освященной квартире. Старая русская традиция, превентивная защита от нечистой силы, – объяснил он с интонацией инструкции для стиральной машины.
– Вы потакаете суевериям?
– Это лучше, чем высокомерие. К тому же, кто вам сказал, что это совсем бесполезно? Может, бесам и правда становится неуютно.
– Вы верите в бесов?
– Простите, а кого же тогда изгонял Христос? Не требуйте слишком многого от православного священника. Для меня Священное Предание значит больше, чем доктор Фрейд.
– Вы, наверное, и в Дарвина не верите?
– При чем тут я? Существует православная биология, которая отрицает Дарвина.
– И эволюцию?
– И эволюцию. И деревья с семенами появились раньше, чем солнце. А почему? Потому что Бог есть свет и тепло. Видите, нам есть о чем поговорить…
Он словно уговаривал ее, выманивал на свидание.
Тут же она набрала другой номер.
– Мне кажется, о. Михаил увлекся мной, – сообщила она Ренатке.
– Что ты говоришь? Ты с ума сошла?! – ответила Ренатка с завистью и враждебно сразу.
– Ну, что – мне так показалось, – сказала Матильда виновато.
Рената долго молчала, будто решала: повесить трубку из-за такой наглости или нет?
– Знаешь, может быть, ты права, – вдруг услышала Матильда. – Он расспрашивал меня о тебе.
Теперь с о. Михаилом они вели долгие беседы по телефону. А однажды он пригласил ее в гости. Он жил в старом доме в центре: темная лестница с роскошными перилами. Она сразу поняла, что отче – эстет: красивая антикварная мебель, чистота, бронзовые украшения в разных местах, много книг в старинных шкафах. Несколько светских картин на стенах, резной иконостас с одной старинной иконой. Была она допущена и в «мастерскую», комнату, где отче писал иконы. Точнее: учился писать, как он сам пояснил. Качество икон она не бралась оценить. Квартира была с удивительно хорошим (по тем временам) ремонтом, но при этом текли все краны и в большой комнате не горел свет.
– Не знаю, почему? – объяснил он. – Давно уже не горит.
Он, однако, приспособился, пользовался лампой.
– А почему электрика не вызовете?
– Не хочу, чтобы сплетни пошли. Они не знают, кто здесь живет.
– А то отбоя не будет?
– Или насмешек…
– Да перестаньте, сейчас не те времена!
– Но все равно, я стараюсь себя не рассекречивать. Излишнее внимание, знаете, тоже бывает не в радость.
– Понимаю. У вас отвертка есть? – спросила она.
– Зачем?
– Знаете, я на УПК изучала электричество, розетки всякие. Я хочу посмотреть.
– Вы?
– Что, не доверяете? Мужской шовинизм?
Он пожал плечами и выдал ей небольшой ящичек с инструментами. В полчаса она восстановила свет, удивившись его технической беспомощности. Когда-то и Дятел был такой, но последние годы он сделал шаги в другую сторону: просто из-за невозможности платить всем так называемым «специалистам».
– Не ожидал от вас, – пробормотал он.
– Почему?
– Вы же, вроде, литературный работник.
– Ну и что? Советская женщина должна уметь все!
– Ну, да, помню, коня на скаку…
– Это русская. Она не знала, что такое электричество, – съязвила Матильда.
Она, похоже, совсем не обрадовала его.
– Нам, попам, не положено работать руками! – вдруг выпалил он, как бы оправдываясь.
– Почему, презирать начнут?
– Каноны такие. Хотя Павел-то работал, палатки шил…
– Но не сразу же вы стали священником!
– Я и прежде не был рукаст. А, может, я специально искал место, где мой недостаток превратится в достоинство!
– И нашли?
– Нашел!
– Шутите!
– Ничуть!
Он пригласил ее пить чай. Разговор не клеился. Чинить свет – было как-то проще.
– Вы говорите со мной так зажато. А представьте себе обычного человека, в джинсах, рубашке, без всего этого облачения. Можете вы отнестись ко мне просто, как к человеку? Который даже розетки чинить не умеет!
– Зачем вам?
– Ну, значит, нужно. Трудно, знаете, все время стоять на котурнах.
Он вышел в другую комнату и вернулся и правда – в джинсах и рубашке.
Так она обрела свободу. А потом весь вечер он словно реабилитировался перед ней за афронт с розеткой, как бы доказывая, что главное достоинство мужчины – мощный ум. И делился секретами церкви. Даже Патриархии от него досталось.
– Конечно, наши попы – государственники, не хуже коммунистов. У них вообще много общего: и те и другие не хотят признавать своих ошибок, – вещал отче в необычайно свободной манере.
– Каких ошибок?
– Ну, например, ответственность за историю. Это, на самом, деле, неразрешимый вопрос для нашей церкви, эта наша революция. Она не хочет мыслить диалектически. Ужас в том, что то, что наш народ такой забитый и невежественный, – вина и нашей церкви. Если не главная вина… – Его голос был необычен. – Я говорю неприятные и для себя самого вещи.
– Я понимаю…
– Кто давал народу духовную пищу? Кто проповедовал ему сотни лет, кто его развивал?! И что народ узнал от наших попов? Что Христос родился из бока? Ради этого Христу не надо было гибнуть на кресте. Вообще не надо было приходить. – В его голосе прозвучало едва не отчаяние.
– Будда тоже родился из бока, – вдруг сказала она.
– Что?
– Ничего. Но почему наша церковь так себя проявила, как вы говорите?
– Потому что сама невежественна, забита и несвободна. И всегда такая была.
– Но почему?
– Потому что наше государство ненавидит конкуренцию, в том числе, духовную. Церковь для него – просто декорация. Никакой самостоятельной роли она не играет – упаси Боже! Впрочем, мне кажется, вы это знаете не хуже меня.
Матильда не знала, что теперь и думать!
– Ну, а вы сами? Вы-то пытаетесь что-то сделать? Или все уже бесполезно?
– Серьезный вопрос. Наверное, не все, не все делаю. Точно знаю – не все. Очень мало. Чем дальше – тем меньше. Мы ведь тоже люди, мы устаем…
– Я понимаю. – Она помедлила. – Странно, последнее время вы так много говорите про церковь, ее недостатки, проблемы разные, и совсем не говорите о Боге… В церкви так принято?
– Ну… А что тут скажешь? Во-первых, все сказано, во-вторых… все это, знаете, – пустая трепотня. Некоторые верующие любят поговорить о Боге, будто похлопывают Его по плечу.
– Суетность, я понимаю… Но тогда все, что о Нем написано…
– Это просто образы, ну, как в искусстве. Но они должны сообщить что-то большее, чем они сами… Ну, вот, вы вынудили меня говорить об этом… Знаете, я не богослов, я узкий специалист.
А едва она добралась до дома, усталая и голодная, ибо батюшка не отягощал себя готовкой, он опять позвонил:
– Я тут Лескова читаю, – начал он снова. – "Мелочи архиерейской жизни", читали?
– Нет, – ответила она уныло.
Но он ничего не почувствовал. Он хотел говорить о важных ему вещах, его, как он объяснял, заклинило…
– Напрасно, очень смешно: "он ехал неважно, на своих на двоих", ха-ха-ха! Это он про епископа. Ах, сатана! И ведь все верно, а, главное, ничего не изменилось. Сколько было гонений, сколько жертв, духовной борьбы! И Церковь выстояла, хотя ее почти убили – и, о-о! – какой был у нее авторитет! В храмы люди ломились, как на стадион. У нас был такой, э-э, кредит доверия… Все христианство возродить можно было! А теперь – только по праздникам! А храмы все строят и возрождают. Я предрекаю – пустые будут стоять. Потому что ничего не изменилось, ничего они не поняли…
– Тогда такое время было, духовная сумятица… Люди опору искали.
– Конечно. Вообще, лучшее для нас время – это очередной Конец Света. А за его отсутствием – надо терпеть и ждать, пока ребята чего-нибудь не перепугаются и снова к нам не побегут.
– Это ирония?
– А вы как думаете?
– Не знаю.
– Нет, вы скажите: разве не было на Руси веры? Была! И все просрали, прости Господи! И теперь просрем…
– Зачем же такое отчаяние, может, все не так плохо?
– Конечно, храмы возводятся, купола золотятся – чего же лучше?
– Батюшка, вы не пьете?
– Пью, дщерь, пью, не теряя, впрочем, трезвости духа. А что?
– Просто я не понимаю, чего вы хотите?
– Чего хочу? Чтобы Церковь снова стала тем, чем задумал ее Христос, вот чего! Для начала, чтобы она вновь стала моральным авторитетом. А без этого все остальное – мишура. Да. Но она перестала быть не только моральным, но и мистическим авторитетом. А это, может быть, еще хуже.
– Еще хуже? Не понимаю.
– Что тут не понять?! Церковь оторвалась от своих мистических корней, вот! Она просто институт общества, и ей поручено выполнять задачу: утешать старушек и всяких больных, чтобы люди на что-то надеялись... Если в храм придет человек и, например, скажет, что ему было откровение, ему, скорее всего, посоветуют обратиться к психиатру. Им не нужна мистика, новые откровения, вообще ничего не нужно. Да, собственно, и Бог не нужен… Они язычески верят в обряды и не верят в Бога, которому эти обряды, скорее всего, по барабану…
Очевидно, он был пьян, одинок – и использовал ее как канал для передачи своей тоски, которую не мог ни с кем разделить..
– Вот вам вопрос: что лучше: убить человека или вылить чашу со Святыми дарами? Две трети попов, думаю, скажет – лучше первое. Это не значит, конечно, что они за это начнут убивать, но… Вот такое у нас человеколюбие…
Он снова замолчал.
– Вы считаете, я кощунствую? – и, не дождавшись ответа: – Нет, если Бог – мой отец, Он меня простит. Это наши с Ним отношения. Его я не оскорбляю, а все остальное – пошло оно все лесом!..
Она понимала, почему он ее выбрал: такие вещи он не мог бы сказать своему приятелю-священнику, особенно, если бы тот был более ортодоксален или осторожен, чем он. Тем более, не мог бы сказать своему духовнику, опасаясь элементарного наказания. Не в прямых словах он сам объяснил ей это, и получилась, что не она, а он нуждался в ней. Почему?
– У вас открытый ум, – объяснил он вдруг, словно прочел ее мысли. – Это большая редкость даже среди мирян, не говоря о нашем брате. Вы не боитесь новой информации, а у нас ее все боятся, вдруг она опровергнет какие-то наши убеждения или нарушит душевный покой! Вы же сумеете найти для нее место, вписать ее куда-нибудь, чтобы картина мира не развалилась…
Это было лестно, хотя она сомневалась, что она настолько совершенна. Это было обычное мужское преувеличение, романтическое стремление к идеалу, громоздящее всю эту выдумку на женщину, бедную, слабую и земную. Именно это она пыталась ему объяснить. Странно, что такой романтизм она нашла в монахе. А, с другой стороны, разве попы и монахи не должны быть наибольшими романтиками?
Был праздник Сретенья Господня.
– …Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем… – читал о. Михаил (на церковнословянском). Он был строен, красив, лицо вдохновенное, все целиком обращенное куда-то вовнутрь. И это облачение – как оно меняет человека!.. – Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…
По окончании службы батюшка вышел на амвон читать проповедь.
– Празднуя Сретенье Господе, мы вспоминаем о вере, – начал он тихо и нетвердо. – Мы говорим о вере, о той вере, которая была у праведного Симеона. А много ли среди нас истинно верующих? – Он долго всматривался в лица прихожан, словно ища таковых, и, наконец, увидел ее. Взгляд замер. Он опустил глаза. Голос стал глуше. – Люди приходят в храм с руками, залитыми кровью, погрязшие в разврате, приходят те, кто обманывал и крал, а мало ли теперь таких? Если они пришли каяться – храм всегда открыт для них, ибо Иисус сказал: "не здоровые имеют нужду во враче, но больные". Если уж наш суд уменьшает наказание тем, кто совершил преступление по ошибке, страсти или неведению, раскаялся, признал свою вину, – то не паче ли Отец Небесный простит грешника?
Он приостановился, словно ожидая ответа, но ответа, естественно, не последовало.
– Но как часто люди приходят в храм не покаяться, а откупиться! Они приносят церкви дары, даже строят храмы, они считают себя верующими и православными – и вновь грабят и убивают. Я не верю в их веру, или у нас разная вера! – вдруг рявкнул он, отчего некоторые прихожане из первых рядов вздрогнули. – Нельзя очиститься от греха богатыми подношениями. Ты можешь искупить грех только тем, что перестанешь грешить, за каждый свой грех сделаешь добро и перекроешь этим добром свои грехи. Если ты грешил перед людьми, то и добро ты должен делать людям. Если же ты думаешь, что за богатые подношения, найдя священника, что отпустит тебе грехи, ты примирился с людьми, Богом и совестью, то ты впал в идольское искушение. А если ты приобретаешь православные атрибуты и думаешь, что они защитят тебя от опасности, которую ты сам накликал, то ты впадаешь в магию и в почитание вещей, вместо почитания Духа. Что Духу наши земные подношения! "Милости хочу, а не жертвы", – говорит Господь. "Ем ли я мясо волов и пью ли я кровь козлов?" – говорит Бог в Псалтыри. Ему не нужны наши жертвы ни кровью, ни золотом. Жертва Богу – дух сокрушенный.
Глаза его были полузакрыты, лицо побледнело и чуть-чуть дергалось. Казалось, он говорит не с ними, а с самим собой.
– Есть и другие люди: они приходят в храм в расчете, что священник поможет им в их делах, в том числе, сердечных, они пытаются использовать храм в своих целях, словно палочку-выручалочку, и теряют веру или меняют храм, когда не добиваются своего. Верят ли эти люди? Нимало! Они не понимают, что вера – больше того, за чем они пришли, и нельзя б;льшим мерить меньшее…
– Нет человека без греха, но Христос не для того пришел к людям и умер на кресте, чтобы грех торжествовал в мире. Аминь.
Он быстро дал крест и ушел в алтарь. Люди, удивленно переговариваясь, выходили из храма. Их знаменитый священник… даже они не ждали от него такого.
Они увиделись в храме в обычном месте через неделю.
– Мне очень понравилась ваша проповедь про веру и грех, что вы произнесли в прошлый раз, – смиренно склонив голову, как кающаяся грешница, сказала Матильда.
– Ах, не вспоминайте ее! Мне уже дали за нее по шапке.
– Как?!
– Конечно. Есть люди, у которых другое мнение. А вы думали? Даже вызвали к благочинному и объяснили, что и Соломон верил, а грешил, поэтому мои умозаключения, что тот, кто верит – не грешит, не верны. И что мои филиппики против подношений от грешников лишат церковь возможности строить храмы и просвещать людей – а, значит, принесут делу веры вред, – будто, потворствуя одному суеверию, можно исправить другое. В общем, еще немного, и мне придется отправлять свои проповеди на согласование, – усмехнулся он. – Но это наши дела, пусть вас не касаются. Вы же хотели поговорить о чем-то другом?
Ей понравилась его наивная открытость – говорящая о силе. У нее самой такой силы не было.
– Да нет, – извинилась она. – Просто благословите меня. Мне теперь это очень нужно…
На масленой неделе о. Михаил пригласил их с Ренатой в "паломническую" экскурсию в Звенигород на автобусе с участием прихожан храма. Сперва заехали в Вязёмы, в имение кн. Голицына.
– Здесь останавливался по пути в Москву Наполеон. Здесь же бывали Пушкин, Гоголь – и еще куча народу, что играли не последнюю роль в истории России! – скороговоркой твердил о. Михаил, увлекая группу в сторону большого храма с высокой галереей и отдельно стоящей звонницей.
Но лучше всего был Саввино-Сторожевский монастырь.
– Он основан еще в XIV веке. Через него прошли поляки, французы, немцы, но он неплохо сохранился, вы увидите!
Это и правда было так. В главном соборе уцелели все росписи и иконостас, а колокол на колокольне был такой, что можно сравнить лишь с царь-колоколом в Кремле.
– Но этот еще и звонит! – в восхищении воскликнул о. Михаил. – А до революции здесь висел еще больший колокол!
После путешествия она не могла ни о чем говорить, кроме того, как хорош был о. Михаил в качестве гида, как высокодуховно они провели время.
– Это явно лучший поп, которого я знаю! – с восторгом говорила она Ренатке. Попов, впрочем, она знала мало.
В пост она отговелась по полной программе. За последние месяцы она и так сильно похудела, а теперь исхудала так, что ни одни джинсы не держались на ней. Но ее это только радовало. И каждую неделю в храм, как на свидание. Ей нравилось ее смирение, что трудности церковной жизни даются ей легко, что в ней появилась какая-то восторженность и легкость. Все грехи сняты с нее, во всем дано утешение, на которое она не рассчитывала. Она всех хотела прощать, словно сама со всем прощалась. С о. Михаилом отношения были ровные и деловые. Он давал ей разные маленькие поручения, как-то связанные с ее профессией, и она охотно их выполняла. В общине было много молодых людей, в том числе, образованных, им было о чем поговорить. Может, это и правда было то братство, которое она искала?
Ее смущала только скорость исчезновения формальностей между ними. Он легко начинал жаловаться ей, словно забывал, что это он должен быть опорой ей, а не она ему.
– Вы не испорчены нашей поповкой, – объяснял он. – Вокруг церкви собирается столько больных, попросту сумасшедших, все они сползают сюда, как в яму… Из-за жизни или, там, чёрт его знает, характера… Церковь – прибежище убогих всех мастей.
– А разве это неправильно?
– Правильно, только когда общаешься с одними такими, сам становишься, как они.
– На их фоне я кажусь вам совершенно здоровой?
– Да вы и без фона кажитесь… Вы не больнее, чем любой нормальный человек.
Пасха совпала с началом весны, не календарной, а настоящей, с теплом и солнцем.
После пасхальной службы о. Михаил подошел к ней, стоявшей почти незаметно в правом пределе.
– Христос Воскрес! – воскликнул он.
Его пасхальный поцелуй был жаркий и тяжелый. "Поцелуй в уста – ради праздника Христа", – была такая старая открытка. "Что здесь "поцелуй": глагол или существительное?.." – мелькнула озорная мысль.
– Не хотите ли сегодня посетить поповское разговение?
Она удивилась.
– Это не будет выглядеть странно?
– А вы боитесь странностей? Или вас смущают попы? Ну, что же делать? Другого круга у меня нет, как вы понимаете. Это хорошие попы, вполне свободные. Узнаете что-нибудь новое о нашей жизни.
– Но почему я? – глупо спросила она, все отлично понимая.
– Действительно, почему вы? Наверное, мне хочется больше проводить с вами времени. Вы мне интересны. И куда мы можем еще пойти в Пасху? Не в ресторан же.
Она плохо представляла, как это происходит у попов. А происходило это в большой трапезной в одном из московских приходов. Людей – человек сорок. Шум, поздравления, христосования. Все духовные люди, матушки и самые верные допущенные прихожане.
– Как вам это нравится? – спрашивает о. Михаил.
– Не знаю...
– Вы же любите странных людей. Тут много странных.
Она высокомерно дернула губкой.
– Сядьте вот сюда и не волнуйтесь, – говорит он.
Она поправила легкую косыночку, на которую уже взглянула в большое зеркало в прихожей, проверив ее скромность и изящество, села на краешек скамьи и стала слушать. Было много злых поповских анекдотов, громких слов о России, сплетен про знакомых владык (ей, конечно, неизвестных). Раньше она много раз чувствовала себя в кругу разных людей – не равной еще, а вроде шпиона. Так было у нее дома. Так было по первому времени среди хиппов. И думала тогда, что ей надо обязательно стать такой, как они. Взрослой и на равных. Но здесь ей даже не хотелось притворяться, что она – как все. Да от нее никто и не требовал. Скорее, напротив. Все смотрели на нее, как на непонятное и забавное явление, острую приправу к их постному блюду.
Вдруг она ощутила что-то вроде дежавю, словно с нею это уже было, хотя как-то не так. Это ее и рассмешило и немного испугало, потому что она никак не могла вспомнить… "Не схожу ли я с ума?" Истомленный постом дух все еще был высок, чувства напряжены и почти истеричны.
– Если, падре Роман, Россия – богохранимая страна, как вы говорите, как же тогда в ней завелись большевики? – спросил дьякон Борис, невысокий молодой человек, сидевший по правую сторону от Матильды.
– Как крысы! – бросил мрачный человек с дальнего конца стола. Видимо, он был не тот, к кому обращался дьякон.
– Но крысы не захватывают дом, в котором живут, – возразил вопрошавший.
– Россия была слишком хороша и беззащитна перед жидовской хитростью и большевистским анафемством, – сказал сидевший напротив Матильды толстый и на вид грозный чернобородый, горбоносый и густобровый отец Роман.
– То есть, большевики – это голая ложь? – допытывался дьякон.
– Конечно. И не надо нам тут оправдывать Троцкого!
– Троцкого?
– Ну, да, а как на Рождество-то, аль забыли?
– Не помню ничего, пьян был.
– Ха-ха-ха! – засмеялись все.
– Голая ложь не победила бы без нашей собственной лжи, – буркнул о. Михаил, как бы ни к кому не обращаясь.
Смех скис.
– С этим я согласен, – вдруг поддержал разговор о. Александр, белокурый, полноватый поп с редкой бородой и высоким голосом. – Бог постоянно наказывал Израиль за его прегрешения. А Россия – это современный Израиль, – сделал он довольно смелое заявление. Все как-то язвительно засмеялись.
– Тогда большевики – это семьдесят лет вавилонского плена, – заявил дьякон.
– А что тогда татаро-монголы? – спросил о. Михаил.
– Может быть, Египет? – предложил веселый дьякон.
– Куда же мы ушли из этого Египта? – спросил о. Роман.
– Мы не ушли, мы заставили Египет уйти, – ответил дьякон – и весь стол засмеялся. Один о. Михаил был серьезен за этим веселым столом.
Выпив пару стопок коньяка, он стал жаловаться на бесперспективность своей профессии. Матильда уже не удивлялась, что такой человек мог жаловаться. Он ей грустно кивнул, словно соратнице. Близко сидящие попы и их жены принялись вяло возражать ему.
Ей хотелось, чтобы они говорили с ней. Она выпила бокал кагору, чтобы почувствовать себя свободнее.
– Нет, отец Михаил, как хотите! – сказал о. Александр. – Это лукавство говорить, что мирянин может быть ближе к Богу, чем священник. Согласен, он может вести более нравственную жизнь и даже иметь более возвышенные мысли, но он все равно связан с мирской жизнью. Он, пардон, питается от нее.
– А от чего питается священник? – вдруг спросила Матильда. Несколько людей за столом с удивлением посмотрели на нее.
– От пожертвований паствы, – словно плохому студенту объяснил о. Александр. – Он иждивенец, это так. И всегда им был. Общество согласилось на это, чтобы кто-то предстоял за него Богу.
– В этом вся проблема: хорошо ли мы предстоим, – перебил о. Михаил, – и так ли нужно Богу наше предстояние?
– Если мы плохо предстоим – это наша вина, отче, – возразил о. Александр. – Собственно, другой роли у нас нет. А нужно ли Богу иль не нужно – не нам с вами решать. Делаем, что можем.
– А польза-то от этого есть? – снова спросил о. Михаил. Он был непонятно упорен.
– Вы словно взяли на себя роль Искусителя, отец Михаил, – усмехнулся о. Роман. – Наверное, такими вопросами надо задаваться, но не в такой же праздник!
Пожилая дама рядом с ним согласно закивала головой. Матильда, напротив, хотела слушать дальше. Но ничего не последовало, и она взяла свой бокал.
– Закусывайте чаще! – сказал ей дьякон Борис. – Давайте я вам что-нибудь положу.
Она послушно стала есть пасху.
– Вот блинчиков пожалуйста, с икоркой! – не унимался дьякон.
– Мне нельзя так много есть, – сказала она в ответ. А есть ей просто не хотелось. Как-то отвыкла. Напротив, ей хотелось поститься и дальше, чтобы сохранить это странное состояние легкости.
– Почему? – спросил о. Роман и прищурено на нее посмотрел, словно только что заметил.
– Я толстая.
– Вы толстая? Разве вы толстая? Можно я буду говорить вам "ты"?
Она кивнула и решила ответить тем же. Это напоминало ей их обычные вечеринки, где говорили свободно и без жеманства.
– Ты сколько весишь, дщерь?
– Ну, приблизительно, кило пятьдесят... пять, – соврала она. Теперь она знала точно, что и пятидесяти не весила, как в шестнадцать лет.
– Ну вот, разве это много? – спросил он насмешливо. – Посмотри на меня или на отца Александра! И ты будешь говорить!
– Профессиональная болезнь, – заметил о. Александр, словно извиняясь.
– А я ведь женщина и не очень высокая... Раньше я такой не была. Какая я стала толстая, ужас! Кошмарный ужас!
Попы засмеялись.
– Простите, я, наверное, нарушаю возвышенный настрой?
– Да бог с ним, с настроем. Не настроем единым, – успокоил ее о. Роман.
– Женщин и приглашают, чтобы они говорили глупости, – сказал о. Александр добродушно. – А не только слушали пьяных попов.
Как обычно они взялись ее учить.
– Правда? Как интересно! – с плохо скрытой иронией изумилась Матильда.
– Это почти по инерции, – продолжил о. Роман. – Мы же сильный пол: в отсутствии войны приходится демонстрировать силу ума.
– Кому демонстрировать?
– Да вам и демонстрировать.
– Правда?!
– Настоящий поп не отказывается от внимания женщин, – брякнул дьякон Борис, изображая рафинированного и циничного юношу. – А почему? Потому что хочет просветить и спасти.
Попы опять засмеялись.
Снова это поучение и снобизм! Он как будто считает ее за дуру. Как и все прочие. Ну ладно!
– Значит, вы предполагаете, что мы поймем суть и сможем отличить зерно от плевел?..
– А если и не поймете... – начал мрачно кто-то сбоку и осекся.
– Как же мы сможем выбрать лучшее? Самое убедительное? Ведь критерий должен быть сродни суждению, если не выше него?
– Поймала! – весело воскликнул о. Александр.
– Да, – сказал о. Роман, – это как-то даже по-сократовски. Браво!
– Критерий женщины – кто говорит красно и у кого круче чуб закручен, – огрызнулся мрачный поп с дальнего конца стола. – Известно...
– Спасибо!
– Не умничайте, женщина, вам это не идет, – сказала суровая пожилая дама, не то мать, не то жена одного из присутствующих.
– Не получился сократовский диалог, – посетовал о. Александр.
Она чувствовала, что возвышенный настрой прошел, но не смутилась. Она добилась своего – они обратили на нее внимание.
– Ну, как вам батьк;? – спросил о. Михаил на улице, куда они вышли подышать и покурить. (Да, он курил, но не прилюдно, а как бы таясь.)
– Ничего, веселые.
– Еще бы, без чувства юмора в нашей профессии никак. Сам я, увы, этим качеством не блещу, может, поэтому и мучаюсь.
– Мучаетесь?
– Слишком серьезно ко всему отношусь. А вот вы веселая.
Она воодушевилась.
– Веселая? Я просто свободная сейчас.
– Редкое свойство.
– Почему? Разве вы не познали истину – или как там в Евангелии сказано? – забавлялась она.
– Я бы предпочел более смиренную точку зрения.
– Какую?
– Что есть свобода воли. А другой свободы – нет. А вы что об этом думаете?
– Я?
– Вы. Чего журитесь? Вон как весь стол в лужу посадили!
– Я посадила? – ей было лестно и весело. – А я думала: я дура.
– Вы не дура. Странная, как все нормальные люди.
– Меня всю жизнь за это ругают.
– А вы не обращайте внимания. Разве быть верующим – это не странно? Вера в Бога – это вера в невозможное. То есть чистое безумие. Современное государство мирится с этим, даже иногда подыгрывает, когда ему это нужно. Но, в общем, если быть откровенным, это психиатрический диагноз.
– Вы так это говорите…
– Как? Откровенно? А что мне скрывать? Пусть это будет диагноз. Я знаю, что только верой в невозможное мы можем подняться над миром. Если мы будем равны реальности – мы никогда не сможем быть выше нее.
– Будьте реалистами, требуйте невозможного, – сказала она с усмешкой.
– Именно, – неожиданно ответил он.
Она удивленно посмотрела на него, а он на нее.
– Батюшка, простите глупый вопрос, а вы в молодости не хипповали?
Он снова быстро взглянул на нее, будто был разоблачен. Так два масона могли бы показать друг друга тайные знаки.
– Я так и думала. А какое у вас было прозвище? – не унималась она. – Вы, наверное, были из разряда гуру. Объясняли пионерам про Систему, открывали истины! Помните это время? Я так скучаю по нему иногда!
– Нет, не надо об этом. Лучше поговорим о свободе, – поспешно прервал он. – Как вы к ней пришли?
"Он мне еще не доверяет," – удивилась она. – "Ну, что ж, и эта тема подходящая…"
– Я свободна, пока могу мыслить, – подумав, сказала Матильда. – Я поняла это еще в школе. Мысль – это и есть свобода. Свобода как осознанная необходимость, как нас тогда учили, – это катахреза, красные чернила. Может быть, ее вообще нет, этой свободы, но вот то, что она необходимость – это лицемерный софизм. Нельзя было сказать, что нет свободы, нельзя было и сказать, что ты – свободен. Его явно придумали заинтересованные родители.
Она улыбнулась – и вспомнила себя много лет назад, словно время вернулось, и ей вновь стало двадцать лет, и все истины блистали, как глаза ее тогдашних друзей.
– О, какая фронда! Да вы анархистка!
Матильда поморщилась: "была".
– Я просто училась в советской школе.
– В кузнице революционеров! У Розанова я читал, что в гимназии он ненавидел стоять в шеренге под портретом государя-им¬пе¬ратора и повторять за директором какое-то славословие. А ведь Ленин учился в той же гимназии и, кажется, в то же время, понимаете? Там просто преподавали какие-то уроды. Но какой эффект!
Она подумала: да, эффект серьезный.
– Хотя – надо уметь и прощать, – вдруг кончил он.
Она кокетливо надула губы.
– А я не умею. Это хорошо или плохо?
– Забавно. У вас все забавно.
Она почувствовала к нему невероятное доверие.
– Вот вы упомянули необходимость… – сказал он задумчиво. – Наверное, вы правы. Шестов считал, что необходимость – это свойство материального мира. Бог и вера – отменяют необходимость. Вера – это свобода.
– Вот видите, а вы считаете, что священник не приносит пользы! – сказала она, вспомнив разговор за столом.
– Если бы не считал, как бы я мог им быть? Хотя – почему и нет? Ведь можно относиться и просто как к профессии.
– Но профессии кому-то нужны.
– Особенно, скажем, профессия хозяина ларька. С другой стороны – он ведь тоже приносит пользу, дает людям товар. Мы тоже даем товар, который люди у нас просят.
Она поразилась циничности его слов. Видимо, он и правда был в подавленном настроении. Он словно угадал ее мысли и улыбнулся.
– Не слушайте меня. Я все же верю, что на невидимых весах мы приносим пользу, не такую, а настоящую. Именно в силу своей материальной бесполезности. Это удивляет людей, они начинают задавать вопросы. Это уже хорошо…
– Мне кажется, люди вспоминают о церкви, когда все от них отвернулись, когда им надеяться больше не на что.
– Они с тем же успехом обращаются к гадалкам и шарлатанам. А у нас как бы диплом есть, что мы не шарлатаны. Поможем – это еще вопрос, но благолепие гарантируем…
Мимо них прошел о. Александр.
– Уже уходите, отче? – спросил о. Михаил.
– Да, путь неблизкий, а завтра сами знаете… Знаете, как называется место, где я живу? – спросил он, посмотрев на Матильду. – Ближние Прудищи! И они отнюдь не так близки, смею вас уверить.
И тут она вспомнила Забликово. Ближние Прудищи – они же были почти напротив. Они еще так с Эстетом смеялись…
Попы похристосовались – и о. Александр ушел вместе со своей молчаливой матушкой, которая так ни разу и не взглянула на Матильду, будто боясь греха.
– Смешной человек, – сказала Матильда, милостиво раздавая оценки.
– Один из лучших, – ответил о. Михаил.
– А что, бывают другие попы?
– Еще какие! Донесут, растрезвонят, размажут так, что не отмоешься, – зло сказал он.
– Вот не думала…
– В тихом омуте черти водятся, слышали поговорку? Это про нас. Идемте?
Они вернулись в трапезную. О. Михаил под столом взял ее руку и жал ее все то время, что они были в гостях "у батьков". Больше он не принимал участие в беседе и сидел, словно на поминках.
Из трапезной они снова вышли вместе.
– Вы так сжимали мою руку, – сказала она не то в упрек, не то с благодарностью.
– Больно было?
– Нет. Странно. Так, пожалуй, еще никто не сжимал.
– Вы же не школьница.
– Уже нет, – подтвердила она, не совсем поняв, что он имеет в виду.
– Я не хотел вас испугать. Вы, наверное, и к любви относитесь своеобразно?
– Не знаю.
Она помолчала. Не хотелось казаться деревянным чурбаном.
– В восемь лет меня пытались изнасиловать, – сказала она, когда они дошли до улицы.
– И что? – спросил он, заинтересовавшись.
– Сосед спас. А я вся обмерла и ничего не могла понять. В восемь-то лет… А потом опять, в лифте.
– Что?!
– Я отбилась бутылкой кефира. – Она засмеялась. Он тоже фыркнул.
– Но я считаю, что вся жизнь – это бесконечное насилование и совокупление, из которого всегда выходишь оплеванная. Всю жизнь, от которой бежишь. И в которой тебя все равно настигают: в лесу, на улице, на работе, дома, в семье. Все лезут тебе в рот и пытаются узнать, чем ты дышишь? Чтобы ты дудела в дуду и читала им по-французски, мучаясь месячными и чистя картошку левой ногой!
Он обнял ее за плечо и поцеловал в висок.
– Ты у меня замечательная, ни на кого не похожая.
Она просунула руку ему под пальто и обняла за пояс. Она даже не обратила внимания, что под пальто у него ряса и что это вообще как-то нелепо.
Дорога продолжалась в неопределенном направлении, теперь на пойманной тачке. Она была совсем пьяна, и не соображала, куда он везет ее. И говорила-говорила. Если не на десять, то за десять лет точно.
Тут она поняла, куда они приехали. Темная лестница с роскошными перилами. Дальше чай и будуарная сцена:
– Иди сюда.
Она со стула в темном углу смотрела на него огромными глазами.
– Чего ты хочешь?
– Чтобы тебе не было одиноко.
Она отрицательно покачала головой.
– Мы просто полежим вместе…
Она опять покачала головой. Почему он не спросил, любит ли она его? Если пришла сюда – значит, любит? А зачем она пришла? Разве не за этим?
– Странная ты. Ну да, женщине идет скромность…
Повернулся к стене. Проехала машина. Параллелограмм света прочертил по дальней стене и пропал, как загадочная длань у Вальтасара. Тревожный звук растущего расстояния в ночной необитаемости.
– Можешь взять одеяло и подушку в шкафу и лечь в другой комнате.
Утром она встала первой и стала готовить завтрак. Кухня была маленькая и чистая. Словно жил не мужчина, а аккуратная одинокая женщина. Он вышел на кухню в мятом подряснике, мрачный и подавленный. Она даже сперва испугалась: так он был не похож на себя. Испугалась и того, что он мог теперь сказать.
Он сел на табуретку и уставился в стол.
– Батюшка, вам разве не надо на службу? – как ни в чем ни бывало спросила она, голосом ровным и совершенно спокойным. – Я даже хотела разбудить, да не решилась.
Времени был уже десятый час. На улице совсем светло.
– Я предупредил, чтобы заменили, – вяло сказал он. – Ждут теперь, поди, великого покаяния у владыки.
– В чем покаяния?
– Как в чем? За связь с прихожанкой, а вы думали? В поповском кругу всё знают.
– Я виновата… – начала она.
– Перестаньте, ради Бога! – воскликнул он.
Она вздрогнула.
– Извините…
– Вы извините, – выдавил он.
– Я сделала яичницу с фасолью и сыром, – сказала она смиренно. Все, что она нашла в холодильнике. – Будете?
Он ничего не ответил, словно не услышал ее. Она поставила тарелку на стол перед ним. Выглядело довольно красиво и пахло вкусно. "Матушки так обслуживают своих попов?" – подумала она. Тут она вспомнила, что монахи, вроде, не могут быть белыми священниками, поэтому ее мысль совершенно нелепа. Впрочем, о подобной перспективе своей жизни она могла подумать только в шутку.
А вот ему было не до шуток. Он не смотрел на еду – будто не видел ни ее, ни стол, на котором она стояла. Вообще, было непонятно, куда он смотрит? Она не знала, что делать дальше. Занервничала и стала мыть сковородку.
– Перестаньте, пожалуйста! – вдруг крикнул он.
Она послушно выключила воду.
– Сядьте!
Она сняла измазанный краской фартук, который арендовала в комнате, где спала, и где он писал иконы. Села, положила фартук на колени и судорожно вцепилась в него. Зачем она не уехала сразу, зачем дождалась его пробуждения? Что она хотела этим сказать? Кому, себе, ему?
– Вы не понимаете, что произошло? – вдруг спросил он, не глядя на нее.
– Наверное, нет.
– Я так и думал. – Он опять замолчал. – Можно чаю?
Она встала и налила ему чая.
– Вам с сахаром?
– Да.
Он сделал несколько жадных глотков и опять замер, словно задумался.
– Знаете, бывает – делаешь страшное открытие, что то, что было неимоверно ценным, начинает казаться ужасной ошибкой. – Она вздрогнула от его голоса, такой он был чужой. – Думал, что будешь вечно счастлив от того, что этот человек будет всегда с тобой, и вдруг эта мысль начинает ужасать тебя: как, он будет со мной вечно?! А как же моя свобода? А как же все другие люди, которые могли бы полюбить меня, а я мог бы полюбить и узнать их?.. То же и монашество: как – я буду вечно нести бремя, почти невыносимое человеку?! И ведь добровольно, и каждый день ты можешь его сбросить…
Она молчала, не совсем понимая, к чему он хочет вывести? Ясно, что он жалеет себя и оправдывает. И тут она хорошо его понимала. Хотелось погладить его по голове и успокоить.
– Знаете, прежде я был хорошим монахом, настоящим. Женщины для меня не существовали. Они казались мне глупыми, лживыми, суетными и… нечистыми. Простите.
– Ничего, – сказала она, но внутри как-то сжалась.
– Пока не появились вы. И… я стал все больше думать о женщинах. Это ужасно: на все смотрю как сквозь пелену, более-менее безразлично, и реагирую, обостряю внимание только при слове "женщина". А это случилось со мной. Из-за вас! Служу службу, крещусь – а на уме греховные мысли.
– Простите…
– Ничего, Бог простит. Ты-то тут причем? Я знаю, что это ужасное искушение в моей жизни, и мне надо с ним справиться. Но так хочется не справиться – понимаешь? (Он вдруг опять перешел на «ты».)
– Да.
– Ты-то понимаешь, я знаю. Видишь, теперь я тебе исповедуюсь.
– Смешно.
– Очень. Дальше плыть некуда. Ты только не думай, что я не справлюсь. Я справлюсь!
– Надеюсь.
– Знаешь, а ты все-таки злая, я так и думал. Красивые и умные женщины должны быть злыми.
– Почему?
– Ну, потому что Бог тут как-то промахнулся, дал в одни руки слишком много. Кажется, и счастья должно быть много, а его-то и нет, его даже меньше, чем у нормальных людей. Тут поневоле обозлишься.
– Наверное, вы правы, – кивнула она. – Хотя я не считаю себя красивой. А умной – возможно. Особенно на фоне разных глупых женщин, к которым вы привыкли.
– Мы привыкли… – повторил о. Михаил. – Да, я тебя не понимал. Только уже не знаю, в какую сторону больше? Не знаю, понимаешь ли ты сама себя? В тебе так много намешено, хорошего и плохого.
– Плохого? – Его слова удивили ее.
– Да, и плохого, поверь мне и смирись. Может быть, я плохой монах, но опыт у меня есть.
– Верю.
Он посмотрел на нее довольно пристально, словно призывая к серьезности.
– У тебя легкий характер. Ты можешь быть бесчувственной, когда все вокруг разрываются от эмоций, и можешь смеяться, когда всё совершенно ужасно.
– Это не совсем так, – возразила она. – Да, я могу веселиться, даже совсем не вовремя… Это форма защиты. Поверьте, я все-таки очень ранима – и если бы не это… я бы, может быть, уже не жила бы на свете. Или все время плакала… – Ей стало искренне себя жаль, даже слезы на глаза навернулись.
– Может быть, может быть, – сказал он. Кажется, ей не удалось растрогать его. – Можно поплакать, можно посмеяться, можно напиться, можно пуститься в разврат… Лишь бы не впасть в отчаяние. Все это так. И у всех это так, в разной степени.
– Значит, я никого не хуже?
– Я хотел бы, чтобы ты была лучше.
– Это невозможно, – усмехнулась она.
– Возможно, но тебе нужен другой учитель. Я слишком слаб для тебя. Вон чем это кончилось… А я-то самоуверенно думал, глупец!.. Есть области, куда не надо соваться, если ты не готов. Иметь особый дар, мудрость, возраст, а лучше святость.
– Чтобы справиться с такой, как я? – Ей стало смешно.
– А ты знаешь, что ты ангел и бес в одном лице?
– Нет, впервые слышу.
– И вас нельзя разделить. В этом твое обаяние, твоя сила и твой соблазн.
– Я всегда хотела быть хорошей.
– Это дополнительный соблазн. Когда бес хочет быть хорошим – против этого невозможно устоять.
– Но я не бес! – воскликнула она. – Зачем вы меня оскорбляете? Я понимаю, я нанесла вам рану, может быть, ужасную, но надо быть справедливым! – Она заплакала.
– Успокойся, успокойся! – забормотал о. Михаил, даже привстал и погладил ее по голове. – Прости меня. Это все поповская чушь. Я привык к таким категориям. Это все так упрощает. И мы судим на основе них – и все чаще попадаем впросак. Извини.
Она перестала плакать, а он надолго замолчал. Тихо пил чай.
– Некоторые, кстати, гордились бы, если бы их назвали бесом.
– Да?
– Это значит, что у них есть какая-то сила…
– Может, и правда есть?
– Бесовская, ты хочешь сказать?
– Вы же верите в нее?
– Ну, да, и по вере моей…
Он сидел молча, иногда украдкой поглядывая на нее.
– И, пожалуйста, если можешь, говори мне «ты». Мне было бы приятно…
Он едва не покраснел.
– Все это было предисловием, – начал он опять. – Теперь главное. Я благодарен тебе, что ты не дала мне вчера сделать это…– Потом прямо посмотрел ей в глаза. – Ты вчера меня спасла.
Лучше бы он не вспоминал... Казалось, произнеся последние слова, ему стало легче. А она напряглась и отвернулась к окну. Между неопрятных деревьев в палисаднике еще белел снег.
– Нет, я сама была вчера – неправильная… Ненормальная какая-то.
– Ты была очень хороша, слишком хороша – для монаха. Я тоже человек. Мы выпили, говорили о свободе. И это чуть не довело до греха.
Он поморщился, будто у него что-то болело. Видно, вообразил, что могло произойти.
– Мне бы пришлось снять сан.
– Правда? Но ведь никто бы не узнал.
– Да, можно и так. Полно таких попов. Грешат, каются, нормально живут и служат. Некоторые делают это с мальчиками, своими послушниками, в алтаре, не ходя далеко… Для кого-то это даже карьера. Но все это – гадко. Зачем тогда избирать это поприще?
– Я всегда думала, что священники – особенные люди.
– Да нет, такие же, как все.
– Но на вас же лежит благодать, разве нет?
– Ну да, с мистической точки зрения благодати моей, может, ничего не делается. Она сама по себе, а я сам по себе. Я лишь некий инструмент, транслятор. Но все же и инструмент должен быть чистым. Не то все, что я передаю, будет искажено. Это и так уже искажено до невозможности, – вздохнул он.
– Все же – для вас, для тебя… это самое главное... – подвела она итог.
– Что?
– Служение.
– Ну, а что же еще? Мирская жизнь, любовь, ты это хочешь сказать?
– Может быть.
– Бывают моменты слабости, когда я думаю об этом. А что я умею? Да, у меня есть образование, но я плохо представляю, как бы я мог его теперь применить? Да и понравлюсь ли я кому-нибудь в светском виде? – неожиданно усмехнулся он. – Это я как поп интересен…
– Да нет, почему?..
– И, главное, мог бы я потом обрести мир с собой? Зачем тогда все это было? Неужели я заблуждался?
– Может быть, лучше вовремя это понять? Помнишь отца Сергия?
– Какая ты, однако, искусительница! – воскликнул он. – Во-первых, я уже упустил момент, когда можно было что-то менять. А, во-вторых, – это не заблуждение! У меня все это было, и мирская жизнь, и любовь, будет тебе известно. Это очень сладкие и не очень надежные вещи.
– А ты бы хотел только надежных вещей?
Он промолчал.
– Ну, может быть, и твой путь – не очень надежен?
– Конечно. У нас куча искушений, даже больше, чем у других, и многие уступают им. Тут легко ошибиться, выбрав этот путь, взять ношу не по плечу. Кажется, что если ты любишь Бога – все так просто и ясно. Отнюдь. Жизнь-то мы тоже любим.
Он вздохнул. Он был теперь совершенно как простой смертный. Такой же, как все люди. Если бы она поняла это вчера ночью – все могло бы выйти иначе…
– Когда-то казалось, что дружба с миром – это вражда против Бога, – опять заговорил он. – Поэтому надо уйти в монастырь, спрятать себя от искушений, ждать скорого избавления. А оно не приходит, жизнь продолжается. И начинаешь жалеть, что так многого себя лишил, что ненавидел мир просто потому, что мало знал его, боялся, не мог вынести каких-то его сложностей. И если бы ты был тогда таким, как теперь – и монастырь не понадобился бы. Вот и с женщинами тоже. Я презирал женщин и боялся их. А вот ты, женщина, пощадила меня. Некоторые обрадовались бы моему падению, возгордились бы даже – роман с монахом, куда как славно! Я оказался недостаточно сильным. Это мне урок. Обидно, всю жизнь мечтать быть, как звезда, и вдруг оказаться падшей звездой. Хотя, это, может быть, гордыня, и надо согрешить, упасть, чтобы потом лучше понимать падших, а не осуждать их. Как ты считаешь?
Она молчала. "Исповедь" этого человека, такого строгого и такого слабого, была ей в тягость. Опять все получалось черте как, и она нашла соблазн там, где надеялась найти покой.
– Знаешь, не вини меня очень сильно. Я горячо молился накануне, чтобы побороть искушение. А потом решил, что пусть Господь сам решит, как мне лучше. Даст упасть – значит, пусть так и будет. Я понадеялся на Его волю, хотя здесь было много лицемерия.
– Прости, что послужила таким искушением. Честное слово, я не нарочно, – улыбнулась Матильда.
– Помнишь, у Достоевского Тихон говорит, что за неверие Бог простит, если человек чтит Духа Святого, не зная его? Ты тоже говорила про неверие. Если он за неверие простит, неужели не простит за прелюбодеяние? Или даже за помысел его?
– Наверное, простит, – с легкостью согласилась Матильда.
– Ладно, – сказал он, – это тебя, конечно, не касается. То есть, я не должен погружать тебя в свои проблемы, – поправился он. – Еще раз – спасибо!
– Не благодари. Ты прав, женщины – довольно нестойкие существа. Подчас еще лживые и коварные. Это во мне, может быть, атавистическое почтение к сану сказалось. Мои предки тоже были священниками.
– Ну, значит, мне повезло… – Он достал из пачки сигарету и нервно закурил. – Кто его знает, может, я даже хотел упасть, чтобы иметь право отказаться от сана, стать как все и жениться на тебе… – он натужно засмеялся. – Только тебя заранее не спросил. Что бы ты ответила?
– Мне даже думать о таких вещах грешно.
– Вот ты как! Но, все-таки кое-чего я добился, – продолжил он в неожиданной игривой манере. – Вот ты у меня на кухне, готовишь еду. Будто… – Он оборвал себя.
– Что? Я порождаю новый соблазн?
– Нет. Просто… нам больше не надо встречаться.
– Почему?
– Не понимаешь? – сказал он почти грубо. – Мне это будет слишком тяжело!
– Это воспоминание?
– Не исключено, что воспоминание-то будет очень сладким, непозволительно сладким. Нет, видеть тебя мне будет слишком тяжело. Слишком я тебя… полюбил. Прости…
– Мне тоже будет тяжело. И тяжело прощаться с… вами. Ну, что ж, благословите меня, что ли, на прощание.
– Лучше – ты меня, – ответил о. Михаил и улыбнулся.
XIII. РИЧАРД
Он удивился, увидев ее одну. Он только что встал и встретил ее в роскошном бархатном халате и с электрической зубной щеткой во рту.
Ричард был американцем в третьем поколении, то есть стопроцентным, потомком эмигрантов из Европы. В его семье учили французский язык и ценили европейскую культуру, сам он в юном возрасте подцепил заразу нонконформизма, поэтому стал философом. Как положено для Калифорнии, откуда был родом, носил умеренно длинные волосы. Он даже был "профессором", то есть одно время преподавал в маленьком американском университете. Несколько лет назад он купил небольшой магазин и ушел в бизнес. Впрочем, делами он занимался мало, больше разными культурными проектами между двумя странами, на которых он надеялся заработать. Говорил он по-русски очень плохо, с сильным американским акцентом, читать не мог совсем, во всяком случае, сперва, когда только стал ездить в едва открывшуюся страну. У своих американских друзей он считался "русским" – за непонятный интерес к этому большому равнинному Непалу, да и сам себя в некоторые моменты едва ли таковым не считал, хотя мерзостью чистоты и порядка – был невыносимо иностранен.
Они познакомились на Арбате в 88-ом. Как все американцы, он был рационален и спокойно-эгоистичен. Он всегда был щедр к ним, но как-то по-барски. Он, например, привык ходить в рестораны, на которые у них не было денег. Поэтому всегда платил он. "Когда-то я жил в Америке", – смеялся он, намекая, как много времени он проводит в России. Снял себе квартиру на Рязанском проспекте, завел последовательно несколько возлюбленных, надеясь найти среди них настоящую жену-мечту. Для американца это было раз плюнуть, такие нищета и отчаянность царили в стране. Но и рассчитывать на что-то стоящее мог только такой наивный и непонимающий этой страны человек, как Ричард. Но он не унывал, вновь и вновь убеждаясь, что его хотели использовать лишь как трамплин для перепрыгивания на Запад. И Матильда вновь и вновь пыталась объяснить ему, в чем его ошибка. Ей приходилось излагать на его языке тайны русского духа, пускаться в сложные обобщения, которые и на родном-то не просто выразить, растолковывая психологию русской женщины и прочие вещи, совершенно непонятные американцу, даже с философским дипломом. Собственно, вся его любовь к России была чисто матримониальная. Ибо процесс эмансипации на Западе зашел так далеко, что такому эстету и капризному эгоисту, как Ричард, там больше не виделось ничего женского.
"Америка, – пожимал он плечами, – это история луны, которая никогда не взошла", – цитировал он ("America is the story of the moon that never rose", Scott Fitzgerald). Это их с Дятлом удивляло, и они спорили с ним, напоминая про битников, 67-ой, Doors и Джоплин… Он посмеивался, ему было приятно это слышать. Видимо, и у американцев бывают кризисы самоидентификации. "Что вы удивляетесь, вы же тоже не цените свою страну…" – напоминал он.
И вот она поняла, что ей надо бежать отсюда, ее надо куда-то увезти. Все, что она делала последнее время в очерченном для нее мире, – было разрушение. Смерть, вышедшая из тела Брахмы…
Почему так получилось? Потому, что она убежала из-под покрова благожелательных богов? Исказила путь, уготовленный ей ее кармой? Как слепой метеор, она металась по вселенной, не в силах понять собственного назначения. Мир трещал от ее танца, и не было Шивы, готового лечь ей под ноги и спасти этот мир.
…Они пили до ночи на полу в роскошной пустой квартире Ричарда, наполненной дорогими безделушками и запахом благовоний, как в индийском храме. Все было не так, как она привыкла. А она привыкла к бедности, граничащей с нищетой. Русское жилье – было берлогой, немного грязненькой, чисто функциональной. Американское жилье говорило о сибаритстве, о том, что хозяин занят в нем чем угодно, только не трудом. Она казалась себе мокрой дворнягой, приведенной в богатый особняк с улицы. И поэтому была горда и надменна. И еще ярче блистала умом.
Не надо было быть метеорологом, чтобы понять, чего хочет Ричард. Но в своей буржуазной порядочности он не смел соблазнять ее: она же была жена Дятла, его друга (о разрыве она умалчивала, хоть и намекала, добавляя интригу). К тому же в очередной раз сам находился в романе с очередной местной дурочкой. И он не мог напиться как русский, чтобы послать все условности к черту! А вот она напилась. И осталась ночевать. Впрочем, на отдельном ложе.
Он был польщен самим фактом. И превзошел сам себя. В этом нищем городе у него уже были свои любимые места и рестораны – и они за два дня обошли все.
В полыхающем алыми красками китайском ресторане "Золотой лотос" около Международного торгового центра Ричард жаловался ей, что несколько пресытился российским климатом и собирается возвращаться в Америку. Россия была для него полигоном его великодушия и богатства. Здесь он был человеком высшего сорта, первым парнем на деревне. Но рано или поздно всякий иностранец устает от жизни здесь, как от исследований в полевых условиях.
Он признался, что всегда любил ее и искал в России девушку, похожую на нее. Он почему-то думал, что таких здесь много, но ошибся. Он понимает, что ей трудно полюбить такого дурака-иностранца, как он, но он сделает все, чтобы она была счастлива, если она согласится уехать с ним в Америку.
Она удивилась месту, которое он выбрал для признаний. Наверное, сказался какой-то их заморский стандарт: говорить важные вещи за едой в приличной обстановке, при свидетелях. Мол, мои намерения честны, я ни от кого ничего не скрываю. Или – попросту мне на все насрать, и ресторан – такое же нормальное и обычное место, как у вас – кухня. Поэтому американские громилы в голливудских фильмах у всех на виду, жуя хот-дог, обсуждают, как они грохнут вот этот банк через дорогу. Молодая, глупая, но в чем-то и чистая нация.
Она обещала подумать и честно думала несколько дней. Он звонил ей каждый вечер.
– Хорошо, – сказала она. – Я поеду с тобой – в твою Америку… Но при двух условиях. Первое: ты не будешь меня заставлять спать с тобой. Потому что я честно скажу, что пока еще не люблю тебя. И не знаю, полюблю ли. Я не хочу обманывать тебя. И я не знаю, смогу ли жить в Америке. А если не смогу – что мы будем делать? И еще: в случае, если все сложится, ты усыновишь Гора. Как ты понимаешь, без него я с тобой жить там не буду.
Итак: она поживет в Америке и посмотрит. От этого будут зависеть и ее дальнейшие отношения с Ричардом. Она хотела бы даже жить отдельно, работать – если это возможно, чтоб не сидеть на его шее…
– Ну, как ты – согласен? – спросила она – и ей самой стало смешно. Надо было быть мазохистом или полным идиотом, чтобы принять такой договор.
Ну, да, он не ожидал такого предложения. И сказал, что им не обязательно сразу жениться. Он может сделать ей приглашение, она поживет месяц или больше и решит. Он подозревает, что могут возникнуть проблемы с визой, но он постарается их решить. Он как-то ушел от ответа, сведя все – непонятно к чему?
– Ты хочешь в Америку? – спросила она сына. – Ты же всегда хотел! – напомнила она, заметив, что Гор молчит.
О, Америка, Америка! – мечта всей юности, "страна, где я не буду никогда…", недостижимая как Белозеро.
– У нас будет свой дом, машина, компьютер, много-много чего. Америка – богатая страна. Там теплый климат. Будем ездить в Диснейленд. В открытом кабриолете через всю Америку, как в фильме "Hair", помнишь?
Нет ответа. Не так просто его купить. Она по-прежнему любила Гора ни с чем не смешиваемой монопольной любовью. Их союз был важен для нее: в конце концов, у нее не было никого ближе. Наличие сына стимулировало как можно дольше держаться на уровне и оставаться авторитетом, то есть иметь право руководить. Ну, и где же?
– Не надо будет потом идти в армию. Получишь хорошее образование, найдешь хорошо оплачиваемую работу. Все будут тебе завидовать… – Совсем уже не знала, что сказать и несла околесицу, сама понимала это, но голова была пуста. Она чувствовала, что предает сына.
– Но надо, чтобы ты чуть-чуть теплее относился к Ричарду. Ты хочешь, чтобы Ричард был твоим отцом… или отчимом?
Гор пожал плечами. Чем больше его уговаривали, тем сильнее он хотел сказать свое священное "нет".
– Ты ни разу не сказал ему ни слова. Почему? Он обижается…
Им манипулировали, он был достаточно взросл, чтобы понимать это. Ричарду чужие дети были нужны, как снег зимой. Как и большинству людей. Ему нужна была Матильда – и ради этого он был готов подвинуться. Врать сыну про любовь? Ее к Ричарду, ради которой надо пожертвовать Гором, или, что совсем смешно, любовь предполагаемого отчима к пасынку?..
– Мне надо съездить туда и посмотреть. На пару-тройку месяцев. Сможем ли мы там жить? Ты согласен пожить без меня с бабушкой? Подумай – это же Америка!
А согласна ли она прожить столько без него? Ее прабабка, умершая десять лет назад, потеряв в Гражданскую мужа, никогда больше не вышла замуж. Бабка Дятла, потеряв мужа в Отечественную – то же самое. Такая вот верность, такие представления об интересах детей. Матильде это казалось вздором: времена рудиментарных верностей прошли. Никто не должен портить никому жизнь, и никто не должен жертвовать своей жизнью ради другого. Все жизни равны. И твоя – не хуже других.
И она уехала. Отъезд – простейшая форма смерти. Человек есть, но его в твоем физическом мире все равно нет. Ни увидеть его ты не можешь, ни услышать. Уехала, умерла, будто схитрила, ушла от погони.
Сперва Дятел испытал легкость. Кончилось это многолетнее наваждение. Сыны свободны. Он шел по Москве, и Москва была для него как полный кувшин парного молока.
Но эйфория проходит. Он должен был переживать этот мир в одиночку, страшный, негостеприимный мир. Он вспомнил фразу Уолта Уитмена, прочитанную бог весть когда на вкладыше из коробки с конфетами: “We were together, I have forgotten the rest”. И понял, что это together было самым важным в его жизни. Он стал писать ей «письма к Лесбии» (как он их называл), одно другого страстнее и мучительнее. И она ему отвечала, и каждый ее ответ был маленьким рассказом. Но не ответом.
XIV. АМЕРИСА
Она улетала в Америку в тревоге, больше похожей на панику. У нее не было предшественников – из круга ее друзей. Да, собственно, ее мало интересовал их опыт. Страшно было разочароваться в мечте. Слишком долго их всех обрабатывали на предмет “контрастов” тамошней жизни, чтобы не ощущать это на уровне подсознания. На уровне же сознания... Все-таки они были не такие, как она и ее друзья. Которые сами были не такие. Они совсем зажрались, они улетели на сто пятьдесят лет в будущее. При этом Матильда не чувствовала, что душевно они лучше или тоньше, или глубже. Было немного странно, что отсутствие революции и многолетней тирании вкупе с немыслимым прогрессом принесло им так мало. То есть, самого ценного, что было для нее в Америке, она уже не надеялась в ней найти. Скорее, экскурсию по местам боевой славы. Америка была для нее мифом, как Египет для раскольников, понятие скорее духовное, нежели географическое. Хотелось своими ногами пройтись по “святой земле” контркультуры и нонконформизма, откуда пошло едва ли не все самое важное для ее поколения. Причем не только с 67-го года или битников вели они свой отсчет, но, несомненно, с “Уолдена” Торо. Многие и язык учили, чтобы понять все это.
Америка казалась честным, сильным, свежим миром, полным интеллектуального духа и недавно открытой истины. Новый мир, куда уезжают все, кто затух в Старом. Мистическая цель Свидригайлова... Где каменная женщина обещает: придите все несчастные и убогие – я утешу вас.
Экстатический дух толкал ее любить Америку, Америку свободы, новой музыки, новой практики, нового юродства. Где мало старых догм, старой рефлексии, страну, где не рассуждают, а роются в многозначительности вновь открываемых смыслов.
Если здесь появилось все это – это страна чего-нибудь да стоила.
Вот как она много знала об этой стране – и все это не было опытом...
Поэтому было досадно показаться себе очумелой провинциалкой, просто деревенщиной, ждущей от Америки неизвестно чего, Гекльберри Финном, не нашедшим здесь родного грязного пятна, и что ее знакомство с Америкой будет запоздалым и горьким.
Сверкающее ожерелье жемчуга “под крылом самолета” в ночном море – не то Париж, не то Лондон. Все одиннадцать что ли часов полета она просидела в кресле, читая книжку и встречая рассвет в воздухе над морем, пока весь самолет мирно спал и сопел носами, будто нет ничего более естественного для человека, как лететь над землей на высоте десять километров. Ко всем странностям – рассветом, который она встречала, добавилось вчерашнее солнце, уже севшее в Москве, которое она вновь догнала.
Перелет был ужасный, почти невозможный. И этот пресловутый jet-leg, описанный у Аксенова. Пересадки в Нью-Йорке она не помнила, словно ее и не было вовсе, – так она нервничала, что заблудится, не найдет самолет, опоздает... Хуже всего, что она летела одна (а она боялась самолетов) – и еще так далеко. Никогда еще она не отправлялась так далеко. Это было как путешествие на тот свет, и она надеялась, что тот свет того стоит.
И это еще надо было считать за счастье, потому что Америка вдруг стала совершенно недоступной страной для людей из России, словно она боялась каждого из них по одиночке, как раньше она боялась всей страны сразу.
В аэропорту Сан-Франциско ее поразили грубые таможенники и толпы настоящих "латинос". Приятель Ричарда Пол, встречавший ее в аэропорту, добродушный верзила в мятой майке, сразу узнал ее, хоть никогда не видел, улыбнулся – и невозмутимо посадил в свою длинную раздолбанную машину, какой-то автомобильный археоптерикс фиолетового цвета. Мелькали гаражи, стоянки, в них врезались плотные ряды невысокой застройки, рекламы – и машины, машины. Ничего особенно красивого и величественного. Матильда ужасно устала и как-то отупела... Пол о чем-то весело тарабарил с ней, кажется, извинялся и объяснял, почему заменяет Ричарда, и она плохо понимала его, настолько его язык отличался от того, которому их учили в Университете.
И вдруг над деревьями блеснули опоры моста “Золотые Ворота”! Честно сказать, она даже забыла, что он находится здесь, этот великолепный мост, заплатив за проезд по которому, словно за въезд в чужое государство, они оказались на другой стороне бухты. Отсюда было приятно смотреть на сверкающий в вечерней мгле Сан-Франциско, разноликий гигантский коралл, огромную кучу человеческого благополучия, каким он отсюда казался. И его подсвеченные прожекторами небоскребы – такой маленький Нью-Йорк, мерцающий над водой залива, двоясь и умножаясь, огромный слоеный торт с рядами горящих этажей, видимый отчетливо, но как-то нереально, словно она, как обычно, смотрит кино...
Тут имело место внезапное (почти шоковое) осознание, что все это на самом деле, не кино и, скорее всего, не трип. После чего она понемногу стала допускать, что ее не обманули, и она действительно находится “в Америке”. И теперь ее трясло, словно она попала в знаменитое калифорнийское землетрясение.
Удовлетворенный ее реакцией, Пол помчал ее по ночному шоссе, разделительная полоса которого сверкала светоотражателями в свете фар.
Впрочем, отъехав от города всего ничего, Пол предложил зайти в придорожное кафе, чудесно выросшее на трассе, и она согласилась, как кукла. Мысли о еде могли бы прийти ей в голову самыми последними. Здесь оказался “шведский стол”, или “салат-бар”, вещь для нее еще малознакомая. Она с трепетом села, нашла в меню странное блюдо "пирожок", оставшееся, видимо, от времен, когда Россия была номером один в головах увлеченных ею американцев. Выпила вина, которое заказал Пол, – за ее приезд! Пол просто захотел поесть – не воспринимая свою миссию слишком всерьез. Или ему было любопытно пообщаться с симпатичной женщиной оттуда. Впрочем, он не был Тристаном, а она Изольдой, хотя что-то похожее с нею теперь происходило. Пол, не торопясь, ел и все хотел развеселить ее, показать, как хорошо она сделала, что приехала сюда, как хорошо ей теперь будет – после страшной России, что показывают по ящику над барной стойкой. А по ящику как раз показывали марширующих под красными флагами пенсионеров, уродливых и яростных. Посетители только качали головами, делясь неясными комментариями.
И снова мягкое южное шоссе, уносящее в даль неизвестной страны, где скрыто для нее ее будущее.
Глубокой ночью они свернули с шоссе и поехали в горы по ужаснейшей узкой дороге, качество которой можно было легко сравнить с любой российской. Из ямы они падали в яму, причем Пол немилосердно крутил рулем, пытаясь избежать самых глубоких.
Там, на горе, совершенным анахоретом и жил Ричард.
Матильда осматривала дом. Первый настоящий американский дом: единое трехэтажное пространство, пронизанное светом (настоящий свет она, впрочем, увидела только утром). Он был и вправду необычен. Ричард любил натуральное дерево, мягкую кожу, шкуры, плетеную мебель. Вообще любил естественные и антикварные по виду вещи, в отличной, однако, сохранности. У него было чисто, опрятно, все лежало на местах, как в музее: ни недочитанных книг, ни невымытых чашек или еще чего-нибудь, что выдавало бы живое присутствие человека. На белых стенах без обоев висели картиночки в аккуратных рамочках, мебель тщательно подобрана, без этого русского разностилья и случайно образовавшихся ценностей с рухлядью вперемешку. Для вящего уюта – шкуры на полу и креслах, в воздухе – тот же дух индийских благовоний, как и в Москве. Он нажал кнопку – и буквально из всех углов полилась музыка. Что-то такое ненавязчивое, бесхребетное, приятное в дороге.
Из жильцов дома имелся лишь кастрированный кот Царь, толстяк и ленивец, который “очень любит сухой пища” (так по-русски выражался его (а теперь и ее) хозяин), всяких игрушечных рыбок из какого-то биологического дерьма.
Ее просто тряхнуло от страха. Если бы она была здесь с Антоном – ей было бы легче, призналась она себе. Но теперь она все делает по жизни одна, – и хватит ли ей мужества – она не знала. Даже слово это не женское. И тем не менее – выбора у нее нет.
Ричард затопил маленькую стильную буржуйку в центре гостиной и предложил ей и Тристану-Полу, вольготно развалившемуся в кресле с чувством выполненного долга, отметить встречу. Вино, немного сыра. И это весь пир в честь приезда?! Так ли они с Дятлом встречали его когда-то – в нищей Москве? Что это: скупость, дань традиции или намеренный жест: привыкай, герла – тут вам не там? Или он просто знал, что ее уже как бы кормили по дороге?
Всю ночь, голодная, она мерзла, одна в своей огромной комнате на первом этаже, – подставив вплотную к кровати мощный электрообогреватель. Еще бы: одна стена была целиком стеклянная. Проем для сохранения тепла завесила пледом, потому что дверей в доме Ричарда принципиально не было (идеалы молодости предписывали ненавидеть двери).
Утром, приняв практически холодный душ, нервная и невыспавшаяся, она вздумала было приготовить завтрак. Ричард, только что кончивший занятие хатха-йогой в своей комнате, довольно грубо запретил ей: завтракать они будут в ближайшем "домашнем" ресторане. Да и в холодильнике все равно было пусто, как, вероятно, и в большинстве американских холодильников. Она нашла лишь зачерствелый кусок вчерашнего сыра и недопитую накануне бутылку вина. Вообще, тут все другое – и не надо тащить на себе этот тяжелый убогий мешок со старым российским варварством (сказано это было, конечно, в иных выражениях).
После ресторана Ричард в более благостной манере спросил: куда она хочет, чтобы они поехали? Что она хочет увидеть? Странный вопрос: все!
Ее сразу поразил пряный запах ресторанов, окутывающий даже маленькие улицы, чистота и ухоженность залитого южным светом городка, цветы на газонах, подстриженная травка. Стеклянные двери даже в частных домах, словно они ничего не боятся. Доброжелательные лица, ощущение покоя, надежности. Вот как должны жить люди! Легко! Почему в ее родной стране никогда такого не было? И будет ли когда-нибудь?
Это место всегда любили волосатые. Их она тоже увидела почти сразу. Они ничем не отличались от российских. Тот же типаж лица, те же феньки, клоуза... Видела она и нищих: колоритных оборванных людей в каких-то скафандрах из тряпья, в которых можно спать, не выбирая места, в любом месте. За собой они тащили тележки со своим скарбом, как улитки свой дом. Никто на этих блестящих улицах не обращал на них внимания. Это тоже была свобода.
Однако завтракать, обедать, а иногда и ужинать на людях (дома признавался только чай с печеньем) – к этому тоже надо было привыкнуть. А еще к тому, что в доме было, на ее взгляд, слишком холодно, слишком чисто. Плюс надо экономить воду, потому что в Калифорнии с ней проблемы. Ричард объяснял это спокойно, как само собой разумеющееся, словно нанятой горничной.
Магазин Ричарда имел специфическую внешность, переняв нравы хозяина: с потолка свисали колдеровские мобили, на стенах – постеры «Битлз», «Velvet Underground» и фотографии анархистского содержания, продавцы – ненадежного вида молодые бойцы в майках, пребывающие с Ричардом в приятельских отношениях, впрочем, любезные и достаточно профессиональные в операциях стучания пальцем по клавишам кассового аппарата. Деньги они считали, как она позже убедилась, не очень хорошо. Зато ловко забирали покупочку и тут же упаковывали в бумажный мешок и любезно улыбались, уговаривая приходить еще. Никто за ней не следил, смотрели на нее, будто она пришла к ним в гости, и они собирались предложить кофе. В служебном кабинете Ричарда ей и впрямь предложили не кофе, но пива. По залу разносились известные роковые хиты. Все это было по-домашнему, неформально и как-то не походило на внушенный ей образ “капитализма”, да и образ “магазина” тоже.
То же и с небоскребами. Небоскребы – это совсем не характерно для Америки. Америка – одноэтажна, как и сказали классики. Американцы, как и их предки, предпочитали жить в собственных домах с садиками. Садики были полны цветов и американских флагов. Все очень красиво, ухожено, чисто и словно ненастоящее: декорация из фильмов про красивую буржуазную жизнь. Особенно резанул городок Кармел под Капитолой, куда Ричард повез ее через два дня.
В Кармеле на три тысячи жителей оказалось пятьдесят художественных галерей. Отнюдь не Гугенхейм – маленькие, иногда крошечные залы, едва ли не из одной комнаты и одного-двух человек персонала, железно выходивших к ним с разъяснениями. Галереи шли она за другой, иногда целая улица из одних галерей с обеих сторон. Одна специализировалась на морских пейзажах, другая на классике, третья на китайцах, четвертая на абстракционистах и т.д.
Когда-то Кармел был лагерем неформальных художников, рассказывал ей Ричард, куда они приезжали со всех штатов писать и тусоваться. Теперь это наибуржуазнейшее место, и чтобы снять здесь мастерскую, надо уже быть мировой знаменитостью. По городу, от которого, как от сада роз, било благополучием, едой и духами, ходили ленивые богатые люди, заглядывали в галереи, наслаждались искусством, перекусывали в ресторанах и ехали дальше на своих больших американских автомобилях.
Кроме них ничего кричаще “американского” здесь не было: лишь хорошая архитектура и цветы. После побережья Big Sur и Кармела она начала понимать, как выглядит обещанный им в предвечные времена санаторий для инвалидов, побитых и покалеченных в неравной войне с родиной – и кому страшно хотелось покоя. А тут покой был какой-то стопроцентный, даже зашкаливало. Она пила его как таблетки от простуды.
Погода была очень неровная. Утром пасмурно и холодно, днем – почти тропическая жара, вдохновляющая влезть в соленный, ледяной, бурлящий океан, вечером же все покрывала какая-то мгла и туман, и начинался дождь, который продолжался весь следующий день.
Американцы оказались довольно крепким народом: не то от постоянно употребляемой пиццы, не то от нерастрепанных нервов, не то от унаследованной доброй крови предков-первопроходцев – вечером под пронзительным ветром соседи Ричарда бегали по дорожкам в t-shot’ах и домашних шлепанцах на босу ногу или просто босиком. Они жили в домах без отопления, редко пили чай и кофе, а все больше прохладительные напитки, как будто и без того не холодно.
Дом Ричарда был похож на его магазин: стильные фотографии в красивых рамках на стенах, его собственные и Ман Рея, гравюры, индийские и индейские божки и перья, масонский фартук и всякие хитрые эзотерические эмблемы. Куча сомнительных и стран¬ных предметов в неожиданных местах, даже в сортире. Иногда это казалось стихийным кичем, иногда инсталляцией. Сквозь весь стеклянный объем дома из четырех квадродинамиков днем и ночью разносилась медитативная музыка, так что Матильда казалась себе рыбкой в аквариуме. За многочисленными окнами был хорошо различим сад с мелкими абсурдными скульптурками, словно человек что-то пародирует или театрализует все принадлежащее ему пространство, лишая его банальной естественности.
У Ричарда была неплохая библиотека, довольно разношерстная и специфическая. Знаменитые романы, книги по психологии и философии, оккультизму, про уродов и тайны Голливуда. Матильда нашла у него отличную книгу про египетскую символику и десятикилограммовый волюм про современное искусство. Эта нация, кажется, написала обо всем на свете, и пока в России упражнялись в идеологической схоластике, они про все узнали, все запротоколировали, даже ее родные obscene (неприличные) жесты и выражения.
Но какой же это жалкий народ (поняла она): в университетском словаре “рус¬ского мата” нескольким страницам выражений со словом “х-й” (ну там “с прибором”, “на колесиках”, “в рот”, "в жопу" и просто “положу”) – соответствовал лишь беспомощный эквивалент fuck you!
Ричард свозил ее во Фриско и Монтерей, где некогда прошел знаменитый рок-фестиваль, теперь же город был славен огромным аквариумом… Она мечтала проехать Америку на машине или стопом, как битник, с Запада на Восток... Но осторожный Ричард отказался. У нее не было медицинской страховки. С ней в Америке ничего не должно было случиться – чтобы не создавать ему неприятностей. Это он говорил достаточно откровенно.
А потом у него началась/продолжилась работа, и он стал надолго ее оставлять. Она чувствовала себя, как домашнее животное. Ей расчесали шерстку, хорошо покормили, погладили – и оставили одну дома. А что же с ней еще делать?
Работа? Зачем ей работать? Для этого ли она бежала из России? В университете, где Ричард когда-то учился и преподавал, для нее работы, якобы, не было.
– Если бы ты была чернокожей инвалидкой, больной спидом – тогда, конечно… – говорил он с издевкой. А воспользоваться диссидентской мазой – она уже опоздала. Он и так уже перенапрягся, вывозя ее сюда, получив все необходимые справки для американских эмиграционных властей.
Она ходила по окрестностям, жарким малолесным холмам – вызывая изумление у соседей, с которыми Ричард ее не знакомил, да и сам едва ли был знаком. Наверное, она казалась им сбежавшей откуда-то сумасшедшей. Ибо больше никого в этих местах она не встречала. Нет, неправда, однажды она видела пару всадников на белых лошадях. Это было красиво и как-то неправдоподобно, будто она угодила на съемки исторического фильма.
Тут и правда все было другое: "Метро" назывался большой магазин и ресторан в Сан-Франциско, а настоящего метро не было вовсе. Молом (Mall) оказался обширный супермаркет, в котором можно было провести целый день и, потеряв понравившийся тебе отдел, – никогда его больше не найти, в ресторанах можно было класть ноги на соседнее сиденье, словно в ковбойском салуне, и тебя еще спрашивали: «вам удобно?» Выборы же, словно в романе Кафки, проходили в гараже, над которым не было вывешено ни одного опознавательного знака, ни одного лозунга, ни одной призывной красной доски, ни одного флага, которые здесь вообще болтались повсюду, где не надо.
В Big Sur, увековеченный Генри Миллером, она попала с помощью автобуса, дождавшись его по-советски на автобусной станции в компании с местными пенсионерками и подростками панковского вида и поведения, которым еще не доверяли машины (и правильно делали).
На пляже к ней подошел человек:
– Что вы курите? — спросил он.
Матильда показала ему свою дукатовскую «Яву».
– Я думал, марихуана. Похожий запах. Можете дать мне одну?
Он закурил, надолго затянулся.
– Great! – сказал он и отошел.
Вода была холодная, бурная и грязная, редкие люди, как и она, просто сидели на белом песке. Поблизости юноши, даже почти дети – в черных гидрокостюмах, как водолазы, пытались серфинговать на досках.
Ей было тоскливо и одиноко. Почему-то все время холодно. Готовясь к тропикам, она не взяла ничего из теплых вещей и постоянно мерзла. Это было едва ли не главное чувство.
Вот оно: в Калифорнии на пляже, – сбылась дурацкая мечта. И что? Почему она не счастлива? Здесь нельзя быть одной. Как и в трипе, как и везде. А Ричард? Он просто одноместная одноразовая спасательная лодка, не достойный играть какой-нибудь другой роли. Все его русские подружки думали именно так. Бедняга…
Первые десять дней она напоминала себе ребенка, учащего язык взрослых. По меркам того места, откуда она приехала, ее английский был великолепен. В Америке все оказалось не так просто. И не потому, что эти жуткие американцы говорили на каком-то не том языке, какой она учила в Универе, скорее – с не с тем акцентом, отчего многие слова казались совершенно непонятными. Фразеология тоже была своеобразной. Но не критической: живой язык был много проще академического. Трудно было заставить себя делать дополнительное ментальное усилие – понимать, о чем говорят на улице. На родине мысль улавливалась из атмосферы вместе с потоком воздуха. Здесь надо было привыкать к новому уровню понимания, словно инвалид к своим протезам. Однако привыкание проходило быстро, как и у инвалида.
Другой непростой момент заключался в том, что, если Ричард не брал ее собой, отправляясь на машине в свой магазин, она даже не могла сходить в ближайший "продмаг" (за отсутствием такового) или пройтись по городу: дом Ричарда был довольно уединен, и никакого советского автобуса тут не ходило. Все ездили на машинах, на худой конец, на мотоциклах. А, попав в город, она должна была застрять там до вечера, до окончания его работы, когда он вез ее сперва в ресторан, а потом на гору.
И она, как прилежная ученица, ходила, смотрела. Тут было так много молодых людей, что казалось, что живешь в студенческом городке. Они были доброжелательны, улыбались и говорили при встрече "хай" и “бай” даже незнакомым людям (вроде нее). Автомобили неизменно уступали дорогу пешеходу, железно останавливались на знаке “stop”, так что отсутствие большого количества полиции и не переключающиеся светофоры (надо нажимать кнопку – она это не сразу поняла) не внушали опасения. Пили же на улице – лишь спрятав бутылку в непрозрачный бумажный пакет: из страха перед мифическими полицейскими или каким-нибудь доброхотом, готовым настучать на тебя порядка ради.
Они были very friendly, very open, very polite и очень естественны. Столько поколений они не знали рабства, что могли себе это позволить. Они легко знакомились на улицах и в кафе и умудрялись поговорить, сидя за рулем или за столиком заведения, с шофером остановившегося рядом автомобиля. Они были рады оказать друг другу услугу и импульсивно благодарили за оказанную им. Они были милы, шумны и щедры.
И непосредственны – иногда даже очень. Приличий не было никаких. Она со своей щепетильностью и чопорностью казалась себе гнилой аристократкой. В ресторане можно было даже возлечь, если тебе невмоготу и позволяет мебель. Зато надо было обязательно оставить чаевые. Сделать что-либо более неприличное, чем не оставить чаевых или высчитать их неправильно – трудно себе представить в Америке!
Она обошла все галереи, магазины, зашла даже в панковское кафе, единственное место в городе, где были мухи. Но здесь были и сами панки, а это посильнее мух. Если в каждом американском заведении при входе висел плакат: “Спа¬сибо, у нас не курят”, то здесь ее встретила приятная надпись: “Спасибо, здесь курят”. Их фирменный напиток назывался по-русски “чай”. Что за бурду они называли этим словом – описать было невозможно. Это была смесь всех жидких веществ, существующих на свете, слитых в один стакан грязно-желтого цвета. Когда Матильда отказалась это пить, бармен с полуметровым ирокезом на голове и в штанах с вырезанной задницей (и натурально без трусов) невозмутимо вылил его в общую бадью.
– Ой, – закричала Матильда, – я уже пила из него!
– Не страшно, – ответил бармен. – Take it easy.
На берегу солнце, пальмы, но не тепло. Старик шел в океан так упорно, словно собирался утопиться.
Ее первое погружение в Тихий океан больше напоминало причастие. Стабильно штормило, что радовало одних серфингистов, вода была холодная и грязная. И очень соленая – это она сразу ощутила. Это произошло в Capitola Village – замечательном курортном городе в сорока минутах езды от их дома. Но и летом вода была на любителя. Даже в Москве она купалась летом почем зря. Но там не растут пальмы и агавы.
Америка – довольно изолированный остров. Как и в России, тут было много своего, чего нет в Европе, откуда соотечественники в основном и черпали “заграничное”. Поэтому тут было полно своих марок машин, бытовой техники, приспособлений, неизвестных и не существующих нигде больше, а так же свои меры длины, веса, объема жидкости – и самое непостижимое: способ определять температуру за окном. Ей было непонятно, за счет чего богатеет Америка: ведь вывозить отсюда товары – слишком дорого. Она и не особенно вывозила. Жира уже было накоплено столько, что можно не суетиться.
Из "русского" влияния в Америке она обнаружили только водку "Столичная" за десять долларов и некий "татарский соус" – "Тартар", вещь исключительно вкусную, на родине не встречающуюся. Несмотря на это, все тут знали, что у русских хорошие танки и ракеты, поэтому Россия все еще была в почете.
Все американцы постоянно что-нибудь жевали или пили: перед домом, в машине, на велосипеде, на ходу или в ресторане. Чего здесь было больше всего – это банков, автомагазинов, заправок и ресторанов. Еще американцы вечно занимались спортом, видно, для того, чтобы истребить съеденное-выпитое: бегали, катались на велосипедах и скейтах, грешили серфингом и бейсболом. Может быть, поэтому между ними было мало действительно красивых людей. Красивые мужчины, как ни странно, встречались чаще, чем красивые женщины. У американок обнаружилось много красивых лиц, но мало хороших фигур, тонких стройных ног. Они были слишком спортивны, мальчишески расхлябаны в походке. Щиколотки и икры – толстые и сильные, накаченные теннисом и велосипедом. Кожа не ахти, жесты нервны. В них совсем не было грации и тонкости. Неряхи, одевались черте как, из-под небрежно спущенной с плеча майки торчала бретелька лифчика. Ей стало понятно, почему их мужиков тянет на тонких нежных русских девчонок. Или других мужиков.
Ричард не отставал от здоровых советов, что в ее детстве увековечил Высоцкий, и по утрам в своей комнате за занавеской делал какую-то “зарядку” по-йоговски, где было мало движений, но много поз сидя, вздохов и кряков. После зарядки он выходит бодрый, в элегантном черном блейзере, ничего не ел – и уезжал в магазин, намереваясь поесть по дороге.
Нельзя сказать, что Ричард держал ее как в замке Синей Бороды, хотя дом и правда напоминал какое-то горное убежище. В нем даже не было телевизора. Можно было поймать станцию по радио, но в этом еще надо было разобраться. Что творилось в мире – было ей абсолютно неизвестно. Являясь во многом порождением американской культуры, Ричард ее высокомерно презирал. Особенно главное ее дочернее предприятие – Голливуд. В кино, в которое они пару раз заглядывали, он шепотом объяснял ей, что будет дальше – и всегда угадывал. Все это кино состояло и штампов и кубиков фабричного изготовления, легко перемещаемых и заменяемых, как в конструкторе. Больше всего ей нравилось кино 50-х, черно-белое, наивно-правильное, искреннее и драматичное, напоминавшее советское кино 60-х, лучшее из снятого в той далекой стране, как когда-то убедил ее Щелкунчик.
Ричарду было приятно, что она не ловится на дешевые американские ценности, столь притягательные для всех провинциальных детей человеческих.
– Ну, да, ты же приехала из Москвы! – иронически вспоминал он.
Для Матильды же все вокруг нее было внове и пока казалось очень симпатичным.
Почти каждую неделю они ездили во Фриско, здешнюю "столицу". Длинные волосы у мужчин – это, кажется, была местная национальная черта. Труднее было встретить безволосого, чем волосатого, особенно в Калифорнии. Причем волосы не были связаны непосредственно с движением хиппи, хотя, несомненно, оно оказало огромное влияние. Бывшие хиппи владели магазинами, перенося пристрастия юности на названия и оформление своих предприятий. В Беркли, пригороде Сан-Франциско, на одной улице имелся книжный магазин “Сатори”, центр копирования “Кришна”, гостиница “Отель Калифорния” и магазин книг и восточных сувениров “Катманду”. Внутри звучала рок-музыка, висели плакаты и фотографии «Битлз», «Grateful Dead» энд со он. Тут много писали, сидя в кафе, с отсутствующим видом на лице. Как правило, для творчества выбирали шумные молодежные или какие-нибудь национальные рестораны, например, итальянские или мексиканские. Тяжело было быть простым человеком в Калифорнии двадцать лет спустя после революции на Хейт-Эшбери, который они, конечно, тоже посетили.
Жаль, что так поздно. Впрочем, тот дух еще не совсем отсюда испарился. Молодые и не очень волосатые художники мазали картинки прямо перед дверями своих маленьких психоделических магазинчиков – зазывая внутрь заграничных туристов, от нечего делать окучивающих эту диковинку мира.
Традиция изо всех сил демонстрировала, что она жива. И, может быть, в каком-то смысле так и было. Здесь то и дело встречались аксакалы с седыми патлами и "молодняк", вроде нее, преданная смена, явившаяся не то на стрелку, не то чтобы ощущать себя в месте, где именно ты “дома”, а все они – так себе. Это был гарлем волосатых, впрочем, уже немного декоративного вида.
Музыкальные магазины, фотоателье, магазины с хипповыми феньками и аксессуарами, нелепо раскрашенные яркими цветами, – с эзотерикой и стихами Моррисона, полные постеров и фото, запечатлевшими святое время и его героев, кафе в дей-гло росписи, неформальные приколы в качестве рекламы, пацифики на каждом углу... Ей хотелось понять: находится ли она в театре, или это все настоящее?
И все же, за всем радужным фасадом – это теперь была простая городская улица, эксплуатирующая по мере сил старую легенду. Подлинной энергии на ней не было, скорее, отдавало приличным музеем. Но она и такой, мумифицированной, была ей рада.
В другой раз они направились в центр, то есть в место, где стоят небоскребы. Небоскребы во Фриско стояли только в центре. В остальном он был вполне мелкоэтажен. Улицы большей частью шли сеткой, крест-накрест, как на Васильевском острове (зачем вспомнила?), так что заблудиться было не так уж легко. Вообще, в Америке все было сделано, чтобы все быстро понять, чтобы было просто, чтобы человек не напрягался. Иногда они перегибали палку.
После каменного мешка Фриско городская Галерея возвратила ее на землю. Она была пуста и бедновата на ее снобистский взгляд. Зато недалеко лежащий парк “Золотые ворота”, ухоженный и подстриженный, располагал к лени и едва ли не к счастью.
Это была не совсем ознакомительная поездка: так вообще у американцев не принято, чтобы уж вовсе не сделать заодно какого-нибудь полезного дела. В прошлый раз Ричард покупал какой-то удивительный антикварный фотоаппарат, в этот – хотел пристроить кое-что из художественных товаров, что обещала ему Москва, выдав на руки фото.
У них была замечательная поездка в Лос-Анджелес, – чтобы до конца и без остатка охватить все, что стало легендой. Ибо Ричард тоже когда-то хипповал и даже попал на Монтерейский фестиваль 70-го года и слышал живого Хендрикса, – короткостриженный (тогда еще) школьник из военного колледжа, куда его запихали родители. В тот раз он испытал первый трип под LSD, – вспоминал он со смехом, – так что от всего мероприятия остался лишь билет, который он хранил как реликвию.
– Совсем ничего не помнишь?! – в ужасе воскликнула Матильда.
– Нет, помню, только к фестивалю это почти не имело отношения!
Америка оказалась не только одноэтажна, но и мало индустриальна. Было вообще непонятно, за счет чего она существовала? За все их вояжи вдоль океана, как в сторону Фриско, так и в сторону Лос-Анжелеса, она видели лишь один завод, чистенький и не очень настоящий. Все же остальное время – обжитые или дикие пейзажи, зеленая трава, эвкалиптовые леса, частные домики, кемпинги, рестораны, белый песок побережья, корявые прибрежные пинии, бухты и море...
По трассе в Лос-Анжелес на берегу стоял занятный объект: стометровый бетонный корабль, который велел построить себе один американский миллионер, вообразив, что он сможет плавать. Он был совершенно подобен настоящему, только из камня. Забравшись по лесенке, они ходили по нему, уже местами развалившемуся, как по индустриальной Помпее. Ричард лишь крутил у виска: памятник американского безумия!
Когда она уставала от долгой езды в машине – у нее наступало странное размежевание тела и сознания. Сознание понимало, что она в Америке, в Калифорнии, о которой она грезила столько лет! Тело же видело только море и скалы вдоль дороги, и ему было наплевать, как это все называется: Калифорния, Крым или Подмосковье? Оно хотело побыстрее попасть домой и заползти в кровать.
Они слетали в Мексику на самолете, огромном "Боинге" с шестью креслами в один ряд и навязчиво любезными стюардессами. Мексика – это совсем другая Америка, и она ей не понравилась.
Как ни усердствовали местные таксисты, уже нагревшие их по дороге к гостинице, они равнодушно миновали их плотные заслоны и смело пошли вглубь мексиканской столицы. Ричард тут тоже никогда не был. Вообще был равнодушен к географии и, изучив какой-нибудь клочок земли, просто оседал на нем с наибольшим комфортом.
Солнце бессмысленно светило сквозь дымку, вокруг лежали лачуги простых мексиканцев, прямоугольные и плосковерхие, много камня, минимум зелени.
Они шли пешком по центру... Несмотря на пожертвования советских людей, Мексика то ли не пришла еще в себя после землетрясения, то ли была перманентно больна бедностью, грязью и ленью, как и Россия. Сами мексиканцы были неприятны и вороваты, и чем-то напоминали ей хитрых жителей Кавказа.
Неопрятная уличная торговля напомнила ей московскую... Шмотки, коробки из-под магнитофонов и они сами, все это вроде было – но как-то карикатурно, словно контрабандно, словно украдено и распродается здесь по дешевке и сомнительного качества. Она побоялась бы купить здесь даже банан, опасаясь подделки.
К индейским пирамидам она ехать отказалась – насмерть залегла в номере, опустив жалюзи, с мигренью и выпрыгивающим из груди сердцем.
– Однажды я так умру, – пробормотала она Ричарду, беспомощно метавшемуся рядом и в десятый раз призывающему вызвать врача. – Ничего. Пустяки… Лучше… сходи в аптеку.
Таиландский, китайский, итальянский, мексиканский, “типично американский” рестораны, любимый Ричардом “Домашний”, устроенный хозяевами в собственном доме и оттого, вероятно, напоминавший ей что-то родное, бесчисленные пиццерии и прочие – вот, что пришлось пережить ей в Америке в первый же месяц. Это было повсеместно, это было очень хорошо, это можно даже на дом, но ей казалось – дорого. Готовить самой было бы раз в пять дешевле, но до этого никто здесь не додумался. Ричард ни разу в жизни не чистил картошку (в магазинах она продавалась уже чищеная, но и это на редких любителей).
Что такое американская вечеринка, Матильда узнала лишь через три недели после приезда. Ричард, никогда не принимавший больше одного гостя за раз, неожиданно щедро устроил вечеринку в ее честь, пригласил к себе друзей, человек десять. Они пришли с полуфабрикатами: курицей, готовыми салатами, тортами. Посовали все это в микроволновку, открыли вино и стали болтать. Некоторые гости были плохо знакомы друг с другом, их наспех перезнакомили, и началась путаница. Подруги Ричарда все искали: где эта русская, на которую их позвали, бросали ей что-то полупонятное, как своей, и отходили. А потом восторгались матильдиным английским, хотя их и веселили некоторые слова и обороты из лексикона XIX века, позаимствованные ею из учебника Ахмановой.
К ее удивлению, почти все в Калифорнии оказались “русскими” – по месту рождения родителей, бабушек или дедушек (иммигрировавших, может быть, под видом тогда еще одесских евреев), так что красивая веселая Лайза (представившаяся как Лиза), выпив вина, начала громко кидать русские матюки, вогнав Матильду в краску. Они били по голове, словно в оркестре барабаны не в такт, совершенно не производя того эффекта, который хоть в какой-то степени был присущ им на родине. В остальном она была стопроцентная американка, то есть человек, которого надо познавать и познавать, чтобы понять, что он такое. Он движется легко и с улыбкой, он хорошо сориентирован, он в себе и во всем уверен. Он знает все кнопки этого мира и нажимает их поочередно и в такт, доставляя себе удовольствие. Ибо все, что для этого требуется, уже изобретено и находится где-то по соседству, в позе ожидания, готовое по первому зову... Так не живут. Было в этом что-то марсианское. Во всяком случае, для нее.
Она познакомилась с певицей Хэллен, высокой красивой блондинкой с завитыми мелким бесом волосами, и художницей Эрмой, невысокой, молчаливой, не очень красивой, но очень обаятельной герлой со слегка индейским лицом и длинными черными волосами. Вот как много оказалось достойных интересных девушек в ричардовом окружении. Чего же ему не хватало? Ну, да, у них были свои мэны, но, вероятно, не с рождения же.
Для нее было открытием, что тут тоже есть неурегулированные и даже, может быть, смешные для благополучных белых людей ситуации. Например, если она видела (еще издали) очень большой, очень дорогой автомобиль с самой громкой музыкой на всю улицу – в нем всегда ехал негр. Не способный купить себе новый большой дом, объяснял ей Ричард, он (негр) заявлял о себе доступным образом. И ехал с самоуверенным расслабленным видом, презрительно бросая взгляды на прохожих.
Но хуже всех здесь жили мексиканцы. На окраинах городов на много километров тянулись их поселки, сколоченные из разномасштабных кусков фанеры, как домик Чипполино, словно в пропагандистском кино на советском TV, напоминая ей худшие подмосковные дачные товарищества, где хоть есть клочок земли и зелень. Многие из жителей этих градостроительных джунглей нелегалы, комментировал Ричард в ухо, получают столько, сколько захочет хозяин, вопреки закону (не меньше пяти долларов за час любой работы).
Эти дачные джунгли они видели каждый раз по дороге на местный блошиный рынок, работавший по воскресеньям. За сущие центы здесь можно было купить интереснейшие вещи: индейскую одежду и украшения, музыкальные инструменты и подержанную бытовую технику, и вовсе что-то непонятное, зато занятное и бесполезное. А рядом уже гремел какой-то праздник с танцами и песнями, пивом и едой, как было принято здесь по воскресеньям. Всегда был какой-нибудь повод.
Красавица Хэллен пригласила Матильду к себе в гости. Она жила со своим френдом Говардом и подружкой в маленьком снимаемом доме. Подружка делала украшения из серебра, бирюзы и пластика. Они считали себя бедными. У Говорда даже машина была старая, доставшийся от отца необозримых размеров “додж”. Они немного покатались на нем по району. Тут можно было сидеть втроем впереди, вытянув ноги. Это и был типично американский автомобиль, под стать большой и богатой стране. Хозяевам лень было куда-то идти, и они заказали пиццу по телефону. Через пятнадцать минут в дверь позвонил мексиканский мальчик со здоровенной коробкой.
А потом ее пригласила Эрма, старая подруга Ричарда, а теперь подруга его приятеля Пола, жившая и правда бедно и безалаберно, почти так же, как ее друзья на родине. Все же она нашла здесь достойных людей, менее ожлобевших, чем Ричард. Эрма обитала в маленькой давно не ремонтировавшейся квартирке с двумя детьми от разных отцов. Зато и разговаривать с ней было интереснее всего. Ее карманы были всегда полны марихуаной, и каждые полчаса Эрма ловко скручивала очередной джойнт, а укуренная в дым Матильда протестующее махала руками.
Эти люди очень к ней привязались и стали ее главными американскими приятелями. Хэллен, стопроцентная хиппушка лучшего калифорнийского розлива, даже сделала для Матильды специальный авторский тур по Фриско. В машине она дала ей розовую промокашку с LSD от местного подпольного производителя, чтобы настроиться на правильную волну города, на которой постоянно была сама. Они заходили в самые жалкие дыры и в самые роскошные банки, и Хэллен начинала петь:
– В этих холлах хорошая акустика, – объяснила она.
Никто не выразил удивления, лишь два молодых человека в белых рубашках похвалили ее голос.
Хэллен завезла ее на сто пятый этаж самого высокого сан-францисского небоскреба, где, как в Останкинской башне, имелся ресторан, впрочем, не вращающийся. Но они сами метались между столиками, создавая вихревые движения в атмосфере, и глядели во все стороны на город. На панические взгляды Матильды, представившей, как это должно было поразить благовоспитанный персонал и, главное, толстых приличных посетителей, Хэллен отвечала: "Все o’key, прорвемся".
Прямо перед ними сверкал на солнце знаменитый сан-францисский небоскреб – вытянутая к небу трехсотметровая пирамидальная игла, математически правильный кристалл, четырехгранный штык, направленный в солнце. (Он, кстати, так и назывался: Transamerica Pyramid.)
Компания, с которой они встретились и в которую вписались, опаздывала на какой-то концерт, люди нервничали.
– Нормально, – сказала Хэллен спокойно и показала класс виртуозной езды по переполненным городским улицам – с головой, полной кислоты. Мгновениями Матильда всерьез думала, что Америка станет местом ее у(с)покоения. Почему они куда-то доехали – бог весть. И даже послушали всемирно известную, смутнознакомую Матильде группу (или, точнее, солиста группы Talking Heads, давно любимой Дятлом, – сколько бы он отдал за это!) – в такой дрожащей радужной эйфории.
А потом Хэллен пригласила их с Ричардом на свой концерт, проходивший в большом ресторане – и приуроченный к какому-то очередному празднику. Со своей группой она пела кантри. Пела, на взгляд Матильды, отлично, хоть пластинку пиши. Им подали традиционную в этом заведении "маргариту": коктейль из текилы с лимоном – в бокале с намазанным солью краем, так что надо было или предварительно слизать соль, или влить в себя одним глотком, – а потом все начали танцевать. Американцы здорово наквасились и разошлись. Они не понимали, что можно быть стесненным, куда-то спешить, от кого-то зависеть. Они делали то, что хотели, и не боялись быть наказанными за это: мы свободные люди в свободной стране – было написано на их незамутненных лбах. Поэтому совершенно незнакомые люди по очереди бесцеремонно выволакивали Матильду из-за стола и заставляли танцевать рок-н-ролл, который она танцевать не умела.
О, они прекрасно танцевали всё: рок-н-роллы и танго, и даже когда-то модную ламбаду, – чувствовалась большая практика. Причем за бортом этой оттяжной жизни – все они были приличные люди в строгих костюмах, аккуратно являвшиеся на службу и честно выполнявшие свои незамысловатые обязанности (ибо заставить американца переработать – дело малоперспективное). Но теперь, хватанув strong drinks, они вошли в раж, сели в машины и стали зазывать их с Ричардом с собой – в дом какого-то миллионера, также ей наспех представленного: купаться ночью в его бассейне и продолжать пить. Миллионер уже и сам был тут как тут, лично артикулировал приглашение: человек из России – о, это так странно! В чем там было купаться – не понятно, видно, ни в чем.
Так потом и оказалось, словно в фильме «Последний киносеанс». Ее это, впрочем, не смутило. Это же просто тело, ее тело, чего его бояться? Почему не дать ему быть тем, что оно есть: просто телом, таким же естественным, как и заключенная в нем душа?
Не смутили ее и легкие приставания незнакомых голых мужчин. Здесь, в углу огромного бассейна, Ричард, наконец, овладел ей, пьяной и доступной.
Матильда удивилась его бесстрашию. Догадывается ли он, какие опасности его теперь ждут?
Было приятно и необычно заниматься этим здесь. Она была просто женщиной, он – просто мужчиной, без имен, национальности, прошлого, ничем не связанные, ничего никому не должные. Две одинокие монады под черным звездным небом.
В конце лета они сделают десятидневный тур по Франции и Испании – с плутаниями и ночевками на случайных фермах, сдаваемых под гостиницы. Париж и Мадрид, Лувр и Прадо. Она чувствовала себя иностранной туристкой в квадрате – и пыталась все сразу понять, всю эту сакраментальную заграницу, так долго для нее недоступную. Но понимание ускользало. Просто все чистенько, богато, красиво, кажется, даже солнца тут больше. И снова: рестораны, рестораны… – не роскошь, а средство утоления аппетита. Ей хотелось все забыть, уверить себя, что она новый человек на новой земле. Лишь надо было расправиться со своим прошлым. Уезжая в Америку, надо съесть рагу из лотосов.
Мягко скользящие открытые кабриолеты с женщинами за рулем в платках-баб;шках, чтобы не трепались волосы. Сытая размеренная жизнь, без стрессов и катастроф. И все же иногда она выла в своей комнате и умоляла Бога забрать ее отсюда.
Было много свободного времени. Она предложила посидеть с детьми Эрмы – или Ирмы, как звала ее Матильда. Сидеть с чужими детьми не было ей в диковинку. Ирма уезжала на неделю на свою выставку в какую-то хрен знает американскую дыру, и у нее не было денег нанять няню. В доме грязь и бардак, столь дорогой ее сердцу. Тут же девчонка и мальчик, трех и пяти лет, идеальные дети, ничуть не обеспокоенные, что их оставляют на незнакомую русскую женщину. Больше недели она сидела с ними, развлекала, кормила, гуляла, вспоминая полузабытые навыки, на ночь приводя к Ричарду, повергая его едва ли не в нервный коллапс. Заодно учила русскому языку – такая веселая получилась история. В благодарность ее наградили картиной, которую она повесила в "свою" комнату.
Ричард удивлялся ей. Ее отзывчивость и нравилась и не нравилась ему, потому что так или иначе задевала и его. Он привык быть один, ни от кого не зависеть, ни у кого ничего не просить, но ничего и не давать. Впрочем, он легко одалживал своим друзьям деньги.
Из всех контркультурных увлечений у Ричарда осталось только любовь к восточной экзотике, йога и курение марихуаны. Ей надо было накуриться или напиться до одури, чтобы начать видеть вещи не такими, какие они есть. Они даже стали спать вместе – впрочем, весьма редко.
Под подушкой Ричард держал маленький револьвер. Совершенно законно – отстреливаться в случае нападения на его драгоценную жизнь. Что ж, излишки собственности в уединенном месте: за все надо платить. На московских улицах она с удовольствием ходила бы с автоматом, но в доме она чувствовала себя совершенно спокойно.
Ей было одиноко и холодно в этой жаркой стране. Она знала, что и здесь и там, в России, он пользовался услугами проституток. Но он был такой чистоплотный и осторожный, что не мог подцепить от них даже насморка.
Почему ему было мало американок? Они слишком эмансипированы, в них осталось мало женского, теплого, снисходительного, подчиненного. Материнского, наконец. К тому же русские, как он думал, были гораздо красивее. И все мечтали уехать на Запад, чтобы там, словно мексиканки или китаянки, считать своих мужей за благодетелей. И при этом – "белые", хорошо образованные. Чего лучше?
Сам-то он любил совсем по-другому. По-американски. Спокойно и независимо. Не отдавая свою душу. И не забирая чужую. Там, в России, любовь – словно два астероида врезаются друг в друга, и если не разобьются в клочья, то дальше летят вместе. Это была экспансия и битва со взаимной капитуляцией. А здесь – добровольное и свободное соперемещение, сопроживание, без особых жертв, без настоящей привязанности. Чтобы всегда можно было разойтись – и не надрывать сердце. Чтобы всегда мочь и дальше жить одному. Ибо все же личный покой и удобства значат больше всего на свете. И еще, пожалуй, дети. Лишь это делало американцев уязвимыми. Да и то не до конца. Наверное, это правильно. Лучше, чем самоубийственная любовь на родине. Невыносимая привязанность. Невозможность разрыва. Иногда даже материальная невозможность.
Он редко проявлял чувства. Только сексуальное желание. В этом был изобретателен и неистощим. Хороший знаток поз и всяких метод, граничащих, на ее пуританский взгляд, с извращением. Учил ее, словно мастер своего ученика, с совершенно серьезным лицом. Ей было и смешно и интересно. Скоро она сможет стать не только идеальной русской, но и идеальной шлюхой, владеющей всеми приемами Кама-сутры. Во всем остальном – спокоен и невозмутим, едва не холоден, как и положено бывшему профессору. Достоинство, самоуверенность, немного искусственная веселость, должная показывать, что все хорошо.
Для этого тоже требовалось мужество. Не настолько он слеп, чтобы не понимать, что ее чувство к нему – вовсе не любовь. Может быть, он даже изменяет ей на стороне – но ей плевать! Роман с Манигом выжег в ней всю любовь, даже потребность в ней. Матильда и думать об этом боялась – и жила, как евнух, как оскопивший себя в миг наивысшего восторга корибант. Поэтому – не все ли равно, кто рядом с тобой? Ему же лучше: она не искалечит его своей любовью!
Она изменится, она уже изменилась. Хорошо, что тут нет никого, кто знал ее прежде. Она дошла до этой утешительной мысли – и успокоилась.
Это искусство, оказывается, было совсем не ново и не трудно – жить с мужчиной без любви. Так она жила много лет. Ничего особенного. Вероятно, большинство людей так живет. Почему ей надо иначе? Днем каждый занят своей жизнью. Для разнообразия они куда-нибудь идут (помимо обязательного ресторана): кино, рок-концерт, выставка. А ночью секс – словно спорт или искусственный допинг, безличный, иногда даже страстный и от этого еще более безличный. Они интересовались телами друг друга, не душами. "На кой мне черт душа твоя?" В принципе, на его месте мог быть любой непротивный ей мужчина. Она уже давно поняла, что секс – это неважно, он ничего не решает и ничему не помогает. Кроме разве: на какое-то время забыться, как и алкоголь. Забыть, что ты хотела совсем не такой жизни.
Она знала: он тоже не умрет без нее. Что ему до всех ее достоинств? Иногда он гордится перед приятелями, что у него такая умная и веселая жена. Ибо они, наконец, подали документы на брак. Она как-то ускорено получила вид на жительство. Скоро она станет полноценной американской гражданкой, ради защиты которой правительство могло направить куда-нибудь авиацию и морскую пехоту. На импровизированном фуршете в честь события (в семейном ресторане) друзья поздравляли ее и Ричарда. Хорошая работа, хороший дом, хорошая жена – что еще нужно человеку, чтобы встретить американскую старость? Про нее речи нет, подразумевается, что она так же прекрасно встретит свою: нашла хорошего человека, уехала в хорошую страну. Живет так, как она того достойна, не напрягается, не стоит в очередях, не думает о деньгах. Не чистит картошку. Даже не моет посуду, потому что они мало едят дома. Не стирает белье. Стирает большая стиральная машина в городе. А она в это время пьет пиво в соседнем баре или читает книжку. Никаких проблем со здоровьем. Никаких нервов. Разве она не мечтала так жить?
Они с Хэллен вышли курить на веранду, пристроенную к задней части дома и невидную с улицы. Все остальные берегли здоровье. Пальмы во дворе бешено крутили своими метелками под морским ветром.
– Я думала, ты умнее.
– Что? – не поняла Матильда.
– Ты собираешься жить здесь с ребенком? У него – я имею в виду? Он будет ходить за ним следом, ставить все на место и нудить в спину, как надо себя вести. Двадцать четыре часа в сутки и не устанет.
– Мой ребенок почти взрослый.
– Все равно… Хочешь?
Длинный, профессионально забитый и скрученный косяк.
– Год назад Эрму выгнали из квартиры, и она с двумя детьми попросилась пожить у него. Они знают друг друга сто лет, у них был роман… Он выдержал только два дня, а потом попросил их съехать. Я бы после этого вообще с ним не общалась. Это, наверное, все Пол. Они дружат с университета…
Матильда молчала. Честно говоря, ей сказать было нечего. Хотелось плакать.
– Прости, что говорю это, – другим голосом начала Хэллен. – Это в качестве предупреждения, на всякий случай. Ты мне очень нравишься.
– Но… Почему он таким стал?
– А он всегда таким был. Ну, во всяком случае, с тех пор, как завел свой дом.
Матильда боялась, что так и будет, хотя делала сноску на ревнивую женскую необъективность. Ехала молча на их гору. Ричард все смотрел ей в профиль и пытался понять, что с ней?
Дома, едва не от двери:
– Это правда, что ты выгнал Эрму с детьми, когда им негде было жить?
– Кто тебе сказал? А – знаю…
Он проверил автоответчик, включил музыку… Как-то бесцельно прошел туда-сюда по гостиной. Было неясно: собирается ли он вообще говорить?
– В этот день… Я думал, он будет такой счастливый… – сказал он с досадой.
– Я задала тебе вопрос.
– Правда. Нет, не выгнал. Попросил… Да, я – глупый американец, меня очень плохо воспитали. Я избалован, ты знаешь. Здесь много таких. Я не знал, что это так трудно. Дети. Я думал о своих интересах, тут так принято. Я не знал, что это плохо. Честно – не знал! На самом деле, ты многое объяснила мне. За эти месяцы общения с тобой я очень изменился – ты не видишь? Наверное, я еще не идеален. Со мной надо работать. Я сам работаю над собой… – Он посмотрел на нее.
Это было правдой: Ричард был страшно испорчен. Она не знала, что с этим делать. Например, с положительным отношением к гомосексуальному опыту. Главное, что он был вещью в себе и хотел ей оставаться. Довольной собой, самодостаточной вещью в себе… С некоторых пор, возможно, не такой самодостаточной, в чем-то заколебавшейся. Свои немногочисленные ошибки он называл «идолом пещеры». Может быть, и все эти поиски жены в России – были попытками что-то в себе исправить?
Он знал три языка и хорошо ориентировался в искусстве – в вещах, близких ему "по работе". И при этом ей не очень интересно было с ним говорить. Как-то не оказывалось у них общих тем даже в интеллектуальной области, которую он освоил выборочно и, на ее взгляд, слишком формально. Просто было недосуг. В то время как в России, где никто не чаял увидеть что-то настоящее вживую, читали книги и смотрели альбомы. Но как это мало совпадало с действительностью, какой странный миф они создали!
Он часто плохо ее понимал… Ну и что? Здесь это нормально. Здоровое отношение к браку. Мы вместе, потому что это более выгодно, чем жить поодиночке. Плюсов больше, чем минусов. У нас есть секс, есть общение, есть ощущение, что дом не пуст. Что еще нужно?
Сам Ричард был большую часть времени занят. Это у них, русских – можно ничего не делать. Жизнь здесь – это вечное зарабатывание денег. Ей казалось – скучное и тупое. Рутинное, как посещение комсомольских собраний.
С утра он как всегда громко дышал на полу в позе лотос, неспеша завтракал в ресторане, несколько часов проводил на службе, ничего существенного не делая, вечером обедал в ресторане, встречался с приятелями…
У них были споры:
– Ты считаешь – вы трудитесь? Да это хрень одна, а не труд! Если бы у нас так трудились, вас бы давно взашей выгнали… – Это она по-русски, ибо эмоционально передать такую глубокую мысль на чужом языке не могла.
Он пожимал плечами. Он не понимал, почему она так настроена: Америка создала великую экономику, а Россия – нет. Откуда у нее этот патриотизм? А она никак не могла понять феномена американской экономики.
– У нас работают лучше и больше, а получают в сто раз меньше.
У него не было ответов на ее вопросы. Он же не специалист в этой области. И он не понимал, почему она скучает? Он же обеспечил ей такое прекрасное существование – по сравнению с Россией! Скоро, он надеялся, у них будет нормальная семья, само собой, дети (он уже и на это был готов), и она будет посвящать все время им. А пока, она, конечно, может пойти куда-то поработать, просто так, чтобы убить время. Заодно попрактикуется в капиталистическом труде.
Три месяца давно прошли – а она все не могла принять решения: остается она, уезжает? Будучи женой Ричарда, она могла бы свободно жить и там и здесь. Работа дала бы ей возможность почувствовать Америку изнутри, узнать причину ее экономического чуда.
И она пошла кассиршей в небольшой универсальный магазин поблизости от магазина Ричарда, принадлежавший его другу. И получала в десять раз больше, чем любой дипломированный филолог в России. При этом посетителей было мало, прибыль была, по ее подсчетам, минимальной. За счет чего все это существовало?
Она не могла понять. Зато завела несколько подруг, хотя это сильно сказано. Просто юных барышень, с которыми можно побазарить о женских делах. Они удивительно похожи на всех континентах. В основном здесь работали студентки, которые быстро научили ее, как пользоваться местным компьютером. Потом уже она объясняла это молоденькой мулатке, поступившей на работу чуть позже нее. Она легко знакомилась, легко сходилась с людьми. Иногда даже забывала, что оказалась на другом конце земли, в столь недостижимой когда-то Америке. Она не могла поверить, что вживание в чужую ментальность, чужой язык – может быть таким легким. Или это была эйфория знакомства? А она всегда любила все новое.
Только в свободное время без конца играла в шарики на новом компьютере Ричарда, что приводило его в изумление. Ибо все же не такой это был город, чтобы надолго занимать ее внимание.
– Я ничего не вижу. Ничего не знаю. Америка, моя мечта! – а я нигде не была! – воскликнула она не совсем справедливо.
– Получи лицензию, – посоветовал Ричард. – И езди сама.
Она так и сделала, не в один день, конечно. Он даже купил ей сильно поддержанную «Вольво» – на первое время, ее первая машина! Вместе с ним или Полом, которому она очень нравилась, и который и правда считал себя слегка Тристаном, она училась водить ее по тихим городским улицам. Потом стала выезжать одна. В этом маленьком городе она не чувствовала страха. Люди были приветливы и объясняли ей путь, когда она заблуживалась. И все же было неприятно, когда нетерпеливые негры на огромных черных машинах сигналили ей сзади, когда она глохла на светофоре, и кричали ей, обгоняя, что-то бранное или двусмысленное.
Конечно, Ричард много консультировал ее на предмет того, как тут живут и говорят. Как надо себя вести, чему верить, чему нет. Была куча непонятных ей правил и запретов. Например, были районы в городе и окрестностях, куда лучше было не попадать…
Но нигде же не написано. Однажды она заблудилась на своей «Вольво» в поисках нежданно понадобившейся аптеки. Всегда попадавшиеся повсюду – они вдруг исчезли. Наконец обнаружила себя в каком-то пустом и обшарпанном районе. Посреди улицы стоял праздный немолодой негр, у которого она решила спросить дорогу. Кажется, он плохо понял ее, и махнул ругой за угол. Там за углом на пустой улице она столкнулась уже с парой праздных негров. Их поведение было бесцеремонно, а желания откровенны. И нигде никаких людей! Не говоря о полиции. Инстинктивно она заговорила по-русски: чтобы удивить их что ли, дать понять, что она не американка, и, следовательно, они провоцируют международный скандал. Негры ее отпустили, поугарав, мол: "сейчас нас будут бомбить, прикинь, чувак!" – хотя с сумочкой ей пришлось расстаться. А там были и ключи от машины. А она-то думала, что ее летнее приключение на подмосковной даче было чем-то из ряда вон.
Почти бегом она кинулась к машине. Все у того же невозмутимо стоящего посреди улицы негра она спросила, где тут полиция? Теперь он махнул в другую сторону. Никакой полиции там, естественно, не было, зато она нашла такси, на котором поехала на работу к Ричарду.
На свой день рождения и день рождения Ричарда, бывшие почти в один день и совмещенные для простоты, она задумала настоящий "русский обед" – с многочисленными салатами и горячими блюдами, а не как тут было принято, когда гости идут в ресторан или приходят с чем-то полуготовым, а хозяин лишь выставляет спиртное.
Прием имел успех. Особенно понравилось мясо: гости (уже теперь ее друзья) спрашивали, в каком ресторане она его заказала? – и не могли поверить, что гастрономия – это не прерогатива французских или тайских поваров. Жаль, Ричард был равнодушен к еде. Как свое время и Дятел. Всему этому она научилась ради себя самой и ради московских гостей, в отличие от американцев, – знавших толк в домашней еде.
Она стала думать об обществе, в которое попала. Пуритантизм – аристократизм плебеев. То, что сделало Америку богатой и помогло ей спастись от соблазна все поделить и сделаться бедной. Честность, строгость в личной жизни и обязательный труд. Современный истеблишмент – его порождение, выпестованное в закрытых школах. И американский нонконформизм – это не наша борьба против государства и тоталитаризма. Это борьба с пуритантизмом, духом закрытых школ, с его послушанием и прагматизмом. Это освобождение от пут морали, вступившей в противоречие с гуманизмом. У нас – освобождение от пут этатической этики, рассматривающей человека вообще как ноль, который становится чем-то лишь в момент гибели в интересах государства. Мы еще до черты, они – за чертой. Приближаясь к черте, нам кажется, что мы похожи.
Ричард был доволен: она начинала ориентироваться в жизни. И ее английский был выше всех похвал. Юные "цветные" продавщицы в магазине не верили, что она из России. Она заметила, что говорит по-русски все с большим трудом. Язык стал терять гибкость и спонтанность. Зато английский отскакивал от языка, как резиновый мячик. Один язык вытеснял другой прямо на глазах с пугающей скоростью... Однажды она поймала себя, что думает по-английски. И что ей все труднее подбирать слова, когда она звонит домой и разговаривает с мамой или сыном. А кто-то из старых друзей с удивлением сообщил ей, что у нее появился акцент. Мама должна быть удовлетворена.
Она сама почувствовала, что начала походить на американку. Спокойную, холодную, преданную своим удобствам. Капризную и нетерпимую, если что-то на миллиметр нарушает ее настроение. Ричарду это должно нравиться. Хотя зачем тогда ему русская жена? От русской жены требовалась какая-то особая "русская" любовь. Знал ли он сам, что это такое?
Она хотела попробовать. Она долго жила по-другому. Она дорого за это заплатила – чтобы все изменить. Иногда она думала об Антоне. Как он переносит это? Из писем она знала, что ему тяжело. Но, наверное, это скоро пройдет. Последние месяцы письма стали редкими и какими-то спокойными. Такими же, как ее к нему.
Все, чего Матильда хотела, – тотальной ассимиляции. Ничего не должно было напоминать ей о родине. Нельзя сидеть на двух стульях. Умерла – так умерла.
Слыша русскую речь на улице (а это случалось достаточно часто) – она переходила на другую сторону. В Калифорнии к этому времени собралась куча русскоязычной публики: художники, музыканты, режиссеры, все жаждущие реализации в мировом масштабе.
Но она-то решила забыть все, отрезать от себя прошлое, стать новым человеком на новой земле. Все равно – все ее прошлое, с ее точки зрения, было здесь непригодно. И она не собиралась быть ущербным эмигрантом, тоскующим по кусту ракиты над рекой. Или расписным самоваром в американском баре. Тщеславия у нее не было никакого. Гордыня ее была велика.
По-русски она говорила лишь с Ричардом. Он не хотел забывать с таким трудом освоенный язык. Его ее американизация даже пугала. А она смеялась:
– Если я буду рожать здесь (если до этого не дай бог дойдет!) – то буду кричать по-английски, с местным акцентом!
Аллюзию он, естественно, не уловил, как обычно. Поэтому многие ее слова и мысли он воспринимал буквально, как ею самой придуманные. И оттого считал еще более умной и ненормальной. Но и это прошлое должно было постепенно забыться, как фантомная боль.
– Америка для нас – это синоним того света, – сказала она однажды Мите, единственному своему здешнему русскоязычному знакомому.
Меньше всего она собиралась заводить себе здесь – подобных. Она столкнулась с ним в книжном ларьке при местном университете, где она выбирала русские книжки (в университете была кафедра русского языка, тогда еще довольно популярного). Уезжая (налегке) – она взяла с собой всего пару книжек. И хоть Матильда и решила забыть, кем была, но расстаться с любимыми авторами ей было пока невмоготу.
Это был тот самый Митя, сын старой маминой подруги, о котором в детстве ей прожужжали уши, всегдашний образец для подражания, укор и упрек, из-за чего она его, в конце концов, возненавидела. А он, кажется, наоборот: очень хотел ей нравиться. Много лет она ничего про него не слышала, хоть и встречалась на семейных днях рождениях с Зоей Львовной, его мамой. Из чего сделала вывод, что он уже не образец и лучше о нем вообще не говорить, чтоб никого не расстраивать. Потом она узнала, что он уехал по «еврейской визе» вроде бы в Израиль, что ее удивило, ибо она и не догадывалась, что он еврей. На этом информация снова обрывалась.
И теперь вот он собственной персоной, нелепый, бородатый, неровно стриженый, с ранней сединой, в стоптанных ботинках – она бы его не узнала. Это он узнал ее, ибо, по его совам, она совсем не изменилась. Когда-то он был спортивен, довольно красив, неглуп и хоть старше нее – очевидно комплексовал перед ней. Комплексовал, возможно, и теперь, но как он изменился: ходячий скелет, который, кажется, сдует первый ветер!
Словно в детстве, Митя и на этот раз оказался ей во всем противоположен. Он жил здесь уже четыре года, так, кажется, и не доехав до Израиля. Тогда, четыре года назад, у него еще были ребенок и жена, оставившая его вскорости ради настоящего американца. И его это, по его словам, в высшей степени устроило. Ездил по Америке в собственной машине, словно Гумберт-Гумберт, пока она не сломалась. В ней же и ночевал. Иногда жил совсем как негр, на вэлфер, перемежая принципиальную незанятость случайными работами. Видимо, он вдохновлялся битниками, кто бы мог подумать?! Теперь он помогал по хозяйству пожилой еврейской даме, двоюродной тетке, уехавшей сюда еще в 70-х, – и так зарабатывал на жизнь. Его потребности были минимальными. В остальное время он пил, читал и писал стихи.
– Ты и дома так жил? – спросила она с завистью.
– Нет. Только пробовал…
Получив образование в МИСиСе, он гордился, что ни одного дня не проработал по специальности. Оказывается, во всем было виновато увлечение йогой, почти повальное в те годы, а потом, естественно, эзотерикой, мистикой, даже магией. Он забросил семью, работу, стоял на голове, медитировал в лотосе и пытался слиться с бесконечным. И он почти достиг, почти слился, да не выдержала психика, а потом жена. Или наоборот. Тогда он устроился к геологам, чтобы надолго пропадать в экспедициях и немного экспериментировать над собой. И еще он всегда очень хотел попасть в Индию и на Восток, места подлинной духовности и «тайных знаний». Он прочел о Востоке все, что смог достать на языке отечества. Про его стихи она слышала давно, но ждать хорошей поэзии от технаря – это было смешно. Эмигрировать он не собирался, на этом настояла жена, испуганная тем, что начиналось на родине, но, главное, мечтающая о шикарной жизни. Он оказал ей последнюю посильную помощь: легально вывез туда, куда она хотела попасть.
«Вырвавшись на свободу», не столько из совка, сколько из семьи, он съездил в Индию и Китай, и остался разочарованным. Подлинная духовность оказалась очень нищей и с элементами коммерческого юродства. Все «Тайные знания Востока» были придуманными на Западе, как и «Протоколы сионских мудрецов». Это было доходное финансовое предприятие, в котором реальному Востоку отводилась роль ширмы и свадебного генерала.
По его словам, он оказался в пустоте и целый год просидел или, скорее, пролежал на шее у мамы, эмигрировавшей вслед за ним – из-за ее потребности находиться там же, где находится сын. Тогда в нем произошел некий переворот: он решил приносить людям мелкую пользу, чинить технику, ухаживать за садом, быть на побегушках – за любые деньги. Лишь бы оставалось немного времени читать, писать и… влюбляться (усмехнулся он).
Она слушала и не могла понять смысла его переезда сюда.
– Знаешь, в каждом трамвае, даже стоящем в пробке, есть пара человек, которые сидят в нем и не выходят. Они никуда не спешат. Может, я сел не в тот трамвай. Но уж, коли сел, я буду сидеть. Я просто еду куда-то.
Он так ехал, независимо и одиноко. Даже не выучил толком языка – и не собирался этого делать. Он был чужаком там, остался чужаком здесь. Он был нигде и никому не нужен, как и его стихи (впрочем, их иногда печатали в местных русскоязычных журнальчиках). И это его устраивало. Поэт, по его представлению, должен быть только таким. Только полное одиночество и метафизическая чуждость – рождает в каком-то особом месте головы стихи. И ночью, возвращаясь в свою комнатку в квартире мамы – он, пьяный и взвинченный, свободный, как больной белой горячкой, начинал кропать бессмертные строчки.
Он пробовал читать их ей – из толстой грязной тетради, которую вечно носил с собой. Но Матильду стихи редко трогали, это должен был быть уровень Мандельштама, по меньшей мере. Она вежливо слушала, что-то ей даже отдаленно нравилось, но она не давала себе труда понять – насколько? Все эти вещи были в прошлом. Не для того она сожгла свой корабль, чтобы снова сесть на эту мель.
Однажды он уговорил ее зайти к себе: ей срочно понадобился дабл. Оказывается, он жил в “викторианском” доме, из каких в основном и состояли нормальные районы Фриско. Дом представлял собой атриум с маленьким общим садиком на несколько семей. Садик был ухожен и полон роз, квартирка же была довольно мала и захламлена, здесь были какие-то гостящие родственники и мама, купившая эту квартиру (продав на родине всю собственность, включая дачу), с которой (мамой) он пребывал в непростых отношениях, – от коих в тот день предпочел побыстрее сбежать. Он-то сбежал, но вот Матильда была заловлена Зоей Львовной и удостоилась долгой мучительной беседы:
– Он все больше пьет. Полгода назад у него был алкогольный инсульт, я думала, что если он и останется жить, то навсегда в инвалидном кресле… Он же шизофреник – я так боюсь за него! Что с ним будет, когда я умру?
– Зачем сейчас об этом?.. – возразила Матильда машинально, хотя выглядела Зоя Львовна и правда неважно: какая-то противоестественно бледная, даже стоять долго на месте она не могла.
– А когда думать? Это сейчас я на ногах, а вчера вообще не вставала…
Слово за слово, и Матильда узнала, что Зоя Львовна тяжело больна, не работают почки.
– Поэтому я сделала завещание… Только не говори, что это глупо! Я разделила всю свою собственность, включая эту квартиру, между Митей и моей двоюродной сестрой, – с условием, что она до конца Митиной… или своей жизни будет опекать его. У меня не было выхода, ты понимаешь?
Матильда кивнула. И потом как бездомные они полдня слонялись по жаркому Фриско, с горки на горку.
– Почему ты ничего не рассказывал – о здоровье Зои Львовны?
– Ты не спрашивала.
– Все правда так плохо?
Он пожал плечами.
– Я не врач…
– Ну, а насчет завещания? Ты согласился на это?
Он равнодушно махнул рукой: ничто материальное его не интересовало.
Митя, местный вариант позднего Щелкунчика, – вдруг вздумал ездить к ней из Фриско. Ее везде окружали подобные люди: маргиналы, алкоголики, амбициозные неудачники, воображавшие в ней идеал, способный их понять. Никто из них, ее поклонников, не жил в реальности. Они заранее проиграли битву – и, поэтому, даже не начинали ее. Один Ричард жил в реальности, наверное, потому, что она его устраивала. Только была ли это настоящая реальность? Он не задумывался об этом, как не задумывается большинство людей: как и почему они дышат? Или ты живешь – или думаешь о жизни. Сороконожка не задает себе вопроса: как она танцует, не запутываясь в своих ногах? Вот и эти люди – занимались делом. Дело, вещи, деньги – были достаточным стимулом и наградой, чтобы не задаваться бессмысленными вопросами. Они жили в реальности, потому что побеждали в ней. Их начищенные ботинки свидетельствовали об этом.
Надо отдать ему должное: Митя ни на что не жаловался. Приезжал почти через день за несколько десятков километров, просто чтобы созерцать свою безразличную "музу". Стоял у дверей магазина – с новым готовым шедевром. Потом торчал у нее на работе, ходил с ней курить, сидел рядом во время обеда, прикладываясь к бутылочке кока-колы. С бутылочкой было что-то не то, потому что от невинного детского напитка он не трезвел, а, скорее, наоборот.
Он ничего от нее не хотел, очевидно – заранее просчитывая отказ. Никогда не набивался к ней в гости – и всегда просил высадить его у ближайшей остановки, когда она, после работы, на своем новом "Жуке" (купленном ею в рассрочку) возвращалась домой. И ехал назад во Фриско, свободный, живущий в каком-то своем варианте мира или варианте его восприятия. Таких одиноких людей она еще не встречала. Лишь с ним одним она позволяла себе разговаривать на языке их прежней родины…
Наверное, надо было сказать ему что-то теплое, как-то пожалеть его, но она опасалась того, что может последовать. Он как всегда вообразит бог знает что, еще сильнее влюбится – и снова потянет ее в этот омут, о котором она боялась вспоминать.
Впрочем, однажды она поддалась на его уговоры – и пошла на что-то вроде литературной вечеринки его приятелей-поэтов, проходившей в соответствующем "русском" кафе, где Митя в числе других прочел пяток стихотворений. То, что тут продуцировали, было слишком хорошо ей знакомо: ирония напополам с абсурдом, бедная анекдотическая мысль, лишенная иного измерения, кроме простейшего парадокса. Они черпали отовсюду, но их сита, целиком замешанные на самолюбии, пропускали лишь одну громокипящую банальность. Но все были уверены в значительности происходящего и записывали его на диктофоны и камеру.
Она и тут произвела маленький фурор, вспомнив всех, кого знала там, обрушив на эти провинциальные головы весь бомбовый запас эрудиции столичной богемной дамы: "Далеко Ротшильду до этого мужика".
Они были покорены ею. И не могли поверить, что в ней нет ни капли еврейской крови. Так не бывает: все сколько-нибудь стоящие люди, в их представлении, если не были англосаксами, то должны были быть евреями.
Это был такой национализм наоборот. Ее это просто позабавило. Никогда она не смотрела на людей с этой стороны. Спровоцированная, она даже прикинула специально для них соотношение русского и еврейского компонента среди ее богемных знакомых – в очень специфических условиях такого города, как Москва. Еврейский компонент был, конечно, сильным, но явно не доминирующим. Во всяком случае, в важных для нее областях. Его было много в областях пограничных, полумаргинальных, не признанных социумом за мейнстрим, но рвущихся им стать.
– Это потому, что не дают, – сказала литераторша ее лет, некрасивая полная дама, с умным лицом и глазами, исполненными национальной скорби.
– Кто не дает?
Дама многозначительно посмотрела на нее. И в доказательство стала перечислять, что сделали евреи в культуре, науке… Получалось, что практически все. Хоть им так мешали!
– Поэтому вы здесь?
– Да, но не только. Америка – это наша земля. Христофор Колумб открыл ее для нас. Он был еврей – это теперь доказано! И он не собирался открывать никакого пути в Индию, это смешно! Он хотел открыть новую землю – для своего гонимого племени. И открыл. А когда Америка стала сильной, она помогла возродиться государству Израиль, нашей мистической родине…
Матильда вышла из кафе ошарашенная.
– Динка дает! – смеясь, сказал Митя. – Америка была придумана, чтобы возродить Израиль – ха-ха!.. Самое смешное, что ортодоксальные евреи его не признают – я же там был (оказывается, он там все же был)… Она умная баба, но иногда ее клинит. Особенно, когда есть публика. Бремя еврейства тяжело нести, если не забить на него. Рядом с такими я сам становлюсь антисемитом. И говорю себе: вот за это нас и не любят.
Ее тоже удивила эта черта: потребность переменить все знаки, сделать хорошее – плохим, а плохое – хорошим, сломать существующую иерархическую парадигму или сместить ее в какую-то более благоприятную для униженных и гонимых сторону. Наверное, иногда это правильно. Поэтому во всех революциях было так много этих энергичных раздраженных людей.
А потом Митя исчез. Такие вещи с ним случались: когда он заболевал или впадал в запой. Но проходили дни, и он стоял снова у дверей ее магазина, никому не нужный, самодостаточный, словно древний афинянин, зачем-то тянущийся к ненужной ему сирийской богине (такая парадоксальная ассоциация возникла у нее в голове).
И вот он пришел, еще с более темным лицом и еще более потерянный, чем обычно. Несколько дней назад умерла его мама. Похороны... уже состоялись…
– У евреев с этим быстро…
Она выразила соболезнование.
– Почему ты не позвонил?
– Зачем?
– Ну, не знаю… Я знала ее всю жизнь.
– Не хотел тебя беспокоить.
– Ты правда ненормальный. Я же могла чем-нибудь помочь!
– А! – он махнул рукой. – Там было, кому помочь…
Он имел в виду, что все заботы взяла на себя его тетушка, во всем, на его взгляд, переборщившая.
С этого дня жизнь Мити сильно изменилась. Тетушка, исполняя завещание, взялась опекать его не на шутку, и для начала врезала в одну из двух комнат квартиры Мити замок. Потом стала уговаривать обследоваться – чтобы заложить его в больничку, как он считал. Еще через несколько дней к нему на квартиру явилась полиция – по жалобе соседей, встревоженных криками из его квартиры. Крики и правда были: это он ругался с тетушкой, практически вселившейся в его квартиру, хотя у нее был собственный дом в пригороде. Вселившись – она сделала его жизнь невыносимой, постоянно допекая псевдозаботой и выговорами. В скором времени она уже вызвала полицию сама, уверенная, что у него началась белая горячка… Его даже увезли в наручниках в полицейский участок. Потом она натравила на него психиатров, сославшись на то, что он уже лечился в Москве. До принудительной госпитализации осталось полшага, хотя в этот раз они оснований не нашли, а от добровольной он отказался.
Для Ричарда, которому Матильда кратко рассказала про Митю, тут все было ясно, как день: тетушка охотилась за второй частью имущества, для чего Митю надо было лишить дееспособности и признать сумасшедшим. И судя по нарисованному Матильдой портрету героя – это было нетрудно сделать.
– Ему нужен адвокат, – посоветовал Ричард.
Но на адвоката у Мити не было денег, но даже если бы были, Митя был слишком пассивным и беззащитным, чтобы спасти самого себя. Ей было искренне жаль его, но что она могла сделать? Частым упоминанием имени Мити она добилась лишь того, что Ричард начал ревновать, подозревая бог весь что. Взявшись спасать жизнь почти чужого ей Мити, она рисковала осложнить собственные «семейные» отношения. Но неужели у него нет никого, кроме нее? Та же Динка, например – или с кем он там общался все это время?
Так она успокаивала себя. И все же она вела с ним долгие беседы по телефону, очень мучительные для нее в силу некоторой неадекватности вечно пьяного Мити. Ее советы просто уходили в песок, зато ему нужно было слышать ее голос – и жаловаться, но как-то исподволь, в очень неясных выражениях, допускавшихся его гордостью. Единственное, что она поняла, что тетушка обеспокоенна появлением на горизонте Риты. А вдруг у них с Митей что-то начнется, Митя переоформит на нее свою собственность – и тетушке ничего не достанется! Поэтому тетушка ее заочно возненавидела – и однажды повесила трубку, когда Матильда попросила ее позвать Митю.
Тем не менее, из всего, что Митя в пьяном многоречии говорил, нельзя было составить никакой однозначной картины происходящего. И это до некоторой степени успокаивало ее, потому что давало надежду, что все не так плохо. Кроме того, что однажды с ним случится новый инсульт. Именно этого она и ждала.
Но случилось другое.
Обо всем она узнала от полицейского, который позвонил ей, ибо Митя твердил именно ее имя. Он выпрыгнул из окна, когда вызванные тетушкой врачи приехали забирать его в дурдом. Все-таки она какими-то хитростями сумела добиться его госпитализации.
И теперь лежал в больнице.
Государственная американская больница тех лет, конечно, отличалась от советской, но не так, чтобы слишком сильно. Митя лежал в отдельной палате с занавешенным окном. Та же стойка для капельниц, тот же запах. И руки такие же холодные. А лицо – его просто было трудно найти среди свежих швов и пластыря…
Он узнал ее, даже назвал по имени. Невнятно попросил посадить его. Ходить он не мог. Его тетушка была тут же: пожилая полная женщина без чего-либо хищного в глазах.
– Не умирай, – сказала Матильда и погладила его по голове.
– Я буду свиньей… теперь… если умру, – ответил он и попытался улыбнуться.
Улыбка сошла, и он как будто куда-то уплыл.
– Я наняла сестру, – сказала тетушка, имени которой она не вспомнила, на русском с заметным акцентом, словно отчитываясь. – Она меняет ему памперсы и колет уколы. Раньше я тоже работала сестрой, но уже не в силах ничего для него сделать. Я обещала его матери заботиться о нем. Но он был так плох… Ах, как я любила его! Он в детстве был такой ангелочек! У меня двое своих в Нью-Йорке, и он мне был, как сын! – причитала она с истерической псевдоискренностью. – Вы близко его знали?
Матильда пожала плечами.
– Не очень.
– Он назвал вас по имени. Никого больше. А друзей у него почти не было.
Он занял в ее жизни так мало места. Может, просто не успел. А для него она, возможно, была самым важным человеком. И ее-то он и ждал. Она могла бы его спасти, но предпочла не вмешиваться.
– Его было не узнать: все рассказывал о какой-то женщине. Теперь понимаю – почему… – сказала тетушка, глядя на Матильду.
– Почему? – спросила Матильда тупо. Можно было подумать, что Митя вел с тетушкой задушевные беседы. Впрочем, от него и этого можно было ждать.
– Я так жалела его. Но он все больше пил. А раньше совсем не пил!.. Хотите кофе, я попрошу сестру?
Матильда отрицательно покачала головой.
– Что говорят врачи?
– Ему немного осталось.
– Так плохо?!
– Его еле вытащили из комы. Но даже если он выкарабкается – что это будет за жизнь, можете себе представить?
– Лучше смерть?
– По мне – да.
Матильда поежилась: даже если отбросить интерес тетушки – это была правда. Ее закаленное сердце больше не искало иллюзий. Жизнь однажды кончается. Надо сесть в эту лодку и просто грести веслом. Все древние люди знали это. Готовились и были спокойны. И лишь цивилизация ненавидит смерть, не умея найти нужных слов и вытеснив в темный угол.
В палату заглянула Динка. Женщины кивнули друг другу.
– Как это произошло? – спросила Динка.
Матильда пожала плечами.
– Упал пьяный, – быстро стала объяснять тетушка. – Соседи напротив видели… Меня не было дома… Вылетел в окно как сумасшедший, будто его швырнули. Стекла во все стороны.
– Во двор?
Женщина кивнула. "Значит, прямо в розы", – подумала Матильда.
Конечно, он не хотел ложиться – и не хотел сдаваться ни тетушке, ни врачам. Но Матильда могла представить и другой вариант: он добровольно отправился в полет, решив, что до конца исчерпал возможности этого маршрута. В Бога он не верил. В тот свет тоже.
– Вы вызвали…? – спросила Динка у тетушки.
– Думаете, пора?
– На всякий случай… И надо связаться с…
Текли какие-то непонятные еврейские слова, типа смутнознакомой «хевры» – или что-то в этом роде…
– Он был не очень религиозен.
Молчание.
– Но он хоть обрезан?
– Откуда же мне знать?!
«Не собираются ли они проверить?» – подумала Матильда.
– Я пойду, – сказала она, почувствовав внезапную слабость.
– Приходите завтра. Сможете? – спросила тетушка, изображая заботу.
– Нет. Может, послезавтра.
Но послезавтра истощенный телесно и духовно корабль по имени Митя потонул, просто и банально, как это обычно и бывает. Даже в Америке. Тетушка в слезах пригласила Матильду на похороны, наверняка пышные и традиционные. Но Матильда не пошла.
Это было последней каплей.
Она знала, что Дятел живет загородом, в доме, который строил для них обоих. Он никому не звонит и почти ни с кем не видится. Может быть, теперь он доволен жизнью? Она была бы рада за него.
Пусть ему будет хорошо. Пусть все, наконец, обретут то, что хотели. Он же хотел свободы? Вот он и имеет ее.
А что имеет она? Она вдруг почувствовала, что проведенный здесь год – был абсолютно бессмысленным. Она много что узнала, но ничего не сделала. Она спала с новым мужчиной. Его секс был надрывным и мучительным для нее. Она к этому не привыкла. Ей казалось, он унижает ее, хочет от нее вещей, на которые ей тяжело пойти. Она делает это – чтобы доставить ему радость, чтобы еще глубже пролегла граница, отделяющая ее от прошлого.
Ну и к лучшему. Не в этом дело. Она была чьей-то вещью, балластом, а своей жизни у нее не было. А там люди оставались собой, плохо ли – но они там жили. Она будто лишь теперь поняла, что одиннадцать или сколько там тысяч километров означают полный разрыв: с прошлой жизнью, прошлой собой и со всем, что она знала. И со всеми, кого она знала. Словно она все это время жила на другой планете.
Ричард нахмуренно смотрел на все более растущие телефонные счета.
– Я скучаю без Гора, друзей и без русской речи, – парировала она.
И вот однажды она объявила:
– Я хочу съездить домой. Ты не против?
Он же сам говорил ей: ты можешь делать все, что хочешь, ты живешь в свободной стране. Она честно провела год в его "замке", она была вроде бы хорошей женой. Ее положено было отпустить домой – повидаться с родными, во всяком случае, так положено было в русских сказках.
Ричард был готов пригласить ее друзей к себе: одного, двух, даже трех…
– И год ждать, пока им дадут разрешение въехать? И так и не дождаться…
Он предложил ей потерпеть, чтобы они поехали вместе. Она была непреклонна. Она хочет сейчас, и она хочет одна. Он не ожидал от нее этой холодной стойкости. Сознания своих прав, готовности на любые жертвы, в том числе, на потерю навсегда этой "райской" Америки.
Он думал, что купил ее? Ее нельзя купить. Она свободна. Следует ли это или не следует из исповедуемой здесь парадигмы. И тогда у него случился редкий для него срыв. Он сказал, что, как муж, по закону, может запретить ей уезжать. Или может сделать так, что она никогда не вернется.
Это был плохой способ договориться с ней. Она лишь сказала:
– Ты можешь делать все, что хочешь, но после этого я никогда не буду жить с тобой.
Ее спокойствие поразило его.
– Ты неблагодарна.
– За что? Ты думал, что я должна быть тебе благодарна, что ты забрал меня из моего клоповника? Это, в конце концов, моя страна, нравится она тебе или нет. Наверно, она ужасна – для тебя. Но если ты думаешь, что я решила жить с тобой только ради того, чтобы уехать оттуда, ты просто идиот!
– Я так не думаю.
– Тогда что? Я была плохой женой, я мало любила тебя?
Конечно, ему хотелось бы думать, что она без ума от него. Лично от него, без всех этих скидок на место и условия. Не лучше ли он ее прежних мужчин, умеющих лишь болтать, ничего не сделавших за всю свою жизнь? Которые не могли понять, как она хороша и чего стоит? Не способные ничего ей дать, но лишь мучить и капризничать, как дети? С чем-то она была согласна. Но любовь? В ее выборе было лишь отчаяние. Любовь могла бы вырасти из благодарности – если бы он вел себя неизменно достойно и благородно.
Теперь она в этом сомневалась.
В день отъезда он вдруг принес ей письма Антона. Оказывается, он знал, где они лежат. А она-то думала, что он плохо читает по-русски.
– Я всегда знал, что ты любишь его. Если хочешь, уезжай к нему. Я не держу. Ты его любишь и всегда любила. А меня не любила. И никогда не полюбишь...
Он говорил по-русски. Он специально выучил этот трудный язык, чтобы найти на другом континенте близкого себе человека. Это было наивно. Он сам это теперь понимал.
Значит, он знал это и терпел. Он читал его письма и не проявлял ревности или боли. А она была, но он скрывал ее перед ней. Может быть, он открывался перед своими друзьями?
Это было какое-то самурайство. Она не любила его, но ценила его жертвы. Он был готов для нее на то, на что не был готов никто из ее знакомых. Он был надежен и верен. Он хотел сделать ее счастливой, как он это понимал. Он плохо понимал ее – но тот, кто хорошо ее понимал, мог сделать ее лишь несчастной.
Ричард отвез ее в аэропорт. Деланно веселый, реально – абсолютно подавленный. Он не верил ей. Он подозревал, что она не вернется.
XV. ЗВЕЗДЫ
Первое впечатление от родины… Она была по-настоящему испугана: лицами, жестами, мрачной бедной одеждой. Боевым настроем людей: или помрем или всех задавим! А еще этими облупившимися домами, пустой заброшенной землей. Великое недавно государство… Она всегда знала, что это фикция. Теперь фикция перестала даже скрываться. На фикцию больше не было денег. Все было брошено и стояло сломанное и ненужное. И рядом – новенькая реклама, наглые особнячки. Так вот как они видят нас, когда приезжают! Страх и презрение! Как люди здесь живут, зачем живут, почему не удавятся?! Похули Бога, и умри...
Гор был выросший и чужой. Коротко стриженный. Он как будто не был ей рад или скрывал это. Это было странно: ведь по телефону он много раз жаловался, что ему не нравится жить с бабушкой, пусть она заберет его к себе или вернется. Она боялась, что бабушка, в конце концов, сделала ему прививку чего-то своего, чуждого ей, и теперь он, как Кай, все видит в искаженном свете. Но ведь она сама на это пошла – и теперь ей надо в короткое время вернуть его. Поэтому первый же вечер на родине кончился кошмарной ссорой с матерью.
И объяснением с сыном.
– Послушай… Гор… Ты же хочешь поехать в Америку. Они не пустили бы меня с тобой. За это время я узнала, как можно там жить. Даже если мы будем жить одни, без Ричарда. Потому что я не уверена, что смогу с ним жить. И всегда была не уверена. Мне надо было проверить себя, проверить все, а не впутывать еще и тебя! Ты понимаешь?
Ей легко давалась полуложь, потому что она же была и полуправда.
Два дня она боялась выходить из дому: думала, что у нее начнется паника или истерика. От отравленного воздуха закружится голова. Всегда ли так было, – думала она, а она просто не замечала? Бешеное, лишенное всех правил движение, суровые спешащие люди, не то убегающие, не то догоняющие что-то. Никто не улыбается. Даже дети. Никто не отдыхает. Говорила с друзьями по телефону. Смотрела телевизор. Ужасные сцены начавшейся войны. Казалось, государство разваливается на глазах, но никто не видит, потому что все привыкли, все всегда так жили. Или, даже, хуже.
– Изменилось здесь что-нибудь – на твой взгляд? – спрашивали ее. Подразумевалось: к лучшему.
– Не знаю, изменился мой взгляд. Мне кажется, все нормально, – врала она. Она жалела их, здешних, не хотела расстраивать. Им и так трудно. Запад был как тяжелый наркотик: вмажешься один раз – и другая жизнь кажется невозможной.
В перемещениях по Москве – предпочитала такси: слава Богу, денег было достаточно. Своих собственных денег, заработанных честным трудом в магазине. Она приходила в гости не с пустыми руками. Со всеми пила и всем ругала жизнь в Америке:
– Все со всеми судятся, даже дети, и подарки на свадьбу выбирают и посылают по интернету... Все формализовано, работает, как в автомате. На любой вопрос есть ответ, надо только обратиться к "специалисту": судье, врачу, психоаналитику. Никто не решает свою проблему сам, решает "специалист", за что получает деньги. И еще дискриминация, хуже, чем в совке. Права имеют только обиженные и больные. Государство так охраняет их от притеснений, что притесняет всех нормальных и талантливых. У Америки нет будущего! – был ее вердикт.
Это было правдой. Многие вещи в Америки поразили ее бесчеловечной рациональностью, гипертрофированной заботой о себе, мелочностью и ничтожностью. Эти люди учили других жить, кидали подачки. Но они не умели страдать, не любили напрягаться, презирали бедность, ограничения, малооплачиваемую работу. Они высчитывали чаевые на калькуляторе. При огромных (на взгляд Матильды) доходах, они не растратили бы впустую и десяти долларов. Они не были героями: им просто повезло. А здешним, часто очень хорошим людям, не повезло. Они всю жизнь бились за минимальное благополучие, признание – и все как рыба об лед. Они никому не были нужны, никто здесь никому не был нужен. Никто никому не помогал. Каждый спасался сам. Да, тут не жили, а спасались, терпели, ждали лучших времен. Кто-то вспоминал старые. Опять бегал с красным флагом. Но революцией больше не пахло. Может быть, потому, что люди слишком устали. Или, все же, все было не так плохо, как виделось на первый взгляд?
Друзья, ей показалось, были не так рады ей, как она надеялась. Словно она их слегка предала, не переживала вместе с ними тяжелое время, не была со своим народом… Словно за год они утратили общий язык. Они-то, понятно, не изменились. Изменилась она и, вероятно, очень сильно. Они были веселые, живые, потрясающе настоящие. За столом шел беспрерывный спор и угар. Ничего подобного она не видела в Америке. Люди, которые спорили там за столом, были редки. Как правило, это были ветераны или наследники 67-го года.
И все-таки они были какие-то другие. Даже само их постоянство – было подозрительно. Что бы ни происходило, у них все было по-прежнему. В Америке люди постоянно меняли жилье, работу, город. Они что-то искали, стремились или к большим деньгам или к большему комфорту. Тут почти никто не преуспел, не изменил жизни, не поменял квартиру, не завел машину. Ничего ни у кого не было лучше, чем раньше. Как будто бы они и не хотели, не могли, не понимали, как? Надеялись, что все произойдет само, и кто-то их, наконец, оценит. Они совсем не бездельничали, но они занимались тем, чем занимались всегда, пусть за это уже совсем не платили денег. Они были высокомерны и неадекватны. Но они ни на кого не были похожи. Теперь она видела, что она потеряла, хотя не знала, уравновешивает ли это то, что она приобрела?
Она всех хотела видеть, кроме одного человека. Рената сказала, что за последний год Маниг совсем спился, ушел со всех работ – и куда-то пропал. Матильде не было его жалко. Он сделал свой выбор. Тот, который делают слабые люди. Они обречены: падать и не вставать.
И еще был Антон. Последнее недоделанное ею здесь дело. Она решила поставить все точки.
Она не сообщила ему, что приехала, не позвонила ему. Что, если и он покажется ей совсем другим? Или она ему – совсем другой…
Ричард считал, что она любит его. Но женщина любит только тех, кто любит ее, заботится о ней, тратит на нее свою жизнь. Кто ценит свою жизнь меньше, чем ее. Хотя бы на словах, хотя бы первое время. Кто подходит к ней, берет и ведет, обещая ей, словно Аллах, сады.
Антон был слишком бедным для этого. Женщина была нужна ему как равная, кто бьется с ним против общего врага, страдает с ним, понимает и ценит его цели и смысл его жизни. И считает, что смысл их жизней совпадает. В двадцать лет многие женщины бывают такими. После тридцати – никто. А мужчина может жить так всю жизнь, постепенно превращаясь в юродивого, спиваясь и досрочно отправляясь в лучший мир, как Щелкунчик. Или Митя. Все это было красиво, но слишком мучительно для нее.
От друзей она узнала, что картина, нарисованная Антоном в письмах, была не столь благостна. По их словам, последнее время он сильно закладывал и постоянно менял возлюбленных. Это было мало похоже на него. Она допускала, что друзья, питающие склонность к преувеличениям, слегка сгущают краски ради художественного эффекта и сладости морального осуждения.
…Кто-то, кажется, позвонил ей. Мол, свет в доме горит, а дверь заперта, и никто не открывает. И она поехала. Он ждал ее на втором этаже, вися на балке, которую надменно называл ригелем и всегда выделял как удивительно удобную именно для этой цели. Она дико закричала – и проснулась.
Поняла, что надо звонить. Но не сейчас, – через день или лучше два.
…Он сам позвонил ей. У них это называлось синхронизацией. Удивился, что она не звонила: они же все же прожили вместе десять лет. Ни с кем она не жила дольше и, по его логике, ни о ком не должна была помнить сильнее. И ни от кого она не перенесла больше, никто не оставил более глубокой борозды в ее жизни, не зарубцевавшейся до сих пор.
Она не пригласила его к себе и не поехала к нему. Предложила встретиться недалеко от ее дома в маленьком кафе. Это было привычнее для нее и, главное, не так опасно. Огляделась, как бы удивляясь: кафе отдавало бедностью и самодельностью, столики из станин от старых швейных машин, как в американских панковских кафе.
И к нему она присматривалась, едва не принюхивалась. Не чужой ли он ей совсем человек?
А он как-то неуловимо изменился. Снова стал аскетически худым, как в пору их знакомства. Но черты погрубели, стало больше морщин на лбу. И еще он стал более уверенным, что ли. Лишь глаза не изменились.
– Ты хорошо выглядишь, – сказал он.
Она хмыкнула. Научился, гад, что надо говорить женщине.
– Ну, и как ты живешь? Нашел кого-нибудь? – начала она в шутливой манере.
– Заменить тебя, конечно, сложновато, но…
– Что?
– Тусуюсь с одной барышней…
– Как зовут?
– Аня.
– Стенографка?
– Ревнуешь?
– Ничуть, я рада за тебя! Больше всего я переживала, что ранила тебя. А ты так легко утешился!
– Не очень. Но ты же понимаешь: симпатичный, еще не старый свободный мужчина…
– Ну да, я столько лет вытесывала тебя, до кровавых мозолей!..
– О-о!
– Конечно! После таких трудов – понятно, что ты мог обольстить какую-нибудь дуру. Шучу. Молоденькая?
– Очень.
– Вот тебе повезло! Здоровая, сильная, без спиногрыза в коляске. И чем вы занимаетесь?
– В основном разговариваем. То есть, в основном говорю я.
– Еще бы! И о чем же?
– Ну, учу ее тому-сему, прививаю по мере сил мудрость.
– А взамен, как Сократ, наслаждаешься ее молодым телом?
– Вот-вот. – Это прозвучало с вызовом, едва не назло. "Не выдумал ли он все это? – подумала она. – Надо проверить".
– А она ищет мудрости? Тебе повезло. Красива? Красивей меня?
– Довольно красива. У нее, кстати, университетский диплом.
– Ох, ох, ох! – с максимальным сарказмом.
– Ну, да, она все равно очень зеленая и наивная. Знает все отрывочно, от сих до сих. Очень убогое у нас образование.
– Похожа на меня?
– Нет, совсем другая. Она очень легкая. С ней все просто.
– Ну, еще бы! Тебе же ужасно со мной не повезло!
– Нет, это другое поколение. У них меньше наших неврозов. Жизнь для них изначально естественна и нормальна. Они, в общем, рады ей.
– Я тоже когда-то была ей рада. Очень давно… Ну, ты заботься о ней, не мучай. Знаю я, как с тобой жить! А то убежит от тебя! Им же этих подвигов не нужно.
Он пожал плечами. Она погасила одну сигарету и тут привычно закурила новую.
– Ты, вижу, наконец, живешь, как хочешь. Тебе смотрят в рот, делают, как велят, пылинки сдувают. А ты поучаешь, лежа на диване…
– Ты, мать, как была зла, так и осталась.
– Стараюсь не меняться, как Ходжа Насреддин. Деньги-то у вас есть?
– А чего тебе?
– Могу одолжить, по старой памяти.
– Ну уж нет!
– На что же вы живете?
– Работаю.
– Где?
– По специальности.
– По какой?! – изобразила она искреннее изумление.
– Хм.
– А, поняла. Вот ведь, как ей везет! Мне бы так, может быть, все было бы иначе!
– Серьезно?
– Нет, вот ведь дрянь! Пришла на готовенькое! Она бы с тобой десять лет назад встретилась, я бы поглядела!
– На этот подвиг была способна только ты.
– Ты не смейся, это так и есть. Прямо бесит меня!..
– Что ты так переживаешь? Я помню, ты уверяла, что женщины сразу забывают своих прежних мужчин.
– Ну да, как кошки. Мало ли чего я говорила! А потом – забудешь, когда я столько лет убила на тебя!
– Взаимно.
– Ну, ты-то легко утешился.
– Разве я был инициатором? Я ведь до сих пор так и не понял, почему все это случилось?
– Не понял? Правда, не понял?
Он кивнул.
– Ну, наверное, пора сказать… Но я даже не знаю, как?..
– Все так ужасно?
– В общем, да. Вообрази худшее, что может быть. Вот это и было.
Он сидел, как бревном по голове стукнутый.
– Рассказывай.
…Два часа они говорили за пустым столом кафе, потом еще два в промозглом скверике рядом с ним. Обвиняли друг друга и сводили счеты, вспоминали то и это. Безумно и нелепо. Словно она как-то еще принадлежала ему, словно он был за нее в ответе. Она призналась ему в своей измене с Манигом в Питере – и после, чтобы он "проклял" ее и успокоился. Мол, теперь-то ты понимаешь, что между нами ничего невозможно. Да и вообще невозможно.
– Ну, что скажешь?
– У меня сердце словно провалилось куда-то, – сказал он тихо и нервно закурил.
– Видишь, я еще и лгала тебе. Что ты теперь обо мне думаешь?
Он молчал.
– В любом случае, это было давно.
– А мне все время это не давало покоя.
– Значит, тебе это было нужно. Жаль, не сказала. Все могло бы измениться. В конце концов, измена – это когда скрывают. Всякое бывает. Что такое постель – корова что ль такая священная? Мы свободные люди, а не ханжи.
– Это ты сейчас так говоришь. Тогда бы ты говорил по-другому.
– Может быть. Конечно, это больно. Но если разобраться… Что, в конце концов, нас так ранит в этой ситуации? Все это только предрассудки. И тщеславие.
– Я не смогла бы жить с тобой, если бы ты такое сделал.
– Почему?
– Не знаю, наверное, предрассудки и тщеславие.
– Поэтому ты ушла?
Она пожала плечами.
– Отчасти. Все было сложнее. А после этого стало совсем сложно. Наши отношения этого не выдержали бы.
– Ты этого и хотела?
– Тогда – да.
– А теперь?
Она отвернулась. Она увидела, что он все еще любит ее. Более того, он ее жалеет. А не себя, что было бы естественно. Что у него нет обиды. Это ее удивило. Он был вполне спокоен и едва не доволен жизнью. Может быть, она даже не была ему больше нужна. Во всяком случае, как что-то близкое. А кому она нужна? Ричарду? Вряд ли. Он найдет другую, лучшую. Кто не будет капризничать.
– Скажи честно: тебе была какая-нибудь польза от жизни со мной? – спросила она.
– Конечно.
– Какая?
– Ты научила меня смирению.
– Ха-ха-ха! Ой, рассмешил!
Они долго молчали.
– Тебе там хорошо? – вдруг спросил он. – Ты нашла, что искала?
Она пожала плечами. Что он хотел знать? Хорошо ли ей с Ричардом? Что они делают по ночам?
– У меня там есть друзья. Работа. “Фольксваген” последней модели, мой собственный, я на нем езжу… – не то хвасталась, не то извинялась она, глядя широкими глазами на Антона.
Он обнял ее. Погладил по голове.
– Ведь у нас все могло быть так хорошо!.. – вдруг воскликнула она сквозь слезы.
– Но почему “нет”, почему ты не хочешь вернуться? Я все прощу...
– Что?!
– Это цитата. Ты отвыкла от цитат?
– Не отвыкла. Ты спрашиваешь, почему? Но я другому отдана и буду век ему... – и зарыдала у него на плече сквозь смех...
…Жаркие смятые простыни…
Ощущение здесь и сейчас. Никакого вчера, никакого завтра. Проникновение, попытка стать чем-то вне категорий. Стать мужским, стать женским…
Она была стеклянным сосудом, принимающим в себя мощный поток, пронзающий ее до самого затылка. Каждый был в обоих и был обоими. В ней бурлило чужое, и она наполняла собой и охватывала чужое, делая его навсегда своим. Она создавала новое единство, творя миры в бесконечном полете.
Она раскалилась до прозрачности, сквозь нее светились звезды. Она была видна как на ладони, до полного преображения, полного отсутствия. И вдруг ее накрыла волна. Все убыстрявшая свое течение река уносила ее в море. Или в небо. Именно туда захотела она лететь, подниматься белым дрожащим лучом, все более тонким и прямым –
превращаясь в ровную тонкую линию на экране осциллографа.
1983-2013

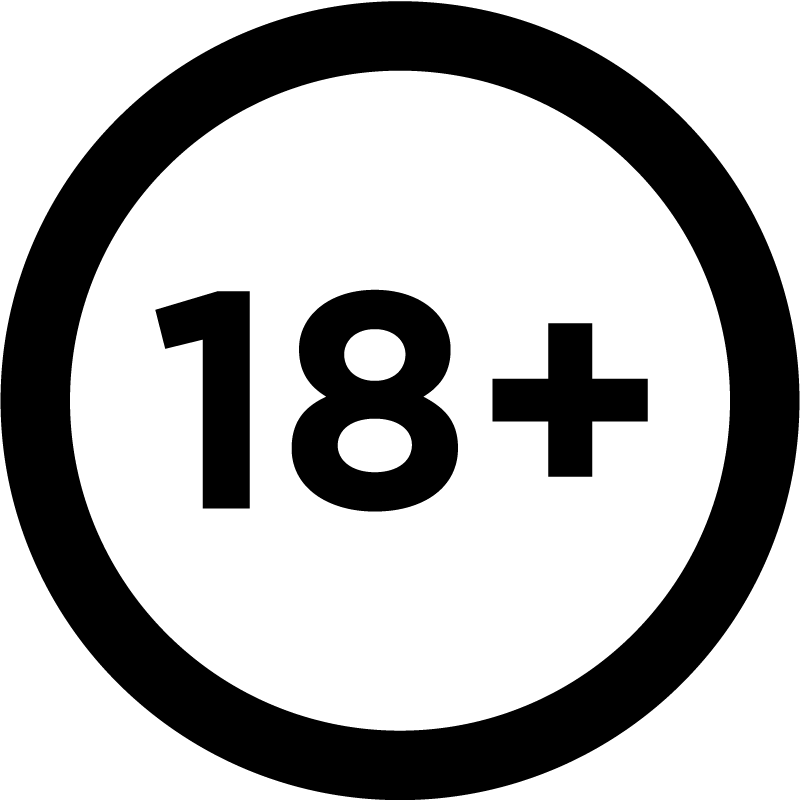 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.