ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
9 мая 2013 года, очередной День Победы!
Москва в ожидании вечернего праздничного салюта, а в Балтиморе яркое солнечное утро.
Монументальный Federal Building в даунтауне, где разместился городской оффис американской иммиграционной службы, принимает подавших заявки на гражданство и приглашённых на обязательное в таких случаях интервью.
Опрятно одетый, подчёркнуто вежливый молодой чиновник с ранней лысиной просит меня принести положенную клятву говорить "правду, и только правду", отвечая на его вопросы.
Ненавязчиво промелькнул в голове Горький- "Правда, Бог свободного человека!" Ну, что же, я готов, и я свободен.
И вот "вопрос-ответ", всё нормально, без всякого нажима и суеты. И вдруг вопрос:"Каково ваше отношение к алкоголю и наркотикам?" Конечно же, никогда никаких наркотиков, а вот без алкоголя, по древней русской традиции, не обходятся дни рождений, встречи гостей и родни, и, конечно же, праздники. Вот, напрмер, сегодня День Великой нашей и вашей Победы, и я обязательно приму, почтив память всех, кто спас мир от фашизма, в том числе и за моего отца, солдата Красной Армии , прошедшего дорогами войны до этого дня 1945 года.
Вижу насторженный взгляд. А вот и реакция: "Почему же и нашей и вашей Победы?" Кратко напомнил историю антигитлеровской коалиции и услышал удивившее:"А я полагал, что русские были союзниками Гитлера, и англо-американский экспедиционный корпус в Европе разгромил войска Гитлера и остановил продвижение Красной Армии к океану."
Прощаемся, и он благодарит за полученную информацию, дружески подмигивает и добавляет,что сегодня вечером обязательно примет в честь нашего и вашего совместного Дня Победы.
Иду на парковку, задумался, вспоминаю...
Война, война...
Зной, пропитанный пылью и запахом полыни-мои первые прочные ощущения окружающего мира. О том, что это был запах полыни я узнал много позже. «Опять жара и ветер из степи, быть урагану», говорила бабушка и плотно закрывала окна. Окон было два, но они выглядели как одно, настолько узок был простенок между ними. Окна были вcтавлены в бревенчатые стены, оклеенные кое-где обоями, а где и старыми газетами. В газетах попадались аккуратно вырезанные прямоугольные отверстия. « А зачем эти дырки?» как то спросил я. «А чтобы не посадили», кратко ответила бабушка. Этот ответ озадачил меня. Куда посадили? Что посадили? И только много лет спустя я понял, что из газет были вырезаны портреты многочисленных наших вождей во главе с самым-самым... товарищем Сталиным! Оклеивать стены этими лицами было опасно.
Когда ветер из степи усиливался, превращаясь в упругие плотные толчки, бабушка прижимала стёкла подушками, которые стягивала бельевой верёвкой. Верёвка эта была всегда на одном и том же месте, у окон, и закреплялась вбитыми в брёвна гвоздями. При урагане в комнате становилось темно и страшно. Снаружи что-то громыхало, свистело и дробно стучало в стёкла и стены дома. Помню этот двухэтажный дом из тёмных круглых брёвен с деревянной скрипучей лестницей, и до сих пор для меня остаётся загадкой, как и почему наша алтайская семья оказалась в нём, и какими неведомыми побуждениями был определён наш переезд в этот посёлок среди казахстанской степи, да ещё и в самый разгар войны.
Дом был, как мне тогда казалось, огромным и населённым несметным количеством незнакомых и непонятных людей, встречаться с которыми я избегал, а при встрече старался побыстрей куда-нибудь скрыться. Только один из них, нечёсаный, небритый и ковылявший на деревянной ноге, всегда заговаривал со мной и ласково улыбался, хотя это мало трогало меня и не снижало желания поскорее убежать.
Узкой улочкой, проваливаясь босыми ступнями в пыли, между какими-то тёмными низкими сараями, я добирался до железнодорожной станции, которая была недалеко и жила своей особой загадочной жизнью. Через станцию шли поезда и редкие воинские эшелоны, и я знал, что где-то идёт война, что на войне мой отец и ещё какие-то « наши», которых бабушка называла «мои сыночки». «Наши» были и здесь, в том же большом доме и в той же комнате. Их было много, и все они были «наши». У меня было два старших «родных» брата и одна младшая «родная» сестра. Ещё одна сестра, старше меня на два года, умерла в самом начале войны, когда мы с ней одновременно заболели сложной комбинацией дифтерии и скарлатины. Здесь же были бабушка и мама, и здесь же тётя с моими сестрой и братом, только не с «родными», а «двоюродными». Дощатый пол на одной половине комнаты был застлан длинной, сшитой из разных кусков, и очень поэтому весёлой, тканью. Под этой тканью пряталось что-то мягкое, а вдоль стены выстраивались подушки, те самые, что использовались при ураганах. Это была запретная зона, доступная только по вечерам и только для сна.
А по вечерам часто отключалось электричество, и тогда зажигалась керосиновая лампа и начиналась удивительная жизнь. Перед сном вся семья усаживалась кто где может, и таинственные тени начинали бродить по затемнённым стенам, а из бабушкиного сундука извлекались старые потрёпанные книги в тёмных плотных переплётах. Читала всегда тётя, у которой был чистый, таинственного тембра, голос, который так хорошо сливался с настенными завораживающими тенями, но я мало что понимал в этих чтениях, настороженно приглядываясь к неясным этим теням. Смутно помню только какие то страшилки с засадами в старинных замках, которые сопровождались смертельными поединками на шпагах, ночными свиданиями под луной, ловушками, погонями и перестрелками. Нечто подобное, но всё таки другое, я позже встречал у Вальтера Скотта и Дюма, и до сих пор не знаю, какие герои и каких авторов обитали на страницах этих бабушкиных книг из прошлого века.
К проходящим через станцию поездам и воинским эшелонам всегда выходили мама и тётя. Мама вела меня за руку, а тётя мою двоюродную сестру. Мы с ней родились за два года до войны, и, как я теперь думаю, во время этих походов на станцию нам шёл шестой год, то есть война уже катилась по долинам и по взгорьям за пределами нашей страны. Своими двумя свободными от нас руками мама с тётей бережно
держали за углы наволочку. В наволочке был рис, аккуратно смоченный водой накануне. Именно аккуратно, чтобы не быть слишком влажным, но достаточно тяжёлым. Этот рис мама с тётей продавали по весу обитателям поездов и воинских эшелонов, которые останавливались на нашей маленькой станции. Вес контролировался пружинным «безменом», и это слово я не понимаю до сих пор, однако смысл водяной ловушки, спрятанной в зёрнах риса, мне был ясен уже тогда. На вырученные деньги можно было купить что-нибудь съестное в маленьком станционном буфете, и это была ощутимая добавка к тем скромным продуктовым «отовариваниям», которые можно было получить по «карточкам».
Рисовый бизнес был отработан до мелочей. У истоков его стояла бабушка, генетически завязанная старинным купеческим алтайским родом Калашниковых на частное предпринимательство, которое тогдашняя большевистская власть так тщательно зачищала после своей победоносной революции. Из старой, распоротой по швам одежды, которую называли «перелицовка», бабушка выкраивала и сшивала всевозможных размеров кепки, женские и детские шляпки, сумочки, рукавички, и другой ходовой товар. Этот товар мама и тётя успешно реализовали на «толчке» в Алма-Ате, до которой добираться приходилось иногда целые сутки, а то и дольше, рискуя попасть «в облаву». Спасением от облавы был мой старший брат, которому в ту пору было уже лет двенадцать. Ни одна поездка в казахстанскую столицу не обходилась без него, поскольку, попав в облаву, он должен был громко плакать, вызывая жалость облавщиков-милиционеров. Этот приём срабатывал безошибочно, и двух «спекулянток» с ревущим «благим матом» пацаном отпускали.
«Благим матом» брат владел в совершенстве, и, как я думаю, именно это упражнение выработало у него необыкновенной красоты тенор. «Второй Лемешев», говорила бабушка, но это было уже много лет спустя, когда в знаменитом фрунзенском ресторане «Фонтан» удивительной чистоты тенор моего брата выводил под звуки небольшого оркестра «Здесь под небом чужим, я как гость нежеланный»..., или «Над морем спускался туман, стонала пучина морская. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края»..., или «Не вспоминайте меня цыгане, прощай мой табор, пою в последний раз»...
Наш рисовый бизнес процветал благодаря бабушке и её старинной, изготовленной еще в прошлом веке швейной машинке фирмы «Гритцнер». «Наша кормилица», ласково говорила бабушка, усаживаясь за работу. Образовавшийся после реализации бабушкиной продукции небольшой капитал, две сестры-«спeкулянтки» употребляли на покупку в столице на том же «толчке» алюминиевой посуды-ложек, кружек, тарелок, кастрюль. Эта посуда пользовалась повышенным спросом в многочисленных, ближайших к нашему посёлку, рисовых колхозах, населённых «сельхозрабами»-корейцами. Эти
«сельхозрабы» не имели права покидать свои глинобитные посёлки и были отрезаны от плодов цивилизации в виде алюминиевой посуды. «Спекулянтки» умело использовали свой дефицитный товар и практическое отсутствие конкуренции, проводя безденежный выгодный товарообмен «посуда-рис», и бизнес-цикл завершался уже известной процедурой, когда потяжелевший от водяной бани рис перемещался в котелки обитателей поездов и воинских эшелонов.Только благодаря этому бизнес-циклу, позволявшему сохранять часть риса для собственных нужд, все близкие «наши» не умерли с голода.
Ну а потом к нам стали приходить «посылки» из действующей армии. В посылках было что-то необыкновенное, невиданное нами никогда, ведь наша армия уже орудовала в Западной Европе, и дальние «наши», бабушкины сыночки, к тому времени уже офицеры, усиленно помогали своим близким «нашим» выжить. «Посылки» отправлял даже мой отец-солдат, который двигался с войсками через Прибалтику в восточную Пруссию, и я помню звучное слово «Кенигсберг» из тех дней, и это слово почему-то мне очень нравилось также, как и слово «Каратал», а Каратал была степная река, протекавшая неподалёку между берегов, усеянных галькой. От Каратала ответвлялся глубокий и широкий канал, называемый гордо и торжественно «Главный Арык», и именно здесь местная ребятня спасалась от зноя, и именно здесь, не знаю как, я научился плавать и храбро переплывал на противоположный берег, который всегда казался мне таким далёким. Главный Арык уходил в степь, питая посевы риса в тех самых рисовых колхозах, населённых корейцами.
Как кончилась война
Они плакали и обнимались, обнимались и плакали-бабушка, мама и тётя, и было такое прохладное, чистое майское утро, и небо было голубым, и оба окна были открыты «настежь». А воинские эшелоны вскоре пошли в обратном направлении. «В Маньчжурию, на самураев, такое уже было, только давно», говорила бабушка, и добавляла, « не скоро ещё сыночки мои вернутся». И верно, где-то другими, обходными путями пролетели мимо бабушкины трое сыновей уже на другую, японскую войну. «Все трое, слава тебе Господи, живы-здоровы и даст Бог скоро вернутся. Упаси их, святая царица, от злой беды». Никто ещё не знал тогда, что самый младший из них, лейтенант-миномётчик, обвинённый в изнасиловании полячки, уже отбывал наказание в штрафбате.
А потом появился отец, которому уже было далеко за сорок и он по возрасту и ранению в руку был «демобилизован». Медлительный, спокойный, с могучими плечами и бицепсами, с внимательными, задумчиво-грустными глазами, с ладонями как лопаты и плохо гнущимися пальцами левой руки, он появился внезапно, а посылки от него «шли» ещё несколько недель. Каждое утро он уходил на станцию, а я шёл следом и видел, как он задумчиво долго стоял и смотрел вдаль на убегающие рельсы. «Как жить будем?» повторялось у нас по нескольку раз в день. И вот... «уезжаем, уезжаем». Уезжаем на родину, в Барнаул. Но перед тем помню, как появился высокий красавец-капитан по имени Георгий, муж моей тёти, который очень быстро исчез, увозя с собой моего двоюродного брата, а тётя уехала с оставленной дочерью в близкую Киргизию, в город Фрунзе. Я тогда, конечно, не знал, что фронтовая подруга капитана теперь стала его второй женой.
«Пятьсот-весёлый»
И никакой он не весёлый, а совсем наоборот-унылый скрипучий дощатый “воинский» сарай на колёсах, который катится иногда по рельсам, но чаще стоит среди голой осенней степи у какого-нибудь столба. «С каждым встречным столбом раскланивается», говорит бабушка. Мы всем «табором» занимаем «нары» в углу этого сарая на колёсах. В другом, дальнем углу, отгорожена «параша», через которую видны убегающие шпалы. Население сарая на колёсах-мрачные неразговорчивые люди. Если «пятьсот-весёлый» останавливается, то это надолго, и это может случиться где угодно и почему-то почти всегда среди голой, как пустыня, степи, поэтому самые яркие воспоминания об этой поездке-нестерпимая жажда, а пить нечего. Запас воды просто необходим, и на редких станциях, где «пятьсот-весёлый» бывает останавливается, люди выстраиваются в очереди у колодцев, водоколонок, водокачек, а самые ловкие и опытные умеют каким-то образом подзаправиться водой от паровоза.
Вот и Барнаул наконец, но «пятьсот-весёлый» приткнулся где-то на запасных путях, и мы всей гурьбой долго выбираемся из рельсовой паутины на какую-то улицу. Холодно и ветрено, а одеты мы совсем не по-зимнему. Отец уходит и возвращается на телеге, которую тащит лошадка, а рядом с ней идёт человек в огромной меховой шапке, солдатской шинели и сапогах. Все дети и поклажа теперь в этой телеге, а взрослые идут рядом. «Едем на гору», говорит бабушка. На горе когда-то у неё был собственный двухэтажный дом. Этот дом и теперь на своём месте, но уже давно не её собственность. Дом плотно заселён, а в двух комнатушках этого дома живёт семья её старшего сына, моего дяди, который уже вернулся с «самурайской» войны. У него жена и двое маленьких сыновей, так что мы будем «как снег на голову». Лошадка бодро пересекает широкую площадь с высокой колонной на постаменте. «Демидов столп», говорит бабушка. «Да не столб, а столп. Вот в Петербурге Александрийский, а у нас Демидов. Большевиков здешних Колчак расстрелял на этом месте». Теперь лошадка тащится в гору. «Песочный Взвоз», говорит бабушка.
Зима
Двухэтажный дом стоит почти на самом краю глубокого и широкого «яра», по дну которого далеко внизу протекает речка Барнаулка, а на противоположном берегу её хорошо видна маленькая разноцветная деревянная церковь. За «яром», где-то внизу и вдали,-россыпь огней вечернего города. Слышны далёкие гудки паровозов. И очень скоро, со свистящим ветром, пришла зима. «Буран», говорила бабушка, и я понимал, что это тот же «ураган», который остался в казахстанских степях, но только со снегом. «Вот в такой же буран погубили моего Ванечку электрические провода», всегда добавляла она, и я знал, что мой дед Иван Осипович Зотов погиб от электрического разряда в ухо, когда разговаривал по телефону из конторы спирто-водочного завода, а на телефонные провода упали оборванные бураном электрические. Бураны гудели по нескольку дней и заканчивались внезапно, как и начинались. Теперь, чтобы выбраться из дома, надо было пробиться через стену наметённого снега. Лопаты всегда должны быть наготове, а снежный коридор получается узким и довольно высоким. Яркое солнце, полное безветрие, мороз и склоны яра, занесённые снегом... На дне яра блестит лёд Барнаулки, а мы с утра до ночи без устали скатываемся по крутым склонам вниз-кто на куске картона или фанеры, и редко кто на санках.
Появился у нас ещё один бабушкин сыночек- «холостой», а о самом младшем уже всё известно, только никто не знает, когда его освободят. Живём голодно, спим вповалку на полу. Постепенно исчезают привезённые с войны германские ковры, посуда, хромовая кожа. Белый лёд, купленный на «базаре»,-это замёрзшее молоко, а чтобы получить хлеб по «карточкам» надо «чуть свет» бежать в лавку и записываться в очередь, однако эта очередь может затянуться не на один день. Мужчины с утра расходятся на работу.Хозяин комнатушек работает бухгалтером на спирто-водочном заводе, одним из владельцев которого когда-то был его отец, погибший уже после революции от электрического разряда, а где работают мой отец
и холостой дядя никто не знает. Зима была долгой, но мне казалось, что она пролетела как один миг. Прощайте снежные склоны яра, а наша семья, только без бабушки, перебирается в Боровлянку, где отец будет работать на лесопилке. Барнаульская родня с трудом скрывает свою радость-наше многочисленное семейство невольно стесняло их существование.
Боровлянка и Бийск
Стеной стоит тайга сразу за бревенчатой избой, где разместился наш табор. Местность холмистая, а в низинах полно воды. Удивительно вкусно пахнет хвоей и пилеными брёвнами-лесопилка совсем рядом.Мы часто бродим по тайге, обходя низины, и я так хорошо помню поросшие огромными деревьями склоны, траву чуть ли не в мой рост и впервые увиденные густые волны голубых лесных цветов. Раньше мне цветов не приходилось видеть никогда, и эти цветы крепко запомнились. На немногих деревенских и довольно широких улицах Боровлянки штабелями сложены брёвна. Это излюбленные места местного народа, где можно посидеть вечерком, «полузгать» семечки, покурить, поговорить, отгоняя бесчисленных комаров. Других развлечений нет, и только лихой кто-нибудь под гармошку затянет частушки, из которых помню хорошо одну: «Боровлянские девчонки не садитесь на бревно. У вас юбочки коротки, вы покажете кино». На столбе укреплён рупор-радио, оттуда почти всегда песни недавно закончившейся войны, а голос диктора большая редкость. Мне особенно нравилась напористая «Эх путь-дорожка, фронтовая. Не страшна нам бомбёжка любая. А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела», но однажды, наверное тот же самый лихой частушечник, вдруг пропел «есть у нас ещё дома жена, да не одна». После этого любимая песня как-то перестала меня трогать.
Видно что-то не заладилось у отца в Боровлянке, и мы снова трогаемся в путь. Путь оказался недалёким -выехав «чуть свет» на телеге, мы тайгой-просекой выбираемся к железной дороге, а потом, уже почти ночью, вот он-Бийск. Здесь живёт теперь бабушкин «холостой» сыночек, мой дядя. Бывший фронтовой радист, он работает в какой-то геологической конторе. «Бийск», говорит он, «это потому, что река здесь Бия, и здесь же недалеко она сливается с другой рекой, Катунью, вот из обеих их и получается река Обь. Барнаул-то на Оби и стоит». Я долго думал, как можно стоять на реке, но потом решил, что это как будто плоты стоят на воде. А плотов на Бие было столько, что и воды почти не видно было. С этих плотов дядя и мой старший брат сноровисто ловили «на малька» крепеньких небольших щучек, а я сидел рядом и чувствовал, как плавно колышатся под нами брёвна плота.
Письмо
Письмо пришло из Барнаула от бабушки, но в конверте оказались вложенными ещё два-одно от тёти, а другое от фронтового друга отца. Оба письма были из города Фрунзе. Помню, что взрослые сразу взбодрились, стали чаще собираться вместе и что-то обсуждать очень важное. Появилось слово «перспективы», и относилось оно к моему отцу и дяде, и вскоре опять уже знакомое «уезжаем, уезжаем»... Я тогда не понимал, что ещё одну зиму на Алтае мы просто не пережили бы-германская поддержка давно истощилась, а хорошо изученный алтайский зимний голод заставлял что-то предпринимать. В этих письмах, видимо, было что-то важное, что заставило наш табор снова двинуться в дорогу. Лето было в разгаре, второе послевоенное лето, если не считать самурайской скоротечной войны. Мы опять в Барнауле, но только лишь для того, чтобы забрать с собой бабушку, и я видел, что она, непонятно почему, тихо радовалась этому. Кормилица «Гритцнер» была бережно упакована среди мягких подушек, и вот тёплый вечер, и опять телега, и близкие свистки паровозов, и рельсовая паутина, и знакомый уже «пятьсот-весёлый». Едем...
На Юг
Опытные обитатели «пятьсот-весёлого» мы запасаемся водой перед тем, как попасть в просторы необъятной казахстанской степи. Мы едем «на юг». Зной нестерпимый, а «пятьсот-весёлый» своего характера не изменил, и задумчиво подолгу стоит среди этой степи, ожидая свободного пути, чтобы проскрипеть хоть немного до следующего «разъезда». Нашу станцию Уштобе «пятьсот весёлый» проскрипел ночью. Но самое страшное-это предстоящая «пересадка», о которой взрослые говорят очень часто, не скрывая своей тревоги. И вот она, эта «пересадка». Мы выгружаемся из своего сарая на колёсах и размещаемся под «открытым небом», то есть прямо на земле у стены какого-то уже станционного сарая. Маленькая станционная постройка рядом, но попасть туда невозможно даже с детьми-всё забито народом до отказа и все ждут, когда же удастся пристроиться к проходящему поезду, но поезда в сторону тупикового Фрунзе большая редкость и посадка на них идёт «в порядке очереди». Очередей этих две-одна на посадку, а другая на место под крышей станции, освободившееся после отъезда счастливчиков, дождавшихся своей очереди. Вообще-то Фрунзе уже почти рядом, каких-то километров сто, как говорят взрослые, и можно рискнуть добраться туда на лошадях или верблюдах, но незнакомые места и необычность положения настораживают отважиться на такой шаг.
Ночами мы лежим под звёздами, а небо часто перечёркивается светящимися трассами сгорающих метеоров. Пока этот яркий след не исчез, надо успеть загадать какое-нибудь «самое-самое» желание-и оно непременно сбудется. Ночи тёплые, и мы засыпаем под писк комаров, но дня через три перебираемся под крышу станции. Пыльные окна никогда не открываются, и всё светлое время суток лучше быть на «воздухе», как говорит бабушка, которая сидит на своём «сундуке» и практически никогда не покидает наши узлы, мешки и сумки, сваленные в углу. Мы питаемся яблоками и арбузами, которыми «завалены» длинные деревянные столы и плотно утоптанная земля вокруг них-пристанционные «торговые ряды». Цены на эти невиданные нами никогда продукты местной природы баснословно низкие, и я вижу, что взрослые удивляются и радуются. Кроме того, арбузы и яблоки, потерявшие товарный вид, но ещё вполне пригодные для употребления, можно без труда собрать на ближайшей фруктово-овощной свалке. Наконец-то очередной «пятьсот-весёлый», который на редкость достаточно быстро добирается до небольшой станции Пишпек, а это уже практически Фрунзе.
Пожарка
Фронтовой друг моего отца, киргиз Раимбай, или Рома, с которым они всю войну управляли счетверённым «станковым» зенитным пулемётом, охраняя прифронтовой аэродром от налётов вражеской авиации, теперь служит в Свердловском райкоме партии. «Блат выше Совнаркома», говорит бабушка, потому что отец становится начальником караула городской пожарной команды или «пожарки», как её здесь все называют, а мы с «комфортом» размещаемся на складе устаревшего пожарного инвентаря. Старые пожарные насосы или «помпы», изношенные тележные колёса, дырявые пожарные бочки и другой хлам перетаскали на задворки обширного пожарного двора, туда, где располагалось подземное овощехранилище с запасами квашеной капусты, солёных огурцов, помидоров и арбузов, картофеля, лука, сухих кукурузных початков, засушенных яблок и других плодов природы, собранных с общественных загородных «соток» поливной киргизской благодатной земли. Вырубленные ступени земляной лестницы уходят глубоко вниз до самой двери, увенчанной висячим замком внушительных размеров, а в самой середине едва выступающей над землей и двускатной земляной же кровли установлена деревянная прямоугольная труба с металлической воронкообразной нашлёпкой на верхнем конце. Если подобраться к этой воронке поближе и принюхаться, то такого необычного запаха больше не найдешь нигде.
Теперь у нас просторная комната с плотно утоптанным земляным полом, двумя окнами и большой дырой в потолке, через которую видна крыша из крепко связанных пучков камыша. Караул «пожарки» находится на дежурстве полные сутки, но караулов три, поэтому двое суток отец относительно свободен, если не случается чрезвычайных пожаров, когда вызываются все караулы и даже более дальняя «пожарка» с местного мясокомбината. Дыра в потолке быстро исчезает, и в комнате появляется аккуратная «русская» печь с плитой и «подом», где можно выпекать «подовой» хлеб, но для этого нужна мука, которой нет и в помине. Печь зимой будет отапливаться «торфом», огромные штабеля которого высятся под навесом у забора, отделяющего пожарку от улицы Киргизской. Комната перегораживается занавеской, а вдоль стен установлены «топчаны». Это настил из неструганых досок, положенных на низкие кирпичные перегородки.

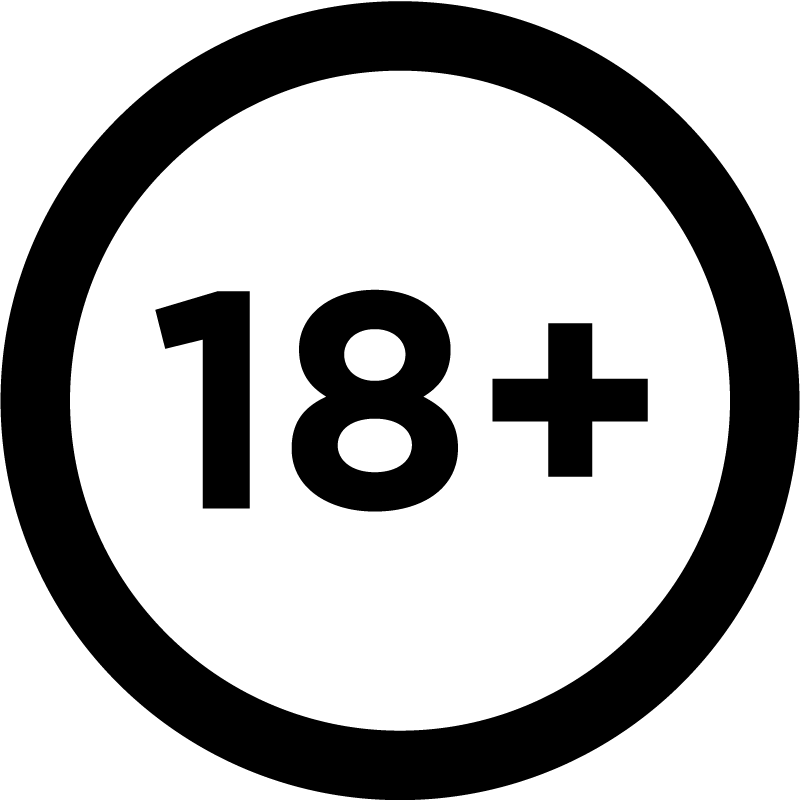 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.