Сознавать себя можно определённой формы
куском льда и водой. В первом случае солнце – зло,
во втором – величайшее благо.
Л. Н. Толстой.
Петушки — это то место, откуда начиналась вселенная. Начиналась для меня. Сам этот момент, момент рождения моей вселенной, — отчётливо врезался в памяти, навсегда в ней и остался. По всей вероятности, было мне тогда чуть больше года. Или что-то около того. Я уже был, но как бы ещё и не был. И вот вдруг случилось чудо: всё то, что было не мной, пугающе неожиданно заполнилось возбуждённо-радостным существом, своей громадностью потрясшим всё моё естество. Как мне теперь представляется, это был дед. Ещё мгновение, и его могучие ручищи вырвали меня из небытия: я полетел на этих руках и уткнулся носом в холодное стекло и впервые в жизни услышал ликующее:
— «Снег!!!»
И это было уже новое потрясение, куда сильнее и глубже прежнего, — передо мной было само пространство. Необъятное и белое пространство. В чистом виде. Хоть оно и было чем-то наполнено, но я тогда ещё не знал, что это такое. Сирень, палисадник, лавочка перед ивой, дома через дорогу, земля, далёкий лес, небо. Всё это мне только предстояло узнать и наполнить всем этим это самое пространство. А в тот момент передо мной было это белое и необъятное, и я в него сразу поверил. Поверил, чувствовалось, раз и навсегда. И, поверив, я начал быть, потому как это пространство света невозможно было ничем заполнить до конца, заполнить так, чтобы пространства не стало. Оно вмещало в себя всё. «Есть оно, — есть и я…»
Наша изба — обычная владимирская изба в три окошка со светёлкой — так и стоит на своём месте. Я могу в неё войти, подойти к тому самому окошку, могу присесть на корточки и смотреть на тот же снег через то же, пахнущее холодом стекло. Только никакого чуда уже не происходит, всё в жизни бывает только раз.
Сейчас-то я знаю не только что, где и как в самих Петушках, но и что за тем дальним лесом, что там дальше, за горизонтом. Я знаю, как устроена Земля, как выглядит наша Галактика. Американцы уже сфотографировали край Вселенной, и этот край так же существует в моём представлении, как и тот белый снег. Но там, на краю, пространство чёрное. И там я — по чувству своему — уже не начинаю, а перестаю быть, превращаясь в ничто. Поэтому порой по-детски хочется обратно, где всё начиналось, но нельзя — Время.
Второе сильное воспоминание как раз и связано с ощущением времени. Воспоминание, как чуть не утонул. Запах речки, гладь воды, янтарно-коричневая игра света, блики, камушки на дне. «Восторг первых ощущений бытия». И то ли в подражание кому-то, то ли по собственному побуждению я зачем-то ложусь на воду вниз лицом. Ноги отрываются от грунта, и я плыву. Но я не знал, что там нельзя дышать, я, видимо, вообще не знал, что я дышу. Воздуха мне сразу же не хватило, нужно было поднять голову, для этого нужно оттолкнуться рукой от дна. Я тянусь рукой вниз, головой вверх, и ничего не выходи: ни голову поднять, ни рукой дотянуться. Ужас задыхания… Время от времени мне вспоминался этот ужас, но тогда я ещё не научился придавать значение воспоминаниям. Это потом уже бабушка как-то случаем рассказала, как тонул я раз за больничным бором в Берёзке. Барахтался я маленькой нашей речке, где была сделана для купания детей небольшая запрудка. Было мне два года. Это бабушкины слова:
— «Где-то отвернулась чуть, глядь, — а мой-то тонет», — глаза её в ужасе округлялись.
— «И чего?»
— «Чего, вытащила, а так бы и утоп. Чего, главное».
До этого никакого времени как будто и не было. А оно было. И когда его стало не хватать, когда я сам себе его нечаянно ограничил, я осознал его реальность. И оно началось, оно пошло, отмеряя мне срок. И когда-то его не хватит, и бабушка уже не вытащит. Об этом не хочется думать. Тем паче, что его всё равно не хватит. Как его может хватить?! Иногда я хожу на то место, в больничный бор, но там со временем всё заросло и переменилось. Речушка спряталась в кустарнике. Оттуда за деревьями уже совсем не видно церкви.
И для бабушки, и для многих и многих в Петушках время уже закончилось. Так мне кажется. А значит, когда-то оно и для них началось, точно так же, как и для меня. Когда ходишь по петушинскому кладбищу и видишь знакомые лица на памятниках, безразлично глядящие в никуда, невольно думается, что время уничтожает всё. Я люблю бывать на кладбище осенью, когда синева и золото листьев создают какое-то особенное, щемящее настроение и располагают к умиротворению.
Как-то я бродил там, о чём-то вспоминал, думал о чём-то своём. Совсем не о смерти. И вдруг совершенно отчётливо осознал, что смерть, да, — уничтожает всё, но она же и создаёт смысл, потому что нет ничего бессмысленнее бесконечности, бесконечного времени, бесконечного делания. Смысл — это всегда законченность. А какую ещё можно придумать для жизни законченность?! «Лучше смерти не придумаешь». Хотя до этого момента мне казалось, что всё наоборот, — смерть делает всё бессмысленным: что бы ты ни делал, всё равно умрёшь, и все умрут, и всё исчезнет. Вместе со смыслом, со всяким смыслом. Выходило, исчезает не всё. Что-то не исчезает, а, значит, и не возникает. А если и смерть, и бессмертие одинаково для жизни бессмысленны, то так же для неё должны быть безразличны. И время должно быть безразлично. «Или что-то мы не так понимаем».
Свихнуться можно было. Так оно и осталось: то так кажется, то этак. А эти с памятников смотрят, как когда-то при жизни глядели с фотографий своих паспортов, без всякого выражения. Вот они, мол, мы. И ничего больше. Разве что тень ехидства почудится порой в каком-нибудь из молчаливых взглядов. «Интересно, им-то там, в другой жизни, что-то открылось или нет?» И ведь, скорее всего, нет. Я-то когда здесь осознал себя собой, ничего мне ни о какой прошлой жизни не открылось. Или я не понял этого открытия…
Лучше об этом совсем не думать. Додумаешься до чего-нибудь вроде полной бессмысленности всего и вся, — что вообще отбивает всякое желание думать. Отбивает напрочь. Но всё же это поразительно, что тогда, в возникшем перед холодным окошком сознании бытия, то есть в сознании себя самого, совершенно не было заложено сознания небытия, то есть конца, или, проще говоря, той самой смерти.
Отрицать, что люди не умирают, конечно, нелепо, но я совершенно не могу вспомнить, когда я положительно узнал, что и я тоже умру. Это знание как-то само просочилось вместе со всеми остальными знаниями. Но осознания своей смертности за десятилетия жизни так и не пришло. И это, надо заметить, доставляет массу неприятностей. Это вопиющее противоречие знания и сознания, бывает, раздирает душу на части. Естество бунтует против разума. Оказываешься сам с собою не в ладах. Не говоря уже о том, что в таком состоянии всё вокруг становится постылым. И звуки, и запахи, и сам воздух, их вмещающий. И сами Петушки…
Иное дело — чистота и радость первых ощущений жизни. И для меня всё это было тоже там, в Петушках. Это были сами Петушки. Именно там происходила самая важная в жизни работа, работа по наполнению себя миром. Это было потрясающе. Ничего подобного по силе этих самых ощущений я никогда больше в жизни не испытывал. Никогда. Я в этом так уверен, потому что бывали в жизни моменты, когда вдруг на мгновения ко мне, взрослому, возвращалось детское восприятие мира, и я испытывал настоящее блаженство. Возвращалось на мгновения, это правда, — тут же всё и исчезало, растворяясь в настоящем, — но какой то был мир! Чудо!
Описать, как мир детства был устроен, из чего был соткан, — практически невозможно, потому что всевозможных нитей и узелков там было без счёта. Передать словами ощущения, возникающие при этом, нереально в принципе. Можно ли передать словами, как пахнет первая в твоей жизни оттепель?! Да это и не нужно, я думаю. Каждый человек знает это из своего собственного опыта. Будь это что угодно: божья коровка на травинке, трещина на разогретом солнцем бревне или шум дождя, — все эти первые ощущения наполняли меня, как влага губку, и формировали образ мира, складывая меня самого таким, какой я есть. «И мир уже другим не будет, — верил я. — И я не буду». И в том виде, в каком он был мне даден, мир казался мне прекрасным. Я так в этом убеждён, потому что стоит только направить туда луч памяти, и он не высвечивает там ничего дурного. Мало того, мне представлялось, что мир везде и всегда такой же. Он по определению не мог быть другим: везде то же небо и те же звёзды.
«Однако с годами, — я и сам не заметил как, — мир мой стал блекнуть». Каким-то неведомым мне образом я пришёл к убеждению, что мир наполнен ужасом и кошмаром ненависти. Что миром правит несправедливость. Что вся человеческая история — это история войн и крови. Что борьба за выживание — это естественный закон эволюции, то есть закон этого самого мира, и закон непреложный. Что мы совершенно бессильны перед роком судеб. Что каждую минуту меня поджидает закономерная или случайная смерть. В это трудно поверить, только каким-то образом меня убедили даже в том, что я умру. Что меня навсегда не станет. Не станет навсегда! Мало того, что само человечество когда-нибудь вымрет. Что когда-нибудь перестанет биться сердце последнего человека. (Я даже пытался представить себе это последнее «тук-тук».) Потом и Земля сгорит, Солнце взорвётся, и, в конце концов, всю пыль нашей Галактики поглотит Чёрная дыра. Кто-то всё это смахнёт тряпкой, вместе со мной, как мел с доски…
И на самом деле, не мог же я сам всё это выдумать, значит — убедили. Как-то убедили. Но как? Кто?.. И убедили настолько, что мне много лет подряд, каждый божий день предстояло просыпаться в эту жизнь с диким ощущением её ужаса. Вернее, ужаса своего собственного положения, положения приговорённого, в своём бессилии мысли не понимающего, кем, за что и чего ради. И жить только тем, чтобы стараться не поддаться этому отчаянию…
Вначале ведь всё было иначе. Слово «вначале» всегда меня отправляет в те, мои, Петушки, в самое начало. У нас на чердаке, засыпанном для тепла сухим мхом, среди таинственных каких-то предметов и приспособлений, хлама и пыльных банок стоял ящик, прикрытый дерюжкой. Большой ящик. В ящике были книги. Какие точно, не помню. Запомнились почему-то только учебники по гинекологии и «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Как занесло в Петушки Эразма, одному богу известно, но пахло от него очень соблазнительно: книжной пылью и плесенью. И я стал читать «Похвалу глупости». Думается, главную роль в этом моём выборе сыграли тогда картинки. Где ещё я мог тогда увидеть средневековую гравюру?
Читать я научился лет в пять, значит, тогда мне всего-то было не больше шести-семи. Но всё-таки я осилил целую книжку, прочёл до конца. Как смог, так и прочёл. Наверняка ничего почти не понял. Но где-то в подкорке у меня навсегда засело, что самое недоброе, что может случиться с человеком — это его собственная глупость. Я так и думал: «с человеком», не со мной. Отчасти этим, видимо, и объясняется тот факт, что я стал хватать всё, что только можно было где-то вызнать или выспросить. По словам бабушки меня даже прозвали за это «прокурором». Бывало, заложив руки за спину, я спрашивал:
— «А это что?»
— «Мостки».
— «А зачем они?»
— «По грязи чтоб не ходить, вот и положили».
А завершал всегда неизменным вопросом:
— «Откудова знаешь?»
Мог остановиться возле незнакомых взрослых, долго их слушать, так же заложив руки за спину, а потом начать всерьёз с ними спорить. А из садика воспитатели отдавали меня матери с убедительной просьбой хоть что-нибудь со мной сделать, чтобы я не задавал столько вопросов. (Когда сейчас вспоминаешь об этом, делается за себя неловко.) И вот, пройдя весь путь образованности до конца, как мне казалось, — через садик, школу и институт, всё время как бы убегая от этой самой глупости, — я пришёл, как оказалось, к полной и совершенной глупости: перестал вообще что-либо понимать в этой жизни. «А как, интересно, ещё-то было от неё убегать!?»
Я спрашивал себя, ну вот конец вселенной, а за ним что? — Другие вселенные, а за ними что? — Что-то. А за этим что-то? — Ещё что-то. А если ответишь ничего, так это опять что-то, потому что это — это. Какая разница, как это обозвать, «что-то» или «ничто». Языковые фокусы. То же и со временем. После этого будет то-то, а после ещё что-то и ещё что-то. И попробуй опять представить, что за этим что-то — ничего. «Что-то» никак не хотело у меня соседствовать с «ничем». Все эти бесконечности, это была какая-то полная бессмысленность.
Пускай, «Я» — это смысл. И этим самым «Я» я как будто назначаю смысл всему, что в состоянии нести в себе хоть какой-то для меня смысл. Хотя бы тем самым секундам, которых мне тогда хватило, чтобы не утонуть. Но это всё равно не выход, разум тебя уже не отпускает: а в чём смысл этого? — в том-то, а этого? — в том-то. А в чём смысл жизни? А в чём смысл всего? А в чём смысл смысла? К моему «Я» ничего от этих построений не добавлялось. Ни до, ни после, ни вперёд, ни назад, ни по сути, ни как-нибудь ещё. Я и я — и всё тут.
— «Ты вечное «Я» или конечное?»
— «Я — и всё тут».
— «Ты большое или маленькое?»
— «Я — я, и всё тут. Просто «Я», и вокруг чёрт знает что, полная бессмыслица, каковая обессмысливает и само это «Я».
От этого можно было сойти с ума, а можно было как-то развлечься, к примеру, пойти с друзьями в лес, жарить шашлыки и пить водку. Ещё бы действеннее было впасть в безумие влюблённости. Однако по какому-то необъяснимому наитию я не сделал тогда ни того, ни другого, а поехал в Петушки. И, о чудо, нашёл там ту самую книжку, никто её не зачитал. Эразм Роттердамский «Похвала глупости». Я прочёл её на терраске в один присест. И был окончательно задавлен и убит. Неужели действительно миром правит глупость, и мир — глупость, и я сам со всей этой своей жизнью — глупость? «Нет, уж лучше жестокий закон эволюции. Лучше бы меня кто-нибудь попытался съесть, а я бы не давался. И может, сам бы кого съел. Только бы ни о чём этаком не думать». Но я думал, и чем больше думал, тем сильнее чувствовал себя самым хитрым, самым злобным, самым коварным и вероломным животным на планете. И самым несчастным. Терраска показалась мне самым нелепым местом, в каком только можно оказаться. И всё, на что бы я ни посмотрел, начинало превращаться в нелепость. И чем дольше я останавливал на чём-то взгляд, тем нелепее это «что-то» делалось. Жалко, что там не было зеркала. Теперь бы мне очень хотелось знать, каким бы я увидел тогда своё собственное отражение.
Теперь уже не вспомнить, что там было дальше. Видимо, я пошёл куда глаза глядят. Помню себя уже на задворках. Я шёл по просёлочной дороге к больнице, как раз в ту сторону, где я когда-то тонул. У нас там белый песок, который в некоторых местах взбивается колёсами машин до состояния белой пудры. Нет ничего приятней, чем загребать босыми ногами эти тёплые и нежные лужицы пудры. Я об этом было и подумал, но разуваться не стал. Хотения, видать, тогда не достало. Я шел и раз за разом повторял бабушкину фразу: «И жить не хочется, и умирать не хочется, хоть бы волки, что ли, съели».
Как раз по дороге там стоит курган. Над крутым берегом заросшей Берёзки. Детьми, когда проходили мимо, мы всегда забегали на его вершину. Не знаю, что нас заставляло это делать. Там на самый верх вела по спирали дорожка, но нам почему-то нравилось взбираться прямо по круче. Я побродил возле, удивляясь, какой он на самом деле небольшой, и стал подниматься наверх. По дорожке. В руках я так и держал зелёную книжку Эразма. Я машинально её пролистал, и она открылась на страничке, заложенной старым календарным листком, только теперь он уже лежал обратной стороной. На нём выцветшими рыжими чернилами было кем-то написано: «Познание должно быть основано на ваших переживаниях». Меня как громом поразило: «Ну, конечно, какой там Большой Взрыв?!» Не знаю, почему именно этот взрыв меня так возмутил тогда, но возмущению этому, помню, не было предела. Видимо, вычитал где-то что-то накануне. «Учёные и теологи слились-таки в едином экстазе: и те, и другие теперь утверждают, что ничего не было, а потом вдруг стало. А вот авторство деяния одним безразлично, а другие в нём и не сомневаются. Никогда и не сомневались. И понять теологов можно, но учёным-то это зачем? Теория бессилия? Вообразить себе что-то без начала и без конца — очень сложно, конечно. Но ведь это уму непостижимо: мало того, что учёные придумали свой собственный Символ Веры — Большой Взрыв, они ещё и пытаются подвести его под фундамент всего научного знания, превращая его, по сути дела, в веру. Странно, что наука ставит себя в такое беззащитное перед невежеством положение. Что там в чём и где взорвалось?! Что там у них из чего слепилось?! Кварки — шкварки».
Как и любознательность, бессмысленность имеет свой предел. И когда он наступает, Большой Взрыв происходит в голове. Видимо, я тогда и сподобился. Ощущение не было отрицательным. Со мной происходило что-то хорошее. Я стоял на кургане, а курган стоял посреди нашего детского «царства». Вокруг были наши дома, наши вечные дома, и наши поля, и лес, и овраги, по которым бежит наша вечная речка Берёзка, и за ней были наши вечные церковь и кладбище. Надо мной было то же наше небо. И я полной грудью вдыхал вечный воздух, который, как и во все времена, шумел в кронах деревьев. Казалось, что дышишь не лёгкими, а всем нутром, всеми фибрами души. И вдыхаешь не только воздух, а всё-всё, что в этом воздухе обитает… Это была не нелепица, и не случайность. По ощущению это была сама твердь жизни. Это была сама жизнь. Вечная.
Это неправду говорят, что вся жизнь пролетает перед глазами только перед казнью. Передо мной точно так же вдруг промелькнули мириады воспоминаний и переживаний. И представить себе не мог, что столько всего помню. Именно тогда я вспомнил и про снег за стеклом, и как окунулся в речку и ещё много и много чего. Только раньше всё это было навалено в памяти как попало. А теперь само собой стало расставляться по своим местам, стали устанавливаться связи одного с другим, стало из всего этого выстраиваться нечто цельное и осмысленное. За какие-то мгновения. Я чувствовал это, чувствовал сам процесс. После сумасшедшего напряжения мысли я как будто впервые осознал всю свою жизнь целиком. Всю жизнь, вместе со всем, что с нею было связано. И даже с тем, что ещё только будет. Со всем тем, что только может в этой жизни быть. Озарение длилось какие-то мгновения. На какой-то миг я вместил в себя столько времени, сколько ни одна человеческая жизнь вместить не может. Оставалось только прочесть. Именно так и казалось: всё есть, осталось только это всё изложить словами. Но сил тогда уже не достало, ни душевных, ни мыслительных. Забегая вперёд, скажу, что их так никогда в достаточном количестве и не достанет. Они постоянно и настойчиво расходуются на что-то другое, оставляя надежду, что когда-нибудь, в будущем… Может быть… Надеждой, впрочем, и жив человек.
Зато я тогда сделал самое, как мне кажется, главное в своей жизни открытие. Посредством памяти время само себя отражает в прошлом, а потом из прошлого отражается в настоящем. Причём в десять секунд воспоминаний ты можешь уложить десять лет жизни. Или, наоборот, можешь растянуть мгновение на минуты и на часы, даже на месяцы. Таким образом можно было увеличивать количество времени по своему произволу, хоть до бесконечности. Становилось возможным проживать века и века и столько раз, сколько тебе заблагорассудится. При этом, отражаясь само в себе, время не только теряло обычную свою линейность, однонаправленность и неповторимость, оно само себя структурировало смыслом. И каждый раз ты приходил совсем к другим смысловым результатам, потому что таким нехитрым способом поднимался совсем на другие уровни понимания, с которых опять же открывались удивительные перспективы на прошлое.
Каким-то неведомым образом это меняло главное свойство времени — неумолимое приближение к смерти. Главное свойство по ощущению… До этого я подобные фокусы наблюдал только с пространством, когда меня водили на «Станцию» стричься. Там в «Парикмахерской» были большие зеркала на обеих стенках, и вся эта комната, вместе с нами, уходила, повторяясь и повторяясь, в бесконечность. Меня всегда и стригли в этой «бесконечности», из которой как раз таки хотелось выбраться в привычный «конечный» наш мир, и побыстрее.
Тут же меня где-то фотографировали, освежённого «Шипром», с новым чубчиком и с бутыльком от «Шипра» в руке, чтоб, наверное, не плакал. На неизменном плетёном стуле. Со стороны я себя и помню только по этим фотографиям. Вместе со стулом. А то бы всего-то и осталось: бесконечное отражение зеркал и запах «Шипра». До сих пор этот запах ассоциируется с бесконечностью… Странно, но в самом раннем детстве я почему-то совсем не помню лиц. Люди, как что-то внешнее, появились гораздо позже. О них я дальше и собираюсь вспоминать.
Есть я, есть мир, есть люди. И тогда были я, мир и люди. Но тогда я гораздо сильнее зависел от людей, меня окружавших. И зависимость эта была не в еде, защите и попечительстве, а в том, что они в те времена делали меня мной. Они наполняли, наполняли и наполняли моё «я». Надо сказать, наполняли в значительно большей степени, нежели это делал мир. Хотя я-то как раз и был занят познанием мира, а не людей. Это теперь я могу сказать, что люди — это гигантская часть мира. Я даже могу сказать, что есть я и люди, а мир — это то, что между нами, и не более того. Бесконечная же вселенная по своей сути всего лишь тонкая сущностная прослойка между мной и тем человеком, которому я посмотрел в глаза. И ничего качественно нового мы никогда о мире не узнаем, как его ни изучай, как его ни исследуй, как ни описывай, в какие глубины макро или микрокосмоса ни залезай: познавая мир, я познаю только человека. И эта разделённость и то, что нас много, и то, что мы такие разные и одновременно такие до жути одинаковые, — для меня это самая удивительная загадка в этом мире. Оговорился: в этой жизни, а не в этом мире. Мир — лишь незначительная составляющая нашей жизни. И опять оговорка: не нашей жизни, а моей, нет никакой «нашей». Меня это поражало с самых ранних лет, почему «я» это именно я, а не моя сестра, например. Я смотрел на сестру и думал, что это для меня она, такая вот, — моя сестра, а изнутри она такое же «я», как и «я» во мне. Это казалось очевидным, но в это чрезвычайно трудно было поверить, а ещё труднее было представить. Меня с ней уравнивать мозг отказывался, потому что я был изнутри, а она снаружи. И знать её, и общаться с ней я мог только через эту самую «наружу». Невозможность эта — заглянуть в другое «я» — изводила меня так, что мне стали сниться сны, как каким-то чудесным образом моё «я» переносилось в другого человека. Во сне я испытывал невероятный восторг, но, проснувшись, я тут же понимал, что и в другом человеке я оставался всё тем же моим «я». Мне никогда не стать другим «я», в кого бы я ни залез. Моему детскому горю и недоумению не было предела.
Пришлось, однако, жить с тем, что есть. И всё-таки до сих пор любопытно, все эти «я» складываются изнутри в какое-то большущее «Я», как люди снаружи в человечество, или так и остаются одним своим собственным маленьким «я»? Попробуй ответить! Впрочем, вопрос, на который можно ответить, это и не вопрос вовсе, а игра в поддавки. Будучи совсем малым, я жил среди детей, подростков, женщин и мужчин, дедушек и бабушек. И спустя почти полвека вокруг всё те же дети, подростки, женщины и мужчины, дедушки и всё те же бабушки. Иногда бывает забавно поймать себя на подобной мысли. Но совсем не забавно вдруг осознать, что это они снаружи всё такие же, а изнутри они стали совсем другими. Совершенно другими. Произошло это как-то незаметно. Совсем незаметно. Но те петушинские, из детства, люди всё же отличаются от нынешних, как американские, например, аборигены отличались от приплывших с Колумбом европейцев. А ведь в те далёкие времена были и пересечённый впервые океан, и разные континенты, и разные цивилизации. А тут — всё на моей памяти, до всего рукой подать, даже и ландшафты практически всё те же, а только между теми людьми, что в воспоминаниях, и теми, что окружают, — целая пропасть.
«Почему?»
«Когда и как это случилось?»
«И почему я этого не заметил?!»
Я никуда далеко не отъезжал. Мало того, при каждом удобном случае, при каждой возможности я сразу приезжал в Петушки. Родители забрали меня оттуда в пять лет, путешествовать по военным городкам и получать образование. Но на все каникулы и на всё лето я возвращался. Сам ехал до Москвы, там до Курского вокзала: электричка Москва — Петушки, — и со станции, как правило, пешком. Хоть там и ходил автобус, который называли «Дуня», однако гораздо чаще почему-то я сам пёр свой чемодан до дома, три километра. Три самых радостных километра. По улице Ленина до церкви, потом направо и, по деревне, до своих трёх окошек. Буквально впитывая в себя самые свои любимые звуки и запахи.
Можно сказать, что я никуда оттуда и не уезжал, но всё равно ничего не заметил. Видимо, когда ты сам в каком-то процессе, ты не понимаешь и не замечаешь этого процесса. Необходимо, чтобы он завершился, и создалась разница начального состояния и конечного. Как разница потенциалов. И только тогда между потенциалами простреливает вдруг разряд, как вспышка озарения. И то, что казалось застывшим и неизменным, оказывается вдруг не просто рывком вперёд, а каким-то завораживающим качественным скачком, природу которого невероятно трудно осознать.
Возвращаясь вспять, — из того, что я пережил и знал сам, а также слышал о петушинцах из рассказов, — очень нетрудно было понять, что всё это произошло буквально в течение нескольких поколений. Насколько я знаю, по материнской линии все мои предки — приклязьменские крестьяне. Поколение наших прадедушек и прабабушек — это настоящие крестьяне. Бабушка и дедушка — половина на середину: переделываемые крестьяне. Родители совсем уже не крестьяне, но воспитаны были в среде крестьян и полукрестьян. Моё поколение — вовсе не крестьяне. И воспитывалось моё поколение в большинстве своём уже не крестьянами. Мне повезло, я воспитывался у бабушки, и меня напоследок овеяло тем уходящим крестьянским миром, которого как-то вдруг не стало. Да ещё овеяло и в детстве, в самый главный период становления человека. Чуть зацепило былой жизнью, если так можно выразиться. Я имею в виду даже не столько их образ жизни, сколько их сущностную систему ценностей, их отношение к жизни и к себе самим в этой жизни.
Сейчас я понимаю, что дело было совсем не в переходе родителей из одного социального слоя в другой. Дело было в том, что тогда все те, бывшие, перековывались в этих, нынешних. Как-то совсем для себя незаметно я стал делить людей на тех, что были, и тех, что стали. И действительно, мне довелось стать свидетелем кардинального поворота, который в человеческой истории, по сути дела, и сравнить-то не с чем. Конечно, такое уже случалось — когда-то люди перешли от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Это должно было быть тоже чем-то грандиозным по своему значению для человеческого самосознания. «Но кто это помнит? Когда это было!» Тем более что люди тогда остались в Природе. У них сохранилась всё та же система биологического воспроизводства жизни, биологически же и регулируемая. С нашей точки зрения можно только догадываться, как и что там было, но в человеческом сознании тогда тоже изменилось что-то очень здорово. Тот скачок сразу дал мыслителей и поэтов, определивших дальнейшие пути развития всей нашей культуры. Тогда же родились все современные религии. Тогда же зародились основы государственности, которая, породив сотни государств, благополучно просуществовала и по сей день. И мораль, и вся система человеческих ценностей, образовавшиеся после того перелома, просуществовали тысячи лет. До наших, по сути, дней. И только сейчас, в новейшей истории, всё двинулось с места и поплыло, обозначившись двумя мировыми войнами. «Обозначилось войнами и поплыло. Интересно, это совпадение, или это больше, чем совпадение? Воевали ведь всегда». Но как бы там ни было, теперь мы перешли (или были переведены) на производственно-промышленный способ воспроизводства жизни. И это в корне меняет самого человека, человеческие отношения, отношения между человеком и миром. «Какие же невероятные и необратимые изменения должны произойти в нашем нынешнем самосознании в связи с этим переходом!? И кто наметит пути? Да бог с ними, с путями. Кто бы просто объяснил, что к чему».
Как-то бродил я среди заброшенных полей, где когда-то «мир» выделял всем петушинцам их земельные наделы, с которых они и жили. Бродил, сожалел, что пропасть земли поросла теперь сорняками и березняком, и думал о том, что вся запутанная, многосложная и многотомная история человечества — на самом деле была историей этого самого перехода, который завершался практически у меня на глазах. Здесь, в России, в Петушках. Для меня это было откровением. И я себя убедил, что когда-то в будущем людям будет интересна не история войн, государств и правительств, интересным будет именно это: чем отличались те люди, которые жили в Природе и с Природой, от современных, которые живут рядом с Природой или на месте Природы.
Насчёт людей я, скорее всего, лукавил. На самом деле, интересно было мне самому. С тех пор исследование того, чем отличаются люди «те» от людей «этих», стало для меня чем-то вроде навязчивой идеи. Ни о чём другом я просто не мог думать. Потому, быть может, что видел в этом залог того, что и мне, против всех временных законов, хоть чуть-чуть приоткроется, чем люди эти будут отличаться от людей будущих, снова каких-то других, до которых мне уже не дожить. Дело в том, что разница между прошлым состоянием, настоящим и будущим открывала бы разуму гораздо большие возможности, нежели просто разница между прошлым и настоящим. «Всё поближе к какой-то осмысленности». Занимаясь этим, чувствовал я себя выше всех и вся. Только длилось это весьма недолго.
Есть у нас там Колодчик. Это ключ, бьющий прямо в овраге, возле самой Берёзки. Когда-то раньше, говорили, над ним стояла часовня, туда даже ходили крёстным ходом, служили молебны и всё такое. Скорее всего, и у язычников это было место сакральное. Сейчас же там просто короб с крышкой, где люди набирают чистой воды для питья. Коль скоро идёшь мимо, не зайти было нельзя. И я однажды спустился в овраг и открыл крышку. Под слоем прозрачнейшей воды ключ клубился илом и серебрился малюсенькими кусочками слюды. По поверхности плавал осенний лист. Пахло прелью оврага и водой. Я умылся и попил воды, такой холодной, что ломило зубы. По поверью, если помочить в «Колодчике» тряпицу, омыть ею больное место, а тряпицу привязать на соседнее дерево, — боль на ней и останется, а болезнь уйдёт. Увидал я тогда эти сотни и сотни тряпочек, которыми были обвязаны и обмотаны вокруг деревья, и не то чтобы подумал о тех людях, которые здесь бывали, а каким-то образом почувствовал все те миллиарды людей, которые теперь, в данное мгновение, живут по всей Земле. Я почувствовал и тех, кто умер. Миллиарды. Каким-то образом я почувствовал даже тех, кто ещё только будет жить. Тоже, может быть, миллиарды. Я почувствовал все их боли, мысли, страхи, переживания, откровения, страдания, надежды. Всё это — в целом, как своего рода космос. Это никак не вмещалось в мои схемки, какими я пытался очертить для себя человека. Там, на дне оврага, я был просто задавлен той неподъёмной задачей, на которую замахнулся. Я был обескуражен и убит. Я почувствовал тогда, что часть никогда не вместит целого, что ложкой океана не вычерпать. Даже и не человека я хотел постичь, а сам замысел, нас создавший.
Но не бывает худа без добра. В качестве, можно сказать, «побочного эффекта» мне вдруг как-то совсем по-новому открылась наша история, наша новейшая история. До этого мне отчего-то казалось, что сбившаяся наша с пути государственность оказалась у разбитого корыта. Всё у нас не так и не то. Пока все «нормальные» страны поступательно развивались, мы ставили «великие» эксперименты. И неудачно. Поэтому мы и проигрываем цивилизованным странам. Да уже и не только цивилизованным. Упустили самое время, и нас вот-вот дожмут. Но тут мне открылось, что было-то как раз всё наоборот: не упустили, а наверстали, заскочили в последний вагон уходящего поезда…
Двадцатый век наше государство выиграло вчистую. У всех, в том числе и у нас самих. Ведь в конце девятнадцатого века стоял вопрос о самом существовании России как государства, в которое сбились земледельческие и скотоводческие народы, живущие в биологической системе самовоспроизводства. Сбились под действием как внутренних, так и внешних сил. Тогдашние российские люди не были по своей сути производителями и не могли обеспечить государству достаточно средств и сил, чтобы противостоять промышленным странам, состоящим сплошь из производителей. Результат такого несоответствия вроде бы очевиден: либо люди должны были измениться, стать совершенно другими, соответствующими новым реалиям, либо должно было прекратить своё существование государство, не выстояв в соперничестве с соседями. Держава была на грани развала. Чтобы изменились люди, — а в Российской Империи было многомиллионное, многонациональное, многоконфессиональное население, разбросанное на необозримых пространствах и разделённое культурно, социально и как угодно, — нужна была какая-то сверхъестественная сила, абсолютно человеку неизвестная: ни в смысле её природы, ни, тем более, в смысле управления ею. Эта сила должна была перевести сознание подавляющего большинства людей с крестьянской, если так можно выразиться, орбиты на более высокую орбиту, соответствующую уровню человека-производителя. Практически одномоментно. Естественным образом, в Европе, это заняло сотни и сотни лет. При этом были захвачены и порабощены практически все континенты. У нас не было ни такого времени, ни таких ресурсов. Даже такого пространства у нас не было, невзирая на то, что у нашего государства была самая тогда большая площадь.
Через какой-то десяток лет мы сами могли быть порабощены Германией и иже с ней. По письменным источникам того времени именно такое ощущение и создаётся: предчувствие конца, апокалипсические настроения, завершение эпохи. Что-то такое витало в самом воздухе. Что-то страшное разверзлось над людьми. Как раз в то время Чехов и сказал Бунину о больном Льве Николаевиче:
«Вот умрёт Толстой, всё к чёрту пойдёт».
«Литература?»
«И литература».
Всё выше сказанное означало, казалось бы, только одно, а именно, что государство было обречено.
Но посмотрите, что происходит. Наступает ХХ век, умирает Толстой. Казалось бы, начинают рушиться все основы. В народе полный разброд. Рушится весь быт. Всё идёт к чёрту. А государство? Без всяких стратегических планов и специальных научных разработок, государство собирает и консолидирует людей, которые, вооружившись подходящей идеологией, очень легко взламывают всю систему руководства и управления огромной империей. Государство само внутри себя разрушает все уклады жизни, которые ведут в будущее по длительному пути развития, получая горючий людской материал для перманентной революции. При этом государство как-то умудряется не допустить полной анархии и развала, то есть самоуничтожения. Продолжая отбиваться от внешних врагов, государство создаёт невиданный доселе орган насилия, в жернова которого может в любую минуту попасть каждый, кто хоть чем-то государству мешает или может помешать. От самого тирана в центре до самого маленького человека где-нибудь на отшибе империи. Чёрт знает где, в маленьком грузинском городке, государство отбирает человека, сына сапожника, который будет руководить этой репрессивной машиной подавления. И машина эта всеми правдами и неправдами начинает перемалывать и переделывать людей. Из тех, какие есть, в таких, какие ей потребны. Всё, что может сопротивляться, государство либо вышвыривает за рубежи, либо уничтожает. (Или сначала вышвыривает, а потом уничтожает.)
Казалось бы, сопротивление должно было бы быть просто невероятное. И в самой ужасной и разрушительной для государства форме, в форме гражданской войны. Гражданская война, естественно, и начинается. Начинается ужас, когда одни уничтожают других. И не те этих, или эти тех, а все — всех. Вроде бы, государственности конец. Но нет. Снова нет. Государству достаёт сил и умения укротить энергию гражданской войны. И не только укротить, ему удаётся использовать эту энергию для своих нужд. Для собственного строительства, для перековки людей и для отпора внешнему давлению. Тут подходит пример с расщеплением ядра: есть термоядерный взрыв, а есть управляемая термоядерная реакция. По аналогии, есть гражданская война, а есть, оказывается, управляемая гражданская война. Причём, многолетняя. Ведущаяся посредством спецслужб, судов, тюрем и лагерей. Ничего подобного я в истории не знаю. Этой энергии, вместе с энергией принудительного труда, хватает на то, чтобы стать сверхдержавой. При этом, по ходу дела, государство выигрывает величайшую в истории войну. Войну не на жизнь, а на смерть. Выстаивает государство и в войне «холодной», балансируя на грани войны «горячей» и не давая никому ни шанса на себя покуситься.
И вот, когда цель достигнута — люди переделаны и переиначены в самой своей сути, государство само разрушает аппарат тотального насилия, снова взламывает всю систему руководства и управления, отказывается от прежней идеологии и бросает людей в «дикий» капитализм. Ненадолго, только чтобы изничтожить в головах идеологические пережитки прошлого и подготовить людей к новой жизни. «Раньше мы укрывались одним одеялом, а теперь каждый должен будет тянуть одеяло на себя». Государство отбрасывает ненужные территории. Теперь его мощь будет определяться не только и не столько количеством земель, как было ранее, а только своей собственной, самодостаточной финансово-промышленной системой. Для реализации этой цели государство оставляет себе собственно коренную Россию и огромные сибирские кладовые. И ничего лишнего, налегке — проще. Государство намерено стать одним из ведущих финансовых центров мира, для которого проведённые по полям и лугам границы имеют очень условное значение. Из всех нас государство выстроит теперь экономический движитель, с рублёвой кровеносной системой, обильно смазанный интеллектом. И уже ничто государству воспрепятствовать не сможет, ни изнутри, ни снаружи. Теперь мы опять сможем мещанствовать, богатеть, разводить герань и демократию. Мы сможем иметь столько собственного мнения, сколько уместится в головах. Мы сможем обладать всем, чем в этом мире обладать возможно. «Полная виктория», как сказал бы Пётр. Начало дел которого тоже, кстати, «мрачили мятежи и казни». Но, цена… «Если бы не цена! Эх, если бы, если бы…»
Если бы я жил в начале прошлого века, и кто-то умный обрисовал бы мне всё это как программу, — я ни за что бы не поверил в её реальность. Нужно быть сумасшедшим, чтоб поверить в такое. И того человека я принял бы за сумасшедшего, а не за умного. И уж совсем невозможно поверить в то, что всё это исполнялось людьми осознанно. Но тем не менее, всего сто лет, даже меньше, — и всё у государства получилось: вот они мы, готовые стать телом нарождающегося финансово-промышленно-потребительского организма. И главное, мы убеждены, что это и есть настоящее для нас самих и для Отечества благо. А это значит, мы будем работать. Запряжёмся в общую упряжку, хотим того или не хотим. «Успех! Теперь каждому нужен успех».
И вот оно — отвоёванное для нас место. Место хорошее, в самом центре мира. По крайней мере, не в стороне от будущих экономических ристалищ. Когда я обо всём этом думал, бродя по петушинским полям и оврагам, мне как-то даже легче стало. В нас с рождения заложена очень сильная потребность отстаивать своих. Меня, например, уязвляла донельзя любая попытка задеть интересы или покуситься на честь Отечества. А тут выходило, что у нас такое государство, которое устраняет какие бы то ни было поводы для беспокойства. «Куда там!» Как-то незаметно улетучилась и тяжесть смутного перестроечного времени. Получалось, все мы ему служим, все идём в дело, хотим того или нет. Кто своей жизнью, а кто и смертью.
Правда, для меня так и осталось загадкой, почему другие государства то за нас, то против. Мы, к несчастью, совершенно не понимаем закономерностей развития государств и межгосударственных отношений. Точно так же нам недоступен смысл перемен, происходящих с массовым человеческим сознанием. Там тоже своя собственная, какая-то особенная правота. «Всё — правда, все — правы, но как же не прав был мой дед!» Он, бывало, злился, когда говорили: «государству необходимо», «народу нужно», «фабрике требуются»… Он считал, что государство ничего не хочет, ему ничего не требуется. Оно — не живое. Хотеть и требовать может только живое существо. А оказалось, что государство ещё как: и хочет, и требует. И то, что оно требует, исполняется с непреложностью законов природы. Было от чего замереть в священном трепете. Государства либо имели какие-то неведомые нам механизмы влияния на людей и управления их сознанием, либо вообще не принимали людей во внимание и развивались по своим собственным законам.
Государство каким-то образом набирает всегда нужную себе команду. И что забавно: и в предвосхищении перемен, и во время, и после них, и оценивая их результаты, во все времена люди исходят из того, что именно они меняют свою жизнь, что именно они достигают своих целей, а на деле своих целей достигает всегда государство, ни о чём нас особенно и не спрашивая. Но есть множество людей, которые думают, что направляют государственную машину, другие думают, что управляют ею, третьи до сих пор с ней борются, а есть мой дед, который говаривал: «Какая «жисть» будет, такой и будем потрафлять». И не всё ли равно: кто, как и что, — не в одном ли все очутились потоке? Никто не вывернулся, но все друг друга ругают, поносят и спорят до хрипоты. «Кто прав?» Дед относился к социуму очень просто. Как к стихии. Соответственно, как и у всякой стихии, у неё может быть ясно солнышко, а может — злой ураган. Мне теперь кажется, что и у всех петушинцев отношение было примерно такое же. Ещё исстари повелось это их крестьянское: «стихия она стихия и есть, чего уж тут». Да при этом ещё и рукой махнёт.
Совсем другое отношение к жизни я узнал от Чужого человека, много-много лет назад. Человек этот был странно одет. В костюм. Я ещё не видал костюмов. «Пинджаки» видел, а костюмов с галстуками — нет. Он и вёл себя как-то странно, и говорил чудно. Что-то там бабушке наговорил: смотрю, она засуетилась, нарезала в палисаднике цветов и подала ему огромный букет, который тот принял с поклоном. На мой недоумённый вопрос бабушка отвечала заговорщическим шёпотом: «Это «зонник». На свидание собрался». Тогда я, естественно, и понятия не имел ни о сто первом километре, ни о запрещении жить в столице и в крупных городах. Я отчего-то решил, что «зонник» это профессия. Несколько раз заговорить с ним у меня не вышло, но я всё-таки улучил момент и спросил, почему он захотел стать «зонником», а не офицером, например. Я был уверен тогда, что завиднее судьбы офицера ничего не бывает, и, скорее всего, чересчур горячо стал свою точку зрения отстаивать, потому что «зонник» на меня рассердился. «Занялся бы чем поинтересней», — посоветовал он мне довольно холодно, — «государство и без тебя не пропадёт». (Я в первый раз услышал от него это слово: государство.) И дальше, глядя мне прямо в глаза и отчеканивая каждый слог, он выговаривал: «Государство наше выковано европейским молотом об азиатскую наковальню. Ковалось оно столетиями. И столько раз закалено было кровью, что лучшего способа создавать государства просто не придумано. Ничего с ним не станется, с твоим государством».
Это всегда так удивительно, осознать потом то, что другой человек пытался тебе втолковать много-много лет назад. Да ещё и вспомнить это. Теперь я с ним согласен, государство наше победило всех, кого только можно. Всех врагов: снаружи и внутри. Все армии: и чужие все и все свои. Всех солдат и всех ополченцев, всех полководцев и даже генералиссимусов. Оно победило и белых, и красных, и зелёных, и коричневых, и каких угодно. Оно победило рабочих и крестьян, интеллигенцию и домохозяек. Оно ухитрилось победить даже всех мыслителей и философов. Оно победило все религии. Оно сам народ победило: и эксплуатируемых, и эксплуататоров… «Всех». Иногда мне кажется, оно победило даже мёртвых. «В истории ещё не было такого государства». Но тогда я ещё истории не знал и очень гордился, что мы всех всегда побеждали. Однако он моей гордости не разделял и хотел до меня донести, что получили мы именно то, что хотели. Сами, мол, виноваты. И звучало это обидно: почему виноваты, если победили? Он много мне чего говорил, чего я не понимал или совсем не помню. Но очень хорошо помню, что был с ним почти всегда не согласен. Из его слов как-то так выходило, будто всё устройство нашей жизни нехорошо. Этого я никак не мог принять. Помню, что даже плакал от бессилия что-то возразить и как-то выразить своё несогласие.
Сам я был в восторге от этого мира. Мне просто повезло родиться. Я, видимо, вырос в окружении, где разумность устройства жизни никогда не подвергалась сомнению. Я никогда не стремился к новому строю жизни, я даже представить не мог, что есть иной строй. Теперь это кажется даже странным: я-то сам этого не застал, а те люди, среди которых я учился говорить, застали прямо то время, когда люди разоряли, убивали и мучили друг друга. Всех этих людей оторвали от земли и отправили работать на работу. И даже они ни в чём не усомнились. Мог ли усомниться я, когда весь мир был для меня каждодневным неперестающим чудом!? К тому времени я не испытал ещё ни одного разочарования. Я любил и себя, и людей, и всё что меня окружает.
Меня пленяло всё вокруг. И наши долгие закаты, и покой летних вечеров, и неизменные цикады. И тёплый белый песок, щекочущий босые ноги, в особенности меж пальцев. И утоптанная тропинка через поле с рожью, и голубые глаза васильков. И бегущие по ржи тени от облаков, и тот воздух, который играет колосьями и, кажется, наполняет тебя всего, а не только лёгкие. И долгожданная вдруг шляпка «белого». Тенистая прель оврага, папоротники…
«А предрассветный туман и запах речки, и какие-то утробные всплески воды! А запах уходящей ночи, каждый раз обещающий что-то необычное! А утренний запах печного дыма, стук кастрюль и сковородок, и петух за окном!» Так и было, стоило открыть глаза, и вновь происходило сотворение мира, и начиналось чудо: тебя все любят, и ты всех любишь, и даже не представляешь, что может быть как-то иначе. И тебя ждёт миллион твоих детских дел, непонятно кем и как для тебя предназначенных.
Я иногда теперь думаю, а обращался ли я к себе будущему, как я, нынешний, постоянно обращаюсь в мыслях к себе прошедшему. Думаю, что нет. Там не хотелось будущего, там и так всё было. Будущее просто пришло, и всё отняло, что было прежде. Наверное, поэтому я тогда и сердился на «зонника», что говорил он нечто несогласное с моим мирозданием и потому — опасное. И это «несогласное» — это было недовольство существующим порядком вещей. Даже хуже, это было просто недовольство.
После «зонника» я стал чувствовать людей, которые несли в себе такое же недовольство. Людей таких становилось всё больше. Один, другой, смотришь — третий. «Мы живём убого, а где-то живут лучше». Заражаешься подобным недовольством очень быстро, и перестаёшь замечать таких людей, потому что сам стал таким же. Я тогда ещё не понимал, что недовольство превращает любое золото в черепки. Если ты не найдёшь ему немедленного удовлетворения. Подвергая реальность сомнению, ты реальность уничтожаешь. С тобой происходит нечто удивительное, ты начинаешь стыдиться своего окружения. И даже не знаешь, чего именно. Просто стесняешься жить, как жил до этого. Тебе кажется, что ты живёшь убого, а где-то живут иначе. То есть, тебе уже неловко быть самим собой. Ты уже готов к тому, что сопротивляться исчезновению всего этого окружения не будешь.
И оно на самом деле начинает исчезать. Приедешь, — вроде всё на месте, — а тех Петушков уже нет. И тебе остаётся лишь тоска по утерянному. Всё прошло, «как с белых яблонь дым». Ты захвачен врасплох. Ни о чём таком ты даже и не думал. Как, знаете? в кино есть предчувствие последних кадров, и тут же действительно всплывает надпись «конец фильма». Перед развалом Советского Союза, когда всё было на излёте, тоже было подобное предчувствие. А тут — ничего такого и близко не было. Значит, изменения происходили прямо во мне, раз ничего не заметил. «Это тебе не кино».
Кстати, тот «зонник» подарил мне на прощание «Библию», что для того времени было большой редкостью. Читать я её тогда брался много раз и с разных мест, но так ничего и не понял; или не помню. Понравилось мне только одно место. О сотворении мира. Показалось мне очень похожим на то, как он творился для меня.
Дорога под нашими тремя окошками оказалась знаменитой «Владимиркой». Когда я узнал об этом, был настолько удивлён, насколько в своё время меня поразило открытие, что люди бывают не только такие, как мы, и мы их даже не понимаем, когда они говорят. На известной картине Левитана это обычная проселочная дорога, которую каждую весну нужно наезжать и протаптывать заново. На послевоенных фотографиях, где мама совсем ещё юная, по середине деревни уже видна светлая лента бетонки. Я сам застал уже несколько иную картину: рядом с бетонкой выстроили шоссе, покрыли асфальтом и выкопали кюветы. Шоссе было поднято выше бетонки, которую стали звать Старой дорогой. Мало того, шоссе это наполовину скрыло противоположную линию домов, избы которой как будто вросли по пояс в землю. Да шоссе это деревне уже, собственно, и не принадлежало. По нему ездили машины. Не к нам и не от нас, всё больше — мимо нас.
Нам же оставалась Старая дорога. По ней гоняли коров: утром на пастбище, вечером — обратно. Бывало, первые коровы уже у нашего дома, а конец стада ещё на самом краю. Старая дорога ещё оставляла людям возможность пользоваться гужевым транспортом. Иногда на Старой дороге останавливалась телега старьёвщика, и мы меняли тряпьё на игрушки. В памяти до сих пор остался блестящий шарик на резинке, который возвращался в руку, куда его ни кинь. И ещё остался лошадиный дух.
На лошади был и тот цыган, в красной рубахе и чёрной жилетке. Тогда по деревне ходили цыганские дети. Они стучались, и им выносили: кто яиц, кто хлеба, кто с огорода чего, а кто и просто шикнет. Они не обижались. В тот день девочка — цыганка и бабушка закончили свой обычный ритуал с продуктами, и девочка не ушла, а поставила свою сумку возле калитки и осталась с нами играть. На неё-то и накричал седой цыган, гарцевавший на своём коне. Накричал, стеганул коня плёткой и ускакал, поднимая клубы пыли, — Старую дорогу к тому времени уже затянуло песком и грязью. Маленькая цыганка испугалась, схватила свою сумку и пошла себе дальше по деревне, а я остался в полном изумлении.
Цыган говорил не по-русски. Мир для меня перевернулся. Я никак не мог понять и поверить, сколько мне не пытались втолковать, что люди могут по-другому разговаривать и не понимать друг друга. Для меня это было самой нелепой загадкой мироздания. Прошли годы и годы, прежде чем я понял, что существуют понятия и взаимосвязи между ними, и они у всех людей одинаковы. Поэтому и люди одинаковы. А уж каким звуком или знаком люди обозначают эти понятия, не столь важно. Язык ведь просто можно придумать. Оказывается, дети «придуманное» не принимают, они ещё слишком близки к «непридуманному». И даже их язык не кажется им придуманным. Их родной язык.
В Петушках всё «непридуманное» за последние годы куда-то подевалось. По крайней мере, так мне кажется. А обе дороги накрыли одной большой дорогой, ещё подняли насыпь, вырыли ещё более глубокие и широкие кюветы, поставили мачты освещения. Теперь это федеральная трасса. Деревню Петушки она раздавила: раньше была деревня, а где-то в ней — дорога, теперь же это дорога и каким-то несуразным образом прилепившиеся к ней вплотную домишки.
По ночам идут фуры, — содрогается земля. И кровать под тобой тоже содрогается. Посуда дребезжит в буфете. Рюмки и стаканы не выдерживают вибрации и разваливаются пополам прямо на полках. Совсем не так было в детстве, когда пройдёт какая-нибудь редкая в ночи машина, и высветы всех наших трёх окошек побегут один за другим по стенам и по мебели и исчезнут вдруг в углу, — а ты лежишь, не шевелишься и дослушиваешь удаляющийся звук. Ждёшь, пока он не замрёт полностью. И было во всём этом что-то щемящее и обещающее. Теперь же звук настойчивый, постоянный и гонящий тебя прочь. Для того чтобы просто выспаться, привыкать к нему надо несколько дней.
Люди с другой стороны лишний раз на эту уже не пойдут — дорогу не перейти. Ведь если вдуматься, всё это так же нелепо, как если на центральной площади какого-нибудь города устроить какой-нибудь танковый полигон. Сами люди такого бы делать не стали, правда ведь? Само как-то, видимо, получилось. «Само случилось, само вышло. Одним словом — само». Когда я иду теперь вдоль дороги, или по деревне я иду, — уже не знаю, как и сказать, — те сохранившиеся, из детства, избы навевают какое-то странное ощущение, подобное которому испытываешь, когда наткнёшься где-нибудь на еле-еле тлеющий костёр, чувствуешь и видишь следы пребывания людей, а самих людей уже нет. Они ушли и больше не вернутся. И всё это избяное великолепие может представлять интерес только для археологов, хотя срубы ещё не сгнили, не сгинули в культурных напластованиях и не засыпаны песком, как какие-нибудь византийские развалины.
Но уже пришло другое время и перевернуло страницу. Хоть ничего и не засыпано, а уже нужны учёные, чтобы восстановить, как тут люди жили, что у них было в головах, чем дышали, во что верили, к чему стремились. Ну, если не восстановить, то хотя бы предложить свою концепцию. А ведь все те люди ушли по той самой Старой дороге. По ней уносили они своих мёртвых. На полотенцах до церкви, а потом на плечах до кладбища. И по пути не сидят уже на завалинках бабки, не смотрят на дорогу и не чешут языками, обмахиваясь от комаров ветками. Куры не роют земли, не точат об неё свои клювы, из стороны в сторону, и не зарываются в тёплую придорожную пыль. Вообще никаких кур не видно. Давно не гоняют коров, и бабы не ходят к ним на полдни со своими вёдрами, повязанными марлей, как платком. Кругом всё поросло бурьяном и лебедой. И цыган тот ускакал по Старой дороге, как оказалось, в вечность…
Когда же всё это было самой что ни на есть реальностью, воображение моё было обращено, как ни странно, не к настоящему, а к прошедшему. Причём, к такому прошедшему, какого помнить не мог не только я, но и никто из живущих. Я тщился себе представить, как по этим самым местам пробирались сквозь чащобу разные наши князья со своими отрядами, как ездили на богомолье в суздальские монастыри царские поезда, а потом в эти же монастыри везли на постриг опостылевших цариц, как гнали и везли декабристов, как потянулись за ними их жёны, как ездил в своё Болдино Пушкин. И всё это прямо здесь, мимо наших окошек. Можно было выглянуть и увидеть своими глазами.
Особенно мне о Пушкине хотелось угадать, на чём и где проезжал, выходил ли, как был одет, о чём думал, записывал ли что. Он ведь мог и словцом с кем перекинуться. «С кем?» Странные игры воображения: напридумывать себе с три короба, тешить себя иллюзиями, что каким-то чудесным образом увижу всё собственными глазами, а потом осознать вдруг, что всё это выдумки, что так не бывает, и стать, наверное, несчастнее тех самых, кому-то опостылевших, цариц.
Но ведь петушинских людей-то я помню. Отрывочно как-то, но помню. Что-то я всё-таки подсмотрел. И «возвращения» назад в прошлое могут совершаться на самом деле. Я помню их лица, помню, как они одевались. У них были совсем другие лица, и одежда у них была какая-то странная. Впечатление было такое, что она родилась и выросла на них, как-то вместе с ними. Хорошо помню бабушкино лицо, всё в жару от нашей русской печки, как она концами платка отирает пот, как оправляет под подбородком узел. Помню, как кухонной тряпкой пахнет подол её фартука, которым она больно давит нос и заставляет в него высморкаться. И шершавые-шершавые кончики её пальцев, когда она с утра погладит по спине, чтобы вставал. И всё её нехитрое хозяйство у печки. И ходики. И прохладную тишь избы, когда заскочишь в неё вдруг с суетного солнцепёка улицы. В доме, казалось, каждая вещь, каждая чашечка, каждая скатёрочка несли на себе прикосновение её шершавых гладких рук.
И такое было ощущение, что сам воздух вычищен, выглажен и уложен её руками, из которых таким было наслаждением, избегавшись с утра до полусмерти, получить ломоть ржаного, политого постным маслом и посыпанного солью хлеба. Или простую кочерыжку, когда на зиму шинковали капусту. Сходить бы с бабушкой снова на полдни, послушать, как она говорит с коровой, как доит, как аукает меня, когда я уже где-то нашёл землянику, на пригорке, либо какой-нибудь муравейник, в кустах. Или вместе с ней — на Берёзку, полоскать бельё. Бабушка на мостках полощет, а ты втихую поднырнёшь с другой стороны и вынырнешь ей прямо в какой-нибудь пододеяльник, — она и за сердце хватается, и ругает охальником окаянным, а глаза смеются. А сам счастлив до смерти, что напугал. Да вообще — просто счастлив.
Совсем другое дело дед, с ним особо не забалуешь. Но с дедом всегда интересней. С ним и на покосе, неделями в шалаше на Клязьме, с ним и на рыбалке, с ночёвкой. А там и костёр, и тройная уха, и чай с дикой смородиной. С ним — за грибами и за ягодами. С ним всегда что-то по хозяйству: и огород поливать, и окучивать, и опрыскивать, и окапывать, и окашивать — всё с ним. Никогда не сидел без дела. Наблюдать, как он что-то мастерит или что-то к чему-то прилаживает, было истинным удовольствием. Прищурится и смотрит в одну точку — думает, а кепку привскинул и снова на голову водрузил — придумал. Теперь давай помогай. Да и самому хочется, потому что и подмигнёт, и посмеётся, и пошутит чего-нибудь. Меня и по сей день завораживает это их манипулирование на головах заношенными, просоленными от пота кепками: так много все эти движения выражали.
А как хорошо было посидеть с дедом на закате, когда всё замирает — лист не шевельнётся, и только стрекочут цикады. По небу всегда скажет, какая будет назавтра погода. И замолчит себе. Очень хорошо с ним молчалось. А иной раз уставится остановившимся взглядом в никуда и кончиками пальцев одной руки примеривается к кончикам другой. Один раз он так глубоко задумался, что мне вроде как и не по себе стало. «Чего думаешь?» — спрашиваю. Он как-то растерянно и вместе удивлённо очнулся: «А и вправду ведь надо будет по-ми-рать». Помолчал и добавил: «Недолго уж». А приставать с разговорами не давал. Сразу своё: «Ну, всё это, пойдём чай пить». Не как мой крёстный. Болтун. Загнёт всегда такую ерундовину. Навроде того, что человек делит всё на хорошее и плохое. Хорошее на жизнь пускает, потому сколько бы хорошего ни было — всё уйдёт без остатка, а плохое накапливается и накапливается, потому как его столько не истратишь. И от этой «плохости», что накопилась, человек и помирает. «Хитро устроено», говорил, «для того и умирают». Болтун, одним словом.
Я их помню, родившихся ещё до революции, но людей этих оставалось уже совсем немного. И они как будто прятали всё своё по избам да по сундукам. На воле гуляло и всем заправляло уже совсем другое время. Иногда я испытываю отчаяние от бессилия передать словами, как я их всех в памяти вижу и как чувствую. Всё это рассыпается на тысячи и тысячи мелких подробностей. На все эти жесты, повадки, привычки, словечки…
А и нет: может быть, это и хорошо, что всё это останется только со мной. Есть много чего на свете, что один человек другому передать не может. Воспоминания — собственность каждого человека. Моя собственность — и моя. А свою — они унесли с собой. Всё правильно, только вот была бы фантастика из фантастик, получить код доступа ко всем человеческим воспоминаниям. Да и свои собственные, когда их вытаскиваешь, казалось бы, из небытия, — это тоже фантастика. Порой даже фантасмагория.
Бывает, много и не надо: седая прядь из-под платка, крестьянские особенные морщины, стоптанные и потому широкие в щиколотках валенки, и особая от них походка, хруст снега под ними, взгляд на солнце с прищуром — и вот уже воскресает и заново выстраивается целый мир. И его точно так же чувствуешь, как чувствуешь и этот мир, что перед глазами. Только себя в том мире ты ощущаешь каждый раз по-другому. Люди в нём каждый раз новые.
Мне порой кажется, что я тех людей люблю даже больше, чем этих. Скорее всего, — кажется, потому что сам я принадлежу к этим, а совсем не к тем. Я совсем другой. Чтобы любить, нужно, видимо, отличаться от того, что любишь, или от того, кого любишь. А когда-то ведь проходили поколения, поколения и поколения, друг от друга совсем не отличаясь. Не надо было гатить никакой гати, чтобы перейти от поколения к поколению. А ведь как этот переход важен!
Образ родителей, на котором зиждется свой собственный образ, в большей мере создаётся, конечно, самими родителями, но не только. Не менее важную роль играет и окружение. Как правило, сильные личности и яркие характеры довершают и оттачивают обобщенный родительский образ. Опять же, хорошо было в малолюдной деревне, где всех знаешь. А только представьте, каково сейчас! Информацию о каком огромном количестве до невозможности различных людей воспринимает формирующаяся личность. И всё время новые, новые, новые… Уму не постижимо!
Я-то очень рад, например, что у меня круг этих людей оказался ограничен. Да просто ещё и повезло, что в него вошли те настоящие, от земли. Хоть чуточку, но успел их застать. Это я сейчас понимаю, а в то время они настолько были во мне, что я не мог думать об этих людях, как о чём-то постороннем. Не мог разбирать их и оценивать. Действовало табу близости. То самое табу, которое не даёт близких тебе людей подвергнуть исследованию разумом. Разум неизбежно убивает чувство, а без чувства растворяется то сакральное, без чего невозможна связь между людьми, без чего жизнь перестаёт быть радостью, а становится нагромождением нелепых и никому ненужных тягот, от которых нет спасения.
Я это твёрдо усвоил на примере нашего Колодца. Колодец у нас был просто замечательный. Чтоб не застаивалась вода, — один на несколько домов. Неглубокий, но зато дремучий-дремучий. Один почерневший сруб чего стоил, со своими трухлявинами, мхом, а кое-где и с погаными грибами. И вся эта подгнившая древность уходила куда-то в чёрную неизвестность, в середине которой вдруг возникало пространство, отражённое само от себя, в квадратной раме. Чуть шевельнёшься, и оно тут же отвечало тебе своими зеркальными обманками. Почище любого калейдоскопа. В пространстве этом жило эхо. И звуки в нём делались, казалось, гораздо значительнее, чем это было на улице. Стоило чуть наклониться, и ты оказывался как будто там, внутри, а улица пропадала. Даже не просто оказывался, а становился жителем иного мира. Нужно было сделать определённое над собой усилие, чтоб из него вырваться, чтобы исчезли чары…
Журавель был у нас тоже весь почерневший от времени и страшно скрипучий. Нужно было изо всех сил тащить вниз ведро, потом цепь, потом отполированную руками жердь, — колодец сопротивлялся и не пускал в себя всё это добро. А потом вдруг шваркнет, ухнет и заглотит в себя ведро целиком. Отдавал, правда, легко. Поднималось ведро словно само собой — только руками перебирай. И вода была в нём не то что на воле, ледяная и прозрачная как слеза.
Это когда подрос, стали посылать за водой. А по малости лет одному запрещали не то что крышку открывать, а даже близко подходить. Скорее всего, ещё и пугали: утону, мол, и закопают. Вдобавок дурачок наш деревенский, Коляка, наговорил нам всякой ерунды. Придумал, что в колодце нашем видел якобы саму Смерть. «А сперва», — шепелявил он своим полусгнившим ртом, — «не признавалась, ни в какую. А я-то вижу, глаза водянистые и незрячие, видимость одна. А «губов» и вовсе нет. Я за крест схватился и ей прям в морду, говори, говорю, нечисть, кто ты есть такое? А она грит: « Ты знаешь, что ты есть такое? А с чего, — грит, — ты взял, что я знаю, что я такое?» И хохочет. «Одному богу, — грит, — известно, что он и кто он. И сгинула, туда её. Без брызг! Ни капли-капелюшечки».
Я всему этому вздору не верил, конечно. Как и всякому другому. Однако колодец был для меня местом если уж не сакральным, то каким-то особенным. Совершенно определённо. И вот, как-то утром, собрались мужики, воду из него вычерпали, стали вычерпывать жижу, достали когда-то упущенное ведро, пару камней и какой-то древний горшок, поменяли венцы снизу на новые, осадили на них верхние. И я с ними. Помогал им и всё видел. И в один день — чудо исчезло, остался источник воды. По сути дела, простая яма, в которой собирались грунтовые воды. Ясно и просто.
А того старого, моего, колодца мне было жаль. Того, устройства которого я не знаю. Остался он только в памяти. В нём так и живёт та нечисть, которая является иногда мне во сне и спорит со мной, что никакая она не смерть, что убивать не может, и никто в этом мире убивать не может. Можно только исхитриться и так подстроить, что у нас само как-то умрётся. Опыт, драгоценный наш опыт подсказывает нам, как поставить тело в такое положение, в котором оно перестаёт функционировать. А просто взять и умереть нельзя, как, впрочем, и родиться. «Где жизни раздаются, — нас туда не приглашают, лицом чумазым не вышли»…
А Баня! Вот кстати: общая наша баня, на станции. Чего-то тогда мои женщины не рассчитали с моим возрастом и взяли меня с собой в женскую баню, а я себя уже понимал. До сих пор помню эти женские тела повсюду, и в раздевалке, и на каменных скамьях, и на полотях. И лежащие, и сидящие, и стоящие. Картина, которой через много лет нас, отрешённых совсем от наготы, будут поражать в кино. Никаких эротических, а тем более эстетических чувств, у меня тогда, естественно, быть не могло. Но вынес я оттуда совершенно определённое чувство, которого даже не помню, но от которого на обратной дороге расплакался. Расплакался так, что успокаивали газировкой с малиновым сиропом, из колбы с краником. Этот шипучий агрегат, заклинающий вьющихся вокруг него ос и пчёл, был для меня тогда верхом непостижимости. Его-то я хорошо помню. И тех ос помню, и ту продавщицу в белом колпаке. А что меня так расстроило — не помню.
Теперь мне представляется, что это было первое и потому наиболее сильное ощущение нашей жалкой и ничтожной телесности. Я говорю «нашей», но имею в виду, естественно, своей. А у женщин она почему-то наиболее бренна и жалка, особенно когда они скопом. Человечество сильно всё же не тем, что оно может сбиться в стадо — на основании какого-либо учения или идеи — и куда-то попереть всей своей массой. Человечество сильно тем, что оно разное. Снаружи оно должно быть разделено на каждого отдельного человека. И только изнутри оно объединяется общечеловеческой сутью, недоступной во внешнем объединении точно так же, как не доступна эта суть и каждому человеку в отдельности. Разум тут же подначивает: а тебе не кажется, что все людские беды от этих самых внешних человеческих объединений? «Как будто можно как-то по-другому». Одним словом, всё это приучило меня сразу не пускать разум туда, куда его тянет. Да и куда его может занести по воле случая — тоже. Но это ещё та зараза: и не придумаешь как, а пролезет всюду, всё забьёт и переиначит, как сорняк на огороде.
Правда, это не имеет уже никакого значения. Толстовские угрызения совести по поводу того, что он брал и берёт у мужика, уже не актуальны: тех людей-то уж нет, того мужика не стало. Беречь некого. Жалеть некого. Да и раздавленной ради Прогресса деревни тоже совсем не жалко. Тем паче, что никому она особенно и не нужна. Я слышал, у неё теперь название — улица Шоссейная. Сначала станция отобрала название. Потом превратилась в город, город забрал название себе — город Петушки, а деревне оставил название Старые Петушки. А теперь адрес звучит просто: город Петушки, улица Шоссейная. Город не город, пока нескладный, как подросток, городишко, насквозь пронизанный двумя дорогами: автомобильной и железной. Притулившийся бочком к реке Клязьме.
Но рано или поздно это будет современный промышленный и торговый город, где уже ничего не будет напоминать о том, что здесь когда-то было. То есть, о нас ничего не будет напоминать. Совсем. И это жаль. Ничего, конечно, нельзя вернуть назад, но иногда мне снится, как дед сажал меня на свой велосипед, — у него на раме из доски была выстругана для меня седушка. Во сне вижу наш наезженный выезд на Старую дорогу, через нашу канаву. Колесо попадает в песок, его вихляет, и я над и вокруг себя слышу учащённое дыхание деда. Я будто бы где-то в нём самом, внутри. Внутри дыхания. Ещё усилие, вроде и моё тоже, и заезжаем, вкатываемся на шоссейку. И сразу захватывает дух от нашей «настоящести», мы такие же настоящие и всамделишные, как и огромные машины с номерами. Меня обдаёт их теплом и запахом. И звуком. Присвистывает и ветер. А мы катим по Петушкам и катим, до самого моста. Через мост дорога уходит на Москву. Мы же снова скатываемся на Старую, которая, расширяясь в широкую песчаную площадку, опускается до самой речки — Берёзки. И на этой площадке стоит Лавочка, наш деревенский магазин и цель нашего путешествия. И в лавочке те самые люди, ещё живые. Настоящие живые люди.
«Уже не помню, снилось ли мне это, или дальше я уже просто вспоминаю». На поддонах пахучие буханки чёрного хлеба, а сахарный песок и всякие крупы — в мешках, из которых тебе отвешивают, сворачивая на руке огромный, из плотной бумаги кулёк. Сметана и подсолнечное масло в тяжёлых бидонах, из которых тебе ковшом с длинной-длинной ручкой наливают их в твою собственную банку. На полках пирамиды из консервных банок: сгущённое молоко, икра и крабы. Только их почти не покупают: баловство. (В наши дни уже разучились употреблять это слово по отношению к взрослым.)
И самое главное, внутри всего этого предметного мира обитают совсем другие люди, с какими-то неясными обобщёнными лицами, но которые и мне свои, и сами сознают друг друга своими. Которых, правда, нет — и уже не будет. Вот как уловить эту разницу между ними и нами?! Пропасть, а как определить её глубину? Ведь когда я был маленьким, они ещё меня от себя никак не отделяли. Я был среди них. Я был своим. Да и по времени так это было рядом: мне кажется, я ещё слышу их особенный говорок, чувствую их запах. Это тот самый запах кепки, когда нашаришь на печи дедову кепку и накроешь ей лицо, чтоб мухи не надоедали. Пишу, а сам понимаю, что запаха этого вспомнить не могу. Встретился, — узнал бы его сразу, но нигде уж больше не встречается.
Нет, проще пробовать анализировать. Тут как раз работа для разума. «Итак, что я знаю достоверно?» Для тех людей домом была не изба, не четыре стены, как для нас, а вся округа, включая наделы земли в разных местах, луга и покосы, водопои, пастбища и полдни, озёра и речки с рыбными ловами, грибные и ягодные места. Наподобие коммуналки, только этой коммуналкой был сам «ореол обитания». Нетрудно заметить, что основную часть «дома» занимала живая природа. Границы владений не проводились, как это часто делается сейчас, внутри помещений. Изба была всего лишь гнездом для детёнышей, где в ночи можно было спрятаться от холода и ненастья и приготовить на сухом очаге еду. Потеря избы, в сущности, означала не больше, чем теперь означала бы потеря кровати. Можно было запросто перебиться. Пошёл в лес — срубил новую избу. И денег никаких было не надо. Рубленая изба и рубленый колодец позволяли тем людям выжить. Без всякой там нефти, газа, электричества, а самое главное — без денег. «А почему?» Потому что вокруг жила, дышала и работала гигантская природная система самовоспроизводства. Система всемирная и всеобщая. Всё отжившее и отмершее неизменно перерабатывалось в живое. Безостановочно, год за годом. Каждый год, каждую весну, начинался новый жизненный цикл. И вся эта система никак не зависела от человека, а совсем наоборот, он от неё зависел, потому что вырос в ней и сам был её частью. В каждый момент разной частью, в зависимости от своего возраста. И он сознавал это: как в своём рождении, самом жизненном процессе, так и в своём умирании. Все блага человек получал из общения с природой, с живым миром.
По-другому никогда не было. Человек не был производителем. Он, как это теперь ни странно звучит, не производил продукт. Он просто жил в биологической системе, в которой кормился и воспроизводил себе подобных. Он тоже трудился, но ему нужно было видеть, и даже не столько видеть, сколько чувствовать, как всё им посаженное зарождается, прорастает, растёт, созревает и превращается в плод. Всё, что он делал, определялось именно этими жизненными циклами. Его действия прямо исходили из смысла его жизни, который, в свою очередь, совпадал со смыслом всего многообразного жизненного действа. Действа, которое для тех людей было всегда и повсюду. При всём желании они не могли ещё оказаться вне этого действа. Поэтому жизнь и смысл жизни для них, как для животных в цирке, ещё не разделились. «Делание» и «житие» совпадали.
Если вдуматься, те люди подчинялись исключительно тому же закону, что и наша ива под окошком. И ничему другому. И так же и жили, слоями: хороший год, год похуже, совсем плохой, который вроде ничего, а были и замечательные года. Но всегда — вместе со всем живым. А все эти набеги басурман, узурпации узурпаторов, эксплуатации эксплуататоров, которые должны бы были от этих самых басурман оборонять, все барщины и все эти оброки, и даже крепостное право, — всё это были трудности и тяжести, которые худо-бедно преодолевались и с которыми мирились, пока они не затрагивали основного закона их жизни. Отголосок этого воззрения я как-то услышал от одного старого-престарого петушинца: «Иное что — ерунда, одной землице раболепствуем и служим. Из неё вышли, она всю «жисть» кормила, родимая. В неё и пойдём. Она всех примет. А шапку ломать можно, абы голова была на месте».
Тем людям не нужно было постоянно оказывать друг другу платные услуги, чтобы выжить самим и чтобы выжила система. Обмен продуктами и услугами был только подспорьем и никак не определял сущности человеческой жизни и человеческих отношений. «А деньги?» Когда бы не подати, так многие вообще бы их в руки не брали. Люди просто помогали друг другу. Или — не помогали друг другу. Или враждовали между собой, а иногда и убивали друг друга. Но это было их собственным побуждением, а не результатом действия какой-то внешней причины. Поэтому их совесть была ещё живой и наполненной кровью, а не высушенной и растянутой на одной из рамок судебно-правовой системы, как сейчас. Они слова Иисуса о противлении, о непротивлении могли ещё воспринимать буквально, а не как метафору. Они очень многое могли воспринимать иначе.
Я, конечно, намеренно преувеличиваю разницу между теми и этими. В реальности переход был постепенным, а границы размытыми. Но если хочешь понять смысл перемен, вычитание бывает гораздо полезнее сложения. А не хочешь, — будешь их презирать или, в лучшем случае, жалеть. Жалеть за их нищету, необразованность и забитость. Мы долго приучались их жалеть. Их самих приучали себя жалеть. Соотечественники пользовались результатами их труда и жалели. Их жалели и барышни в усадьбах, и студенты в университетах, и те, кто уже сидел в конторах, кто отдавал свои жизненные силы на фабриках и заводах, жалели даже те, кто срастил себя и своё разумение с конвейером или с каким-нибудь ездящим, ползающим или летающим механизмом. Их жалели военные. Я уже не говорю об интеллигенции, которая эту жалость довела до такой степени истеричности, что «освобождение» народа стало целью, которая оправдывала любые средства. Что, кстати, потом вышло боком и тем, кто жалел, и тем, кого жалели.
Зато эта жалость, переходящая в чувство какой-то вселенской вины, была очень полезной для идеологии Большого перелома. Но она же делала весьма и весьма затруднительным понимание того, как те люди в такой кабале столетиями жили и всё-таки выжили. И не только выжили, а и создали грандиозную культуру и потрясающий язык. Самих людей понять было ещё труднее. А в них-то и было всё дело. Впрочем, никто их, похоже, понять и не пытался. И вот их освободили, а, вернее будет сказать, переподчинили финансово-индустриальной системе воспроизводства, искусственной системе, которая требует от них полного себе подчинения. Нужен постоянный доход от системы, чтобы обеспечить себе в этой же системе постоянный расход. «И дальше — никуда. Мёртвый узел».
Мне иногда представляется, что мы все нанизаны на финансовую нитку, как бусы, и все друг другу трём спинку. За соответствующее вознаграждение. И выбора никакого нет, если только не устроить себе какую-нибудь финансовую специальную петельку на этих бусах. Тогда и посвободней будет, и благ побольше. Ведь от самых примитивных полудиких племён до самых индустриально развитых сообществ производить блага люди могли и могут, а перераспределять их справедливо так и не научились. Этим и надо пользоваться. Правда, это здорово напоминает театр абсурда. Но и это совсем неплохо: во-первых, это красиво звучит, что отнюдь немаловажно; во-вторых, как космическая пыль необходима для зарождения звезды, так и абсурд необходим для возникновения смысла; а, в-третьих, покидать навсегда абсурдную жизнь куда легче, чем жизнь осмысленно гармоничную.
Только всё это глупости. А вот что меня на самом деле занимает, так это вопрос, человеческое ли это сознание так изменилось, что жизнь принимает новые формы, или это так изменилась жизнь, а сознание к ней только лишь приспосабливается? Первоначально вопрос мне представлялся неразрешимым. Что-то вроде каламбура: хлопок ладошкой по плеши, и вопрос — от чего щелчок, от плеши или от ладошки? Но при ближайшем рассмотрении тут оказалось не всё так просто. И собственных знаний мне не хватало, конечно. Но и тут фортуна не отвернулась, к тому времени уже был усвоен, обработан, свёрстан и выпущен в свет весь блок русской литературы XIX века, просто невероятный по своей ёмкости, глубине, всеохватности и любым другим параметрам. Люди в том веке отчего-то решили прервать молчание и заговорили все наперебой…
Если отнестись к известному изречению: большое видится издалека, — то «далеко» тогда как раз и настало, вероятно. На станции у нас был книжный магазинчик. Даже нет, к нему лучше подходит название книжная лавка. Обычный бревенчатый домик. Этого никогда не забыть: запах старого деревянного дома и вместе запах книг. А тиражи какие тогда были! 300 000 — 500 000 — 1 000 000 — 1 500 000! И нули, нули, нули… Сколько же народищу во всём этом надо было задействовать, чтобы всё это поднять. Это ещё почище первых пятилеток будет. А ведь ещё и современное писали: и печатное, и непечатное. Да и распространяли — и печатное, и непечатное тоже. И?.. И весь этот массив информации неумолимо свидетельствовал только об одном: произошёл грандиозный, фундаментальный сдвиг в сознании.
Когда я это со всей ясностью осознал, я как раз был в Петушках. Ходил по берегу Клязьмы. По урочищу, которое в народе называли Бабьими песками. Там сосны, а меня всегда тянет туда, где песок и сосны. Очень уж там дух хороший, и дышится там легко. Однако вряд ли я тогда замечал что-нибудь вокруг, настолько был ошарашен вселенским масштабом произошедшего. Мысли у меня путались. Я был в полном смятении. В голове роились эпитеты, один хлеще другого. Но выходило что-то жалкое и нелепое: титанический, судьбоносно-тектонический, событийный, эпический, всемирно-исторический, апокалипсический, подрывающий сами основы мироздания и всякая прочая чепуха. Одним словом, всё крутилось вокруг «потрясения основ».
А с утра было жарко, даже парило, и я не заметил, как собрался дождь. Как-то сразу потемнело. Поднялся злой и рваный ветер, и вскоре речная гладь подёрнулась рябью первого дождя. Потом чуть передохнуло, отпустив ветер куда-то на сторону, и припустило как из ведра. Когда заливать стало и под деревьями, я как в детстве: одежду в комок, трусы и майку в ботинки, засунул это всё в пустую нору, какие сосновые корни во множестве образуют на отлогом песчаном берегу, и — голышом в воду. Это потрясающее ощущение: прятаться в воде от воды. Кажется, ты на самом стыке, где перемешиваются две среды, как две не сродные стихии, где водная среда пытается изничтожить воздушную. А противу течения и не устоишь! Чтобы оставаться на месте, нужно всем телом валиться на воду, упираясь ногами в песок. Ноги вязнут, и невольно делаешь шаг, и ещё шаг… Так и нужно было шагать, чтоб не унесло течением. А дождь всё усиливался. Струи полосовали по голове и по лицу, особенно доставалось глазам, так что лучше было глотнуть побольше воздуха и окунуться с головой. Туда, где «стихии» не спорили между собой. И где я каждой своей клеткой, как казалось, каждым своим нервом ощущал свою живую плоть. И вместе с тем, ощущал плоть всего мира. Как будто ты собою дотрагиваешься, если так можно выразиться, до самого мироздания.
Ко всему прочему, я ещё и думал. Под водой казалось, что мысли думаются как-то громче и отчётливей, чем снаружи. Как мне помнится, менялись даже их смысловые оттенки. Мне представлялись вещи, которые моё сознание расширяли чуть не до размеров космоса. В моём, естественно, восприятии. Мне даже приходилось себя заставлять возвращаться к тому, о чём думал до этого. Чтобы хоть как-то придать всему этому предметный характер.
По памяти я теперь могу восстановить примерный ход мысли. Вот он: в три приёма, в три рывка — Грозный, Пётр и Сталин — и народ всё-таки перевернули. И тот же народ заплатил цену (нравится оно нам или нет), которую изменить нельзя. Мне не нравится, но по счетам уплачено, и торговаться не с кем. Хотя даже думать о ней ужасно. Особенно о ХХ веке. Эти два крестика — ХХ — ещё очень долго и очень многое будут для нас означать. «Что заставляло людей всё это делать?» Теперь-то уже многие заговорили о покаянии: Сталин плохой, Гитлер плохой. Как будто наши проклятия избавят нас от подобного в будущем. Это не покаяние, это заклинание. Настоящее покаяние в осознании того, что гитлеры и сталины приходят потому, что мы — такие.
Я как подумал об этом, так почувствовал себя чуть ли не пророком. Этическое направление мысли очень человека возносит. Стало за себя неловко. Но тут меня развлекла потрясающая мысль. Я, кажется, понял, за что мы заплатили такую цену. «Слово. Наша литература». Наша литература — это не просто литература, это уже некий священный текст, Священное Писание. Его уже нельзя бросить; и жить будто его нет — тоже нельзя. Нам нельзя уже жить просто так. Для меня это было как прозрение.
«А как? Библия и литература, — какие тут, казалось бы, могут быть сближения?» Но и то и другое создавалось по тому же закону, и этот закон исходит из одного начала. Это было очевидно. Особенно, когда, наш русский язык создал то, для чего, в принципе, любой язык и нужен: священный текст, который есть сгусток разума и души, спаянный опытом и отлитый в конкретную форму. Он создавался всеми людьми, которые на этом языке говорили, говорят и будут говорить. Последние предложения звучат ужасно пусто и формально, сводя все мысли и чувства на нет. Точно так же прозвучали они и тогда. Тем более, что платить по счетам, скорее всего, придётся и дальше: поколения и поколения людей, включая моё собственное, уже представлялись мне как некий культурологический гумус, на котором должны вырасти новые поколения, со своей новой культурой. Не очень радостная перспектива.
Подумалось, что литература (да и любой текст) — это всего лишь фотография человека, только не снаружи, а изнутри. Мой собственный разум со мной же и спорил: весь ужас революции и гражданской братоубийственной войны от того, что государство развивалось отдельно от народа. «Ну, да бог с ним, с разумом…»
Наваливались опустошение и усталость. Как раз и дождь сходил на нет. Ветер утих, как и не был. Солнце повертелось в облаках, помельтешило тенями в соснах и снова открылось во всю свою нагую охальную силу. Всё кругом возвращалось к прежнему своему состоянию, только воздух был уже не тот. Даже запах воды не мог перебить свежей сочности нахлынувших запахов. Как раз тот случай, когда можешь не только видеть, но и чувствовать всё окружающее.
Зато десять лет, или что-то около того, были потрачены не даром. Только теперь опять нужно было всё перечитать и выбрать, выстроить свои главные тексты. Самое поразительное, каждый это может сделать по-своему. И это всё равно останется священным текстом. Именно так люди и делают, осознанно или нет. Мало того, пополнение текстов продолжается. Попытки «взять на тон выше» не прекращаются. Страшно даже подумать, что когда-то может произойти канонизация каких бы то ни было текстов и превращение их в догмат. Они просто потеряют свою силу.
Хотя жизнь такая выдумщица, передавая опыт от поколения к поколению, — всё самое главное она всё-таки кодирует в языке. Язык не очень-то запретишь или проконтролируешь. Ещё сложнее его догматизировать. Сам по себе он, наверное, и есть культура. Остальное всё зыбко и призрачно. Сегодня так, завтра этак! Положение какого-нибудь окаменевшего моллюска, которому сотни миллионов лет, куда надёжнее положения его живого собрата, которого пренепременно сожрут, и следа не останется. Но он живой, он в живом солёном океане, в водичке. «Вот и выбирай».
Но я опять сбился с мысли, потому что столько всего хотелось передумать. А думать было нужно о том судьбоносном сдвиге в сознании людей, свидетелем которого, как мне казалось, мне довелось стать. Нельзя было упускать такой случай. Да и в воде оставаться было глупо, особенно голым, могли появиться люди. Я выбрался из речки, оделся и пошёл вдоль берега. К моему разочарованию, моё нетерпение награждено не было: мысли не то чтобы перестали одолевать, и не то чтобы стали более блеклыми, просто из них ушло ощущение необыкновенности. Они как-то сами по себе находили для себя форму, устанавливали между собой взаимосвязи, перестраивались, что-то отвергали, тут же находили новые замены, пробовали построиться во что-то законченное, но я — я сам — был как бы уже и ни при чём.
Те мысли сейчас я точно и не припомню. Помню, что, в общем и целом, я оправдывал человеческую природу. Человек мне уже не казался единственной причиной всех ужасов того кошмарного века, который мы ещё даже не дожили до конца, чтобы по-настоящему оценить его беспрецедентный ужас. Даже слово ужас-то к нему не очень подходило, для его определения нужно придумывать какое-то особенное слово, которое возводило бы степень ужаса в квадрат или в куб. И это непременно нужно сделать. Хотя, с другой стороны, это был самый блестящий век человеческой мысли. С точки зрения её практического применения, естественно. Один гагаринский полёт что значит! По сути дела, от телеги и от лаптей. Самый благополучный, самый страшный век. Но это-то как раз могло быть и совпадением: что для мысли хорошо, то для человека — смерть. Да и не для каждого человека. Очень многие, думаю, прожили так, что лучше и не надо. Ведь боль и страдания в нечто общее не складываются. В общее складываются благополучие и благосостояние.
Но это всё не так важно. Самое главное, что переход уже совершился. Или перерождение, если угодно. И больше никаких родовых мук не будет, не должно быть. По идее. (Плюю три раза через левое плечо.) По крайней мере, в обозримом будущем. Мы развивались в природе, она нас рожала-рожала и наконец выродила. Целиком. Сначала показались Европа с Америкой, а теперь и всё остальное. Тельце человечества существует уже совершенно отдельно от Природы. Кормить она нас какое-то время будет, будет и воспитывать, но дальше — сами. Всё сами. И нам ничего другого не остаётся, как признать этот процесс естественным, пусть даже и с «родовыми» травмами. «Представьте себе только — четыре миллиарда лет беременности. А потом: раз — и готово!»
Когда об этом думаешь, очень хочется, чтобы эти мысли были просто бредом. Но колоссальная ирония в том и заключается, что это не абсурд и совсем не бред. Телесно человек при этом ничуть не изменился. Что же тогда родилось? Что-то в нас высвобождается из телесной плаценты, что-то такое не телесное. «А что?» Если на секунду допустить, что это сознание, тогда жизнь — это развитие сознания. Так считать есть все основания: ведь живое отличается от неживого только тем, что всё живое, начиная с самого простейшего организма, сознаёт себя собой. То есть очерчивает границу между собой и остальным миром, отделяя себя от всего остального.
А сравнивая себя с амёбой, мы наверняка знаем, что сознание развивается, а значит преодолевает этапы этого самого развития, когда количественные изменения переходят в качественные. В одном случае, это ведёт к рождению, в другом — к смерти. Остаётся надеяться, что мы прошли только утробную часть жизни сознания. Сознание «продавливает» само себя в этот мир. Картина вырисовывалась обнадёживающая.
Только «нечаянно» явившееся слово «смерть» как всегда всё подпортило. Человечество, в сущности, страдает от того, что ему не дано познать смерть в опыте. «Откуда же это слово появилось в нашем лексиконе?» И тогда, на берегу Клязьмы, это простое понятие, всего-то-навсего противоположное понятию «жизнь» и больше ничего в себе не несущее, как-то сразу меня сразило. Сразу сделалось скучно. Смертельно скучно.
Хорошо ещё, что у человеческой мысли есть механизм самообезболивания, доходишь до какого-то предела, — и онемение разливается по тем мышцам, которые двигают мысли, образы и понятия. В таком состоянии лучше всего просто сидеть и смотреть на что-то, неподвижно, не напрягаясь и не двигаясь, притворившись почти мёртвым. Нет, даже не мёртвым, а как бы вовсе не существующим. С остановившимся в одной точке взглядом. Пребывать в состоянии абсолютной экзистенциональной мимикрии. Я сидел на выступающем сосновом корневище, свесив с берега ноги, и чувствовал, что именно так всё и должно быть, что как-то иначе быть просто не могло. И та маленькая козявка не могла не взбираться перед самым моим носом по стеблю наверх, река не могла не течь, а Солнце не могло не быть именно в том самом месте. Мир изменялся и не изменялся.
И тогда мне показалось это невероятно обнадёживающим. Именно тривиальность и обыденность всего, что происходило. Я в этом впервые почувствовал присутствие того, что можно было бы назвать «Богом». Это было ощущение потрясающее. Думаю, я испытал бы нечто подобное, если бы мне даровали вдруг личное бессмертие. Правда, бессмертие такая вещь, какую никак не проверишь, есть оно у тебя или нет, сколько ни проживи. Дар довольно сомнительный. А то было ощущение всё-таки другое: ощущение неизбывности и какой-то неиссякаемости. Наверное, именно так можно почувствовать вечность, а вовсе не глядя на звёзды, как я раньше думал. Если быть честным перед собой до конца, нам остаётся только верить, что какие бы внешние формы жизнь ни принимала, какими бы ни были ужасными или наоборот прекрасными изменения этой формы, — сама суть жизни никак от формы не зависит и формой никак не определяется. Мы должны верить во всемирный закон соответствия формы и содержания. Суть же всегда остаётся чистой сутью. Должна оставаться.
Внешний вид Петушков складывался, надо признать, совсем незамысловато. Поначалу это был починок, состоящий из нескольких дворов. Потом это была обычная деревня с русскими избами, стоящими в ряд лицом к лицу, огородами на задворки. Избы были серые, некрашеные, но, по возможности, с наличниками и с затейливыми светёлками на крышах. Сохранившиеся эти избы кажутся мне теперь удивительными по соразмерности частей и чувству вкуса в отделке. Совершилось это, конечно, не благодаря таланту какого-то безвестного умельца, а вековой шлифовкой пропорций и приёмов строительства. Тем паче что отхожим промыслом в Петушках издавна было плотницкое ремесло.
Прошедшая рядом железная дорога на Нижний Новгород породила станцию. И станция, и её окрестности приобрели со временем постройки имперской промышленной архитектуры, которые не ценятся, к сожалению, и не содержатся в надлежащем виде. А жаль, хотелось бы их сохранить. Один привокзальный туалет, — просто с дырками в полу, — чего стоил. Сохранить бы и его, как обломок Российской Империи. И это вовсе не шутка, в деревнях туалетов не было. Я интересовался. Они возникли на памяти тех людей, с которыми я ещё мог общаться. Крестьянину истинному подобное приспособление было как-то без надобности. Это забавно, но у меня заняло много времени выяснить почему. И самих стариков этот мой вопрос «почему» ставил в тупик. Либо уже забыли, либо с толку сбивал имперский дух. Он до конца ещё и в «Союзе» не выветрился. Идёшь, бывало, по Петушкам и думаешь: «Когда-то это была империя. На земле, скорее всего, куда меньше мест, которые никогда не числились империями, но всё ж-таки приятно. Это тебе не просто так, не дуда с бубном».
Да и к слову сказать, в имперских остатках всё же чувствовалась некая добротность и некая основательность. При «Советах» система смогла позволить себе лишь бараки, или строения барачного типа. Сначала из брёвен, а потом и из дешёвого силикатного кирпича местного производства. Строились они для работников и работниц. Только вчера вышедших из тех же изб, но всё-таки уже являющихся людьми нового типа. И тип жилища им потребен был другой. Это было жильё уже «городское», даже если оно и смотрелось, как какой-нибудь лагерный барак. Важнее было освоить новую среду обитания, наведение красоты оставляли на потом.
Попытки перенести какие-то декоративные элементы из деревянного зодчества или соединить всё это хоть с какой-то архитектурной мыслью сначала, по-видимому, были, но очень скоро оказались за пределами приемлемых на тот момент бюджетов. Нужно было всем и сразу, а страна нуждалась. Особенно это заметно по послевоенным постройкам, когда страна нуждалась ещё больше. Но всё же, если обратиться к сути происходящего, неказистые эти дома сделали своё великое дело: в них появилось центральное отопление и горячая вода, в них появилась канализация. Сейчас уже не вспомнить, но, по-моему, даже раньше, чем туалетная бумага. Это высвобождало руки и головы от каждодневной борьбы за выживание, как в своё время прямохождение высвободило руки для совершенно произвольного их употребления. Это же навсегда привязывало к промышленному производству, напрочь отлучая от прошлой жизни.
Но самое главное, даже почти сакральное, во всём этом было разделение людей на отдельных индивидуумов. Разделение практически физическое. Стенками, со всеми необходимыми условиями обитания внутри них. Из этих стенок можно было выходить только для того, чтобы зайти в другие стенки. Стена сделалась самой распространённой частью пейзажа. Стена к стене, клеть к клети. В этих хрущёвских клетушках, как в сотах, мы и зарождались как поколение. А переход в них был настолько, видимо, резким, изолированность настолько непривычной и новой, что люди приняли её за смысл происходящего. Их не заботило не только то, что было под окнами, но даже то, что у них творилось в подъездах. Словно за их дверьми была враждебная среда, которая их отвергла и продолжала отвергать, а они ей платили тою же монетой.
Когда же выросли те, кто наконец вышел на улицы, многие из них с сожалением и удивлением взирали на то, что их окружало. На фоне полного небрежения и пренебрежения к любым канонам какой-нибудь купеческий дом, с каменным низом и рубленым верхом, воспринимался чуть ли не представителем античности. А наши просторы стали вызывать у нас недоумённое восхищение, как будто мы видели их в первый раз, как будто за нашими стенками их никогда и не было.
На эти просторы выходят теперь совсем другие люди. Эти люди уже могут жить в любом мегаполисе, могут построить любой город, тем более у них есть образцы, и они знают, чего они хотят. Для их нового глаза теперешний город представляет зрелище прискорбное. Для нового глаза, но не для меня. Я во многих этих домах бывал, каждый имел особенный дух и свой собственный норов. Да, это времянки, да, всё это дышит на ладан, но пока ещё дышит…
Вы даже не представляете, как недолго осталось до всего этого нового: архитектура, планировка, стекло и бетон, фасады и ограды, новые технологии и материалы, брусчатка, газоны, свет. А там глядишь, и Клязьма — в гранитных берегах. Названия соседних деревень перейдут в названия микрорайонов. Речушки уберут в трубы, проведут проспекты и бульвары, кругом засеют газоны.
(Вы не поверите, я поставил в этом месте точку и часа три думал о газонах. О причинах их возникновения, об их цели, о влиянии на людей и на природу, о способах ухода, о затратах и т. д. и т. п., потому что только что постриг свой собственный. Выходит, что если мозгу потребно мыслить, ему всё равно над чем. Над последними вопросами бытия, над тем, как осчастливить человечество или над устройством лужайки перед домом. Складывается такое впечатление, что в мышлении, как и в горении, важен сам процесс, а не то, что горит, и не то, о чём думается. О чём ни думай — сознание прорастает в мир, как корни в почву. А о чём не подумаешь ты, — обязательно подумает кто-то другой.)
Мы уже поездили, посмотрели мир и уже знаем, как всё это будет. Хорошо будет, эстетично, комфортно, и не стыдно пригласить гостей. Местами будет даже и шикарно, и богато будет. Я своими глазами видел, как быстро это всё происходит. У людей моего поколения порой случается даже что-то вроде головокружения. Потому что в первую половину нашей жизни не изменялось практически ничего, а потом вдруг стало изменяться всё. И не только вокруг нас, а прямо в нас. В нас самих. До сих пор не перестаю удивляться, не меняясь внешне, мы имеем поразительное свойство меняться изнутри. А животные наоборот: какие только внешне не бывают, а изнутри все, по сути, одинаковые. Ещё со времён динозавров.
Так что пускай будут изменения, пускай всё преображается. Пусть всё приобретает снаружи тот вид, который наилучшим образом соответствует сложившемуся в головах образчику. Только для меня лично Петушки — это как раз тот случай, когда никаких изменений не хочется. Не хочется совсем. Не хочется так, что всё опускается вниз, как только об этом подумаешь. Но ничего не поделаешь, это не какой-нибудь плюшевый мишка, которого можно хранить всю жизнь. Тем более, сейчас любому уже очевидно, что всё там понастроенное совсем не подходит для обитания нового человека. Человека, который превращается в одно сплошное хотение. Он-то уж, разумеется, знает, как это должно выглядеть, чтобы не казаться убогим.
Да, сейчас это выглядит и бедно, и нелепо, и убого. Но я-то чувствую и знаю, как это всё нажилось. Нажилось, как наслоилось. Наслоилось и напластовалось. Многое, конечно, знаю по рассказам, но многое и чувствую, потому что когда-то это было в воздухе, впитывалось порами кожи. И когда это уходит, остаёшься как будто без памяти. Не без головной памяти, а без памяти тела. А она есть, и она что-то для нас значит. И, видимо, значит многое. Недаром деревенские петушинцы всегда противились благоустройству цивилизации и всяким завлекательным штучкам урбанизации. Слишком ещё латинской была для них эта самая урбанизация. Вся эта бетонно-кирпичная стихия, отсвечивающая стеклом, отторгалась, казалось, не только и не столько людьми, сколько самой землёй. А людям приходилось, и они строили, строили, строили. Избы у них получались, а всё остальное — как-то не очень.
Даже металл у них не хотел оставаться металлом. Кривился, мялся, гнулся, ржавел. Покрывался слоями и слоями постоянно отлуплявшейся краски. Покрывался и прятался под её слоями, как будто его и нет. Подстригать газоны и кусты для петушинцев было так же дико, как, например, поймать и ощипать живую курицу. Поэтому всё могло расти по своему произволу там, где считало нужным. Как, впрочем, и петушинские лужи, которые тоже могли располагаться, где хотели, не испытывая со стороны человека никакого принуждения.
Теперь подобное своеволие представляется довольно смелым, если не фривольным. Но как порой хочется окунуться в такое вот своеволие! Да и где ещё можно побродить и прочувствовать всю эту жизнь и всего себя всеми фибрами души. И не каким-нибудь сиюминутным впечатлением, а представлением безразмерным во времени и потому наполненным событиями, ситуациями и образами людей. В памяти — всё ещё живых людей. В памяти…
В памяти какая-нибудь берёзка, проросшая на крыше старого депо, говорит гораздо больше, чем любая суперсовременная громада города со своими небоскрёбами и безукоризненными, кристаллическими клетками стёкол. И всё потому, что — в памяти. Память почему-то напрочь отказывает в праве на существование всякой безупречности, всякой идеальности. Одной только смерти память отказывает ещё безнадёжнее. А память будущего, — к сожалению, есть и такая в отличие от воображения, — делает для меня отвратительным тот факт, что когда-то всё это петушинское несовершенство будет неизбежно отдано в руки профессионального проектировщика, для которого станет всего лишь материалом для творчества, не более того. Он, или она, или они, — будут творить что-то принципиально другое, как бы новое, но что я уже как бы и помню, потому что уже видел, так как мы далеко не первые. В этом как раз и есть преимущество быть не первым. И больше уже не будет никаких напластований, а будет геометрия, будут технологии, основанные на возможностях современного производства и экономики. И будут деньги. Это неизбежно. И их будет всё больше и больше. И вязать они будут всё туже и туже. «Вязать и разлиновывать».
В Петушках есть странная улица. По крайней мере, мне она кажется странной. Она носит имя Ленина и идёт от моста через Берёзку до Станции. А со стороны Станции она ведёт прямо к Храму, как это ни странно звучит. Она была «проходной», как проходная комната. Что-то с чем-то соединяла, а сама была какой-то удивительно безликой. Мне запомнилась только её протяжённость, которую я преодолевал со своими тяжёлыми чемоданами — с нетерпением по приезде, и с тоской, когда уезжал, нагруженный соленьями, вареньями и всякой снедью.
А если вдуматься, для деревни ведь именно эта улица оказалась судьбоносной. Зря я когда-то удивлялся, отчего это обычную улицу с вечно разбитым асфальтом и простыми избами назвали именем, важнее которого тогда не было. Для нас по этой улице осуществлялась, по сути дела, связь со всем остальным миром. И что немаловажно, с изменяющимся миром. По этой улице все силы деревни перетекали в город. По этой улице мой дед почти полвека ходил на работу. Почти пятьдесят лет. Почти, потому что пропустил четыре военных года. И на войну он уходил по этой же улице.
Уходил вместе с мужиками, которые вернулись не все. Вернулась половина. То есть, вероятность снова пройти по этой улице в обратном направлении у деда была один к одному. «Пятьдесят на пятьдесят». Я хорошо помню походку деда, и иногда представляю его себе с вещмешком за плечами, сворачивающим на эту самую улицу Ленина, уходящего воевать. Один бог знает, что он там думал и чувствовал. Ни о каких шансах, конечно, не думал, а шёл как на работу. Как и в любой другой день.
На работу дед ходил на «Катушку». Как и многие, которым повезло. Эта фабрика снабжала деревянными шпулями чуть ли не всю текстильную промышленность «Союза», поэтому окружных крестьян было куда пристроить, тут же на месте. Никакой нужды гонять их на все эти лагерные гигантские стройки не было. Благодаря этому в Петушках получился несколько домашний вариант «Большого перелома»: из своей избы по улице Ленина можно было ходить на фабрику, построенную ещё до революции. И каждый день можно было возвращаться обратно. Что, в общем-то, не противоречило общим тенденциям революционного времени. И пока по улице Ленина можно было вернуться обратно, это была ещё ненастоящая индустриализация, пока из совхоза можно было вернуться к своей корове и к своим огурчикам — это была ненастоящая коллективизация.
Блажен, кто имеет достаточно времени на постепенность перемен. Таким преимуществом, как правило, обладают маленькие образования. К тому же, сами уже начавшие движение по пути перемен. Из-за близости Станции Петушки были уже, к счастью, достаточно развращены промышленностью. Этой малости хватило, чтобы не встать на пути нашей великой государственности, окончательно отказавшейся быть крестьянской. Но напоследок ответившей по-крестьянски на вызовы индустриальных держав.
В своё время такой же ответ наверняка организовало бы и государство американских индейцев, если бы оно у них было. Но у них его не было, им не так повезло. Однако их судьба тому подтверждение: такие вызовы были. «Были». Был на них и ответ…
А «всамделишные» индустриализация и коллективизация нам только ещё предстоят. Чтобы встать в один уровень с развитыми странами. Насильственными они опять будут или нет, я не знаю. Насилие не всегда бывает открытым, очевидным и кровавым. Тут всё зависит от точки зрения. Вернее, от ощущения каждого индивида, от его взгляда на исторический процесс и на жизнь в целом. Неизбежность, даже чисто теоретически, никак нельзя соотнести со свободой воли или со свободой выбора. Но на практике люди как-то умудряются в неизбежном ощущать себя свободными. И это — чудо.
Как бы там ни было, у меня складывалось такое впечатление, что мы по этой самой улице Ленина переносились в некий не то механизм, не то организм, который представляется мне каким-то пушисто-серебристым, мерцающим облаком, с размытыми и неясными границами. Оно меняет форму и очертания подобно облакам же. Но оно не есть природа, оно сделано принципиально из чего-то другого. Из какого-то химического «анти-природина». Если смотреть отстранённо и как бы издалека, оно постепенно разрастается и начинает напоминать форму материков, стремясь в конечном итоге превратиться в шар. Шар — идеальная форма. И для него тоже. Может, оно даже и не среда никакая, а чистое пространство. Всё зависит от воображения.
Это облако, в том месте, где оно достаточно густое, чтобы быть непроницаемым, — уже приобрело название. Название это — "цивилизованный мир". В отличие от не цивилизованного, где кругом видны либо огромные прогалины, либо некая рваная дымка. (Это всегда самое увлекательное: в формирующемся угадать конечное. «И ошибиться. А может — и нет». Но пробовать-то надо.)
Мне представляется, что главное свойство этого облакоподобного образования в том, что оно полностью подчиняет себе людей и организует их в некое подобие организма или, как я уже сказал, механизма, — где каждый индивидуум связан с любым другим индивидуумом какой-то невидимой и непостижимой, но всепроникающей взаимосвязью. Эта взаимосвязь постоянно определяет каждому своё место, постоянно выстраивает и возобновляет иерархию. Подготавливает новых индивидуумов на замену выбывшим.
Есть у меня подозрение, что связь эта вяжет гораздо жёстче и фатальнее, нежели всё, что было до неё, но человек при этом чувствует себя свободным как никогда. Он может испытывать эйфорию свободы. Так умеет обращаться с нами сама Неизбежность. Практически повсеместно люди из плотных сгустков, которые особенно интенсивно серебрятся, совершенно искренне уверяют остальных, что те несвободны и несчастны. И их, в принципе, можно понять, потому что это облако обеспечивает их инстинктивные (как телесные, так и духовные) потребности без естественных ограничений, какие были в Природе. Займи правильное место — и имей что хочешь и сколько хочешь. Потребляй, потребляй и потребляй, удовлетворяй себя и удовлетворяй. Зачастую на уровне, который не могли себе позволить и римские императоры, над головами которых, кроме звёзд и настоящих облаков, ничего ещё не было.
А постоянное увеличение потребления (тем более, подавляющим большинством индивидуумов) как-то даже гипнотизирует, как, впрочем, и любой ускоряющийся процесс. Как, к примеру, ускоряющийся с возрастом бег времени. В этом облаке один, единый и цельный процесс жизни заменяется миллионами каких-то других процессов, процессов разнообразных и совершенно разрозненных, которые постоянно совершенствуются и тоже всё время ускоряются. Совсем несложно заметить, что облако постоянно изменяет для человека среду обитания, загоняя природу, развивающуюся немыслимо медленно, в цветочные горшки и в резервации. Природа тоже должна быть подчинена и организована. Природа должна производить. И производить именно то, что нужно облаку. Поразительно, но эта пушистая серебристость имеет способность превращать всё, в неё попадающее, во что-то другое. Раз — и вдруг меняются и содержание, и назначение, и даже название.
Как-то подозрительно это всё. А ещё подозрительней, что вся эта красота начинает всё явственнее приобретать видимость живого организма. Все эти венозные потоки ресурсов и текущие по артериям блага, переходящие в капиллярную систему розничной торговли. Все эти финансовые лимфоузлы и лимфотоки. Все эти информационно-нервические цепи с аналитическими нервными центрами. Все эти энергетические внутренние и внешние секреции. Весь этот потребительский кишечник. Уже заговорили о всеобщих лёгких, об иммунной системе, о температуре. Постоянно нужно делать какие-то анализы, ставить диагнозы. В последнее время поговаривают о не очень хорошей работе печени. Всё настойчивее поговаривают. Где-нибудь скоро отыщется и клоака. Все туристами поедут её смотреть…
Из космоса весь этот монструозный рыхлый организм тоже, я думаю, напоминает уже очертания материков. Естественно, закрадываются сомнения: уж не в сговоре ли это пушистое, снаружи, облако с государствами. Как-то уж очень похоже они оконтуриваются. Однако при ближайшем рассмотрении начинаешь понимать, что и государства постепенно начинают растворяться в этой мерцающей дымке. И тогда становится страшно. Иногда до ужаса и холодного пота. Как бывало когда-то от психозов холодной войны, посреди ночи, от предчувствия, что — вот оно! — сейчас и начнётся, светопреставление.
Я пишу эти строки и сам не могу поверить в то, что пишу. Сил нет как хочется, чтоб это всё было лишь плодом больного воображения. Хочется, чтобы это оставалось голливудским фильмом, после которого выходишь из кинотеатра в тёплый вечерний воздух, в свою милую и привычную обыденность. Мне пока ещё помогает поездка в Петушки: увидишь пару избёнок, покосившийся забор и просёлочную дорогу, петляющую куда-нибудь в сторону леса, — и всё проходит. Ну, может, не совсем проходит, но отпускает и позволяет как-то отвлечься. В таком состоянии очень хорошо попить из Колодчика ледяной водички, умыться ключевой водой и бродить до вечера по лесу. Один раз я так и заночевал где-то в стогу, чтобы подольше не возвращаться.
И главное, как всё это незаметно с нами сделалось, что мы стали совсем другими. Как-то так нежданно и негаданно, что воспринимаем мы это лишь задним умом. Впрочем, это тоже объяснимо: идём-то в будущее, а видим только прошлое. Бежим от прошлого, не зная куда. Ну и ладно, узнаем, когда будущее станет прошлым. Хотя! И физики, и метафизики всё время думают, куда и как мы идём. Может, чего и надумают. Они же могут: как-то так — раз! — и всё объяснить. Возьмут и переиначат всё по-другому.
«Всё от того, как поглядеть», как дед мой говаривал. Но он-то сидел себе в Петушках и сидел. А мою мать уже влекло куда-то прочь. Туда, по улице Ленина. Там, в самом начале улицы, школа стояла, которая была для неё, девчонки, как свет в окошке. Сама мне говорила, что только того и ждала, когда в школу. В пять вставала, делала уроки, что-то там по дому — и бегом в школу. «Избяная правда» их уже не влекла, она так и сказала: «Там совсем другая жизнь». Там — это где-то впереди. Они уже оперировали понятиями не пространственными, а временными. «И это был только первый шаг…»
Школа дореволюционная. Говорили, что она была ещё «земская». Слово мне это нравилось безумно, как, впрочем, и слово «опричнина», хотя я, конечно, не понимал значения ни того, ни другого. Иногда я смотрю на это здание, здание красного кирпича, в котором мне видится и вкус, и даже какое-то необычное для здания в Петушках чувство собственного достоинства, с каким оно состарилось, но я не могу почувствовать той силы, которая так властно когда-то овладевала матерью. Мне даже трудно её себе вообразить, трудно себе представить. По всей вероятности, нам достались разные этапы одного и того же процесса.
Мама и родилась на этой улице, улице Ленина. Бабушка просто шла и не дошла, её заволокли в ближайший дом, — и у меня появился шанс. Я стал всего лишь только возможностью. А сколько ещё всего должно было произойти, чтобы возможность превратилась в реальность. Событие за событием, и чтоб нигде не было ни одного сбоя. И первое событие, как их уже вдвоём повезли на телеге в больницу, рядом с которой я потом буду тонуть. Эту телегу я всякий раз пытаюсь себе представить, когда прохожу по пути её следования. Представилась бы мне такая возможность оказаться в прошлом, и мне предложили бы на выбор: проезжающего в пролётке по деревне Пушкина или в телеге маму с бабушкой, я бы наверняка выбрал последнее. Даже не знаю почему.
Для мамы эта улица оказалась дорогой в одну сторону, назад она не вернулась. Да уже было и некуда. Уходили не просто люди, уходил образ жизни. А с противоположного направления на петушинцев проистекали общие тенденции, которые нам всем хорошо известны. Отрезали землю, так что гумно и овин оказались где-то далеко в поле. Нарушили лошадей. Ввели налог на домашнюю живность. Избы стали красить разноцветными красками, которые покупали в сельпо. Изнутри — стены обивали картоном от папиросных ящиков и оклеивали обоями. Даже стеклянные люстры появились, как будто хрусталь. Жить становилось лучше, жить становилось веселей. Одним словом, какая-то жизнь налаживалась. Как и у всех. Она если и налаживается, то как-то сразу у всех. Деревня погружалась в общее благополучие вместе со всей страной.
Единственная петушинская особенность, которую я запомнил, была связана с «Катушкой». Повсюду были эти шпули. Бракованными шпулями и обрезками чурок, из которых они производились, топили печку. Их завозили целыми грузовиками. Сколько я их перетаскал корзинкой в сараюшку, во дворе, — даже не упомню. А ещё брали на дом работу, набивать на эти шпули железные кольца, распиленные с одной стороны. Эти кольца тоже были повсюду. Особенно много их почему-то было в земле. И когда копаешь, они постоянно нанизывались на край штыка лопаты, и сбивались кверху. Все лопаты у нас поэтому были с «пирсингом». Это тогда и произошло, когда мы вскапывали землю: я вдруг осознал, что мы под картошку землю не пашем, как должно бы вроде быть по-хорошему, а копаем лопатами. Да ещё лопатами с «пирсингом». Полный абсурд. Я, помню, тогда разогнулся, вытер пот и ясно осознал тот момент — точкой невозврата. «Обратного пути нет». И его действительно не было.
Это на меня подействовало ошеломляюще. Я даже стал приставать к петушинцам, да и к своим тоже: мол, индустриальная эта машина — не живая, а мы-то живые, а она всё живое рано или поздно перерабатывает в неживое, и она всё время ускоряется, и её нельзя остановить. «Бесполезно». Я людей спрашивал: «Вот вы, — посадили бы вы своих детей в поезд, основными свойствами которого является то, что он должен постоянно разгоняться и что ему нельзя останавливаться? И сами бы сели?» Никакого эффекта. «На мой век хватит», — читал я во многих глазах. Никакого такого поезда, ничего такого они вообще не видят, а видят какую-нибудь свою ближайшую нужду, какую-то непосредственную потребность. Вот и выходит, двигать всю эту финансово-индустриальную махину будет теперь не природная сила жизни, а эти самые потребности, которые день ото дня перестают быть естественными. То есть, основным движителем будут жадность и зависть. Чтобы выжить в новом мироустройстве, нужно постоянно желать больше, нежели имеешь сам или имеет другой. Это должно стать инстинктом. Инстинктом каждого. Иначе всё рухнет. Не вернётся обратно в природу, а рухнет, низвергнется в хаос самоуничтожения.
И в новых людях потребительский этот ген уже сформировался. Сформировался и сидит где-то на уровне инстинкта самосохранения. И им всё равно. То есть, как угодно, лишь бы ехать. Мало того, сейчас их в ужас приводит одна только мысль, что этот их поезд не то что остановится, а немного притормозит. Да и бог бы с ним, раз все уже погрузились и другого пути не видят, но мне всё-таки, сил не было, хотелось спросить у кого-нибудь разрешения. Хотя бы посоветоваться с кем-то. «Что из всего этого выйдет-то?» Кто-то ведь должен сказать, ничего, мол, страшного, всё путём…
А мне объясняли, как разогнать этот поезд ещё быстрее, как убрать с пути все помехи, как сделать так, чтоб уж ничего не смогло его остановить. Объясняли, а сами старались занять самые лучшие, по их мнению, места в этом самом поезде. И я махнул рукой, да пропади оно всё пропадом! Есть возможность, да и не взять! У колодца, да и не напиться! Даже интересно, черт возьми, что из всего этого выйдет.
Когда дед уходил на войну, ещё никакой мировой экономики не было. А когда по деревне гнали пленных немцев, на Нижний, её уже запустили. Благодаря, может быть, в том числе и этим немцам. И не Россия запустила, не исчезающая Британская империя, не Европа, а оторвавшееся, отдельное государство: Североамериканские Штаты. Всё это чертовски интересно: движитель мировой экономики на одном из материков, и притом — на удалении от основной массы человечества. И ведь нам снова повезло, счастливый случай ещё раз не обошёл стороной. Когда произошёл этот, по всей видимости, пробный запуск, мы ещё находились в железном коконе, пребывая в стадии куколки. И оттого, что кокон был железный, нас это не коснулось, сохранив тем самым и саму куколку, и сбережённые для неё ресурсы. А пробный потому, что как только к американскому локомотиву стали цепляться, — одна за одной, — новые, вылупляющиеся из куколок, экономики, — он и забуксовал. Американского мотора на всех не хватает. Это поведал мне один знакомый экономист, очень, говорят, толковый.
Тогда сколько этих моторов будет? И где? И как они будут взаимодействовать? Кто и как будет ими управлять? Здравый смысл подсказывает, что у организма должна быть одна голова. Кто-то скажет, что и сердце должно быть одно. «Кто знает?!» Одно можно сказать с уверенностью, что всё это чертовски интересно и обещает нам, как минимум, потрясающее по грандиозности, захватывающее зрелище, а уж хлеба при нынешних технологиях, надеюсь, должно хватить…
Только мысленно я почему-то всё время обращаюсь назад, к тем людям. То ли это боязнь нового, то ли надежда угадать ту неуловимую и невидимую линию, с которой природа нас отпустила. Отпустила совсем. В поколении родителей я её не обнаружил. Маму с теми девчонками, когда они выбегали на нашу дорогу вынести еды тем самым пленным немцам, я ещё хоть как-то, с трудом, но могу понять. Что-то могу о них додумать. Могу представить, что они могли чувствовать. А туда дальше, за ними, пустота. Пропасть. В воображении: уходящие стоптанные валенки и издаваемый ими хруст снега. Валенки, бредущие куда-то от тебя, куда-то туда… в глубину поколений.
Попытка связать прошлое и будущее почему-то всегда приводит к сумятице мыслей. Ты вроде что-то и улавливаешь, что-то у тебя с чем-то связывается, но очень быстро осознаёшь, что всё это настолько разрозненно и неполно, что всё твоё понимание не имеет ровным счётом никакого значения ни для тебя самого, ни для других. Написал и подумал, а почему, собственно, это должно иметь значение для кого-то другого? Чего далеко ходить, вот тебе и первая разница: там у них была единая истина и единое для всех знание, потому что в нём был сконцентрирован опыт выживания, и его инстинктивно не позволяли разрушать. Тем самым делая его сакральным. А теперь, когда мы ответственность за выживание возложили на цивилизацию, каждый может всё познавать и узнавать, исходя из собственных побуждений. Получается такое рассыпавшееся и разбежавшееся познание, отнимающее древнюю монополию у общественного мнения. С такого количества точек зрения, какие теперь нам будут доступны, картинка должна открываться умопомрачительная. Не только в переносном, но и в прямом смысле слова. Вызывать она должна будет либо умопомрачение, либо «умо-просветление». А это уже механизм, который сначала будет заставлять каждого действовать осмысленно, потом шаг за шагом, постепенно, превратит само осмысление в действие, а затем это действие осмысления сделает главным делом жизни.
Вырисовывается нечто похожее на древо познания, но не добра и зла, а осмысленности и бессмысленности. Потомкам нашим предстоит не просто задумываться, а думать. И думать серьёзно и постоянно. Либо научиться делать себе постоянные мозговые аборты, потому что для мозгов очень сложно придумать контрацепцию. Источник оплодотворения недоступен. «Неужели у этой серебрящейся субстанции тоже будет свой естественный отбор?! Всё как по-настоящему!» Только представьте себе, куда будет перемещаться человеческое «я». Если уже не перемещается. Я не провидец, куда — не знаю, но из телесно-чувственного мира оно побежит. Наутёк. Там боль, там страдания, и там смерть. Очень простой механизм, основанный на страхе смерти: забота о теле, а заботиться о теле означает относиться к нему, как к чему-то по отношению к себе внешнему, перестать быть им. И чем больше бережёшь его, чем больше думаешь о нём, тем больше перестаёшь им быть. Единение с ним достигается только тогда, когда ты полностью во власти инстинкта. А по нынешним временам — это уже непозволительная роскошь.
Но ещё интереснее механизм личностный. Как известно, личность — это то пространство, какое ты сумел своей человеческой силой, характером и интеллектом высвободить для себя в довольно плотной среде других индивидов. Вернее, не само это пространство, а его граница, которую нужно постоянно защищать и удерживать, иначе те самые индивиды сомнут тебе твою личность донельзя. Думаю, точно также было и у петушинского крестьянина. С той только разницей, что он рождался, жил и умирал в одной среде, среди одних и тех же людей. По сути, одна личность на всю жизнь. Теперь же у городского человека этих личностей не сосчитать: родные и близкие, друзья (порой совсем разные друзья), знакомые и знакомые знакомых, влюблённости и остатки влюблённостей, соседи со своими друзьями и родственниками; детсад, школа, институт, работа и каждая новая работа, каждая новая должность; всевозможные государственные и не государственные структуры и службы; даже улица: трамвай, кафе, прачечная, магазин, парикмахерская, общественный туалет, — всё это формирует твою личность. Обминает, обтёсывает, обкатывает, обтирает. Не переставая. Даже наедине с телевизором ты — другая личность: перед ним ты и насильник, и жертва; и царь, и юродивый; и адепт, и властитель дум…
Как фасеточный глаз у мухи состоит из множества ячеек, так теперь и наша личность. Постоянно нужно переносить своё «я» из одной такой ячейки-личности в другую. Порой помногу раз за день. А в каждой ячейке свой нерв. И за каждой из них необходимо следить и проводить постоянное межевание границ. Каждую надо наполнять собой, своим содержанием. Без этого никак нельзя. И всё это заставляет человека быть до такой степени лицедеем, что понять, где ты какой, где придуманный, а где настоящий, — он уже не в силах. Механизм этот в конце концов выталкивает наше «я» во внеличностное пространство. И ты опять-таки теряешь связь со своими телесными проявлениями, потому что все личностные связи образуются через телесное. Всё это прямиком ведёт к полному одиночеству.
Чтобы быть не одиноким среди окружающих, чтобы они в твоей жизни присутствовали, ты и сам должен для них присутствовать. Ты должен быть. А тебя уже вроде и нет, даже несмотря на твоё кажущееся присутствие. Но что гораздо хуже, «я», вырвавшееся из этих личностных ячеек, начинает крайне болезненно реагировать, когда его зовут обратно. А его зовут. Зовут все личностные связи, которые ты не в состоянии разорвать, если только не станешь отшельником, если только не поселишься в какой-нибудь отдалённой пещере. Твоё собственное прошлое настойчиво приглашает тебя вернуться. Вернуться туда, где оставаться тебе всё сложнее и сложнее. Ты просто должен присутствовать в своих ячейках, откуда ты уже намерен исчезнуть, где всё поэтому блекнет и как-то обесценивается. Как, в общем-то, и сама жизнь перед уходом блекнет. Всяческий смысл из неё вымывается. И тебя самого размывает, как промокашку. Я пробовал, я знаю.
Наиболее наглядным примером в этом смысле являются отношения между мужчиной и женщиной. Почему? Потому что в реальности мужчина существует только в голове женщины, а женщина — в голове мужчины, что исключает всяческие внешние влияния в их отношениях до того минимума, которым уже можно пренебречь. Во все времена мужчина и женщина являли собой межличностные отношения во всей их чистоте. У крестьян — с языческих ещё, видимо, времён — сохранялось глубинное ощущение, относящее отношения между мужем и женой к той же сакральной линии, по которой проходит граница между жизнью и смертью, между плодом и пустоцветом, меж тьмой и светом, между предопределением и самоуправством. Поэтому-то зачатие, созревание и рождение плода в их мироощущении означало самое прямое и непосредственное соприкосновение со смертью, когда граница между жизнью и смертью истончается до ощущения её полного отсутствия. Человек ощущал себя сопричастным великому таинству жизни. «Жизни-смерти, смерти-жизни».
А в те времена человек ещё не осмеливался вторгаться в эти сферы, а тем более своевольничать там. Он сознательно подчинялся высшей силе, превосходящей и его волю и его разум. И разум ещё был не в силах этой подчинённости помешать. Так оно и было: уже не чистый инстинкт, но ещё и не своеволие. Это был акт добровольного единения с божественной силой жизни, и, по сути, и по ощущению. Именно так это воспринимали и ближние. И всякий мог к этому приобщиться. Как и к взращиванию будущего урожая. Земля будет рожать, и животные будут, и люди. Ведь недаром для тех людей свадьба была одним из самых главных в жизни событий. Событийность эта отразилась в настолько живучем ритуале, следы которого даже я успел ещё застать, хотя от многих и многих ритуалов к тому времени уж не осталось и следа. Молодых всем миром провожали до опочивальни, наполняя всё вокруг шумом и гамом, то есть своей жизненной силой. Там в ночи решалось — жизнь или смерть. И люди хотели, чтобы это была жизнь. И до последнего отпугивали смерть своими песнями и весельем. И далее — следовала жизнь, сродная той, что была и есть в человеке от природы.
Рожать же женщина старалась всегда из дома уйти, и совсем не из стыдливости, а чтобы ни очага её, ни домочадцев не коснулось веяние смерти из приоткрывающейся бездны. Если женщина была «грязная», это воспринималось событием того же рода. И даже в церковь заходить ей было заказано, дабы не занести туда смертного духа. Даже христианство до конца не вытравило этих «диких» представлений. Но дикое рано или поздно перестаёт таковым быть. В этом и заключён смысл появления в природе человека. Существа сознающего и осознающего. Осознание есть отказ от интуитивного, интуитивное наитие есть отказ от инстинктивного. Если по этим ступенькам быстренько взбежать в наше время, то вот, что мы имеем. (Хочется добавить: «в сухом остатке».) Удивительный наш язык сам ответ и даёт: сухой остаток в результате мы и имеем. И настолько уже сухой, что оживить его представляется мне делом совершенно безнадёжным.
Разница между цветком в поле и таким же цветком в хрустальной вазе не в их судьбе, — полевой цветок, в конце концов, может быть съеден коровой, — а в вымывании сакрального смысла бытия. И в вазе, кстати, можно оказаться только благодаря разуму… Из всей бытийности былых отношений мужчины и женщины нам остаётся всего лишь механизм воспроизводства себе подобных, регулируемый разумной целесообразностью и сдобренный чувственностью. (А зачастую и не сдобренный.) И это в лучшем случае. В худшем — одна голая чувственность. Обрывок волнительный, но и самый поверхностный: влюблённость, вожделение, бессонные ночи, глубина переживаний, смятение чувств, бездна ожиданий, достижение своего — любовное приключение, одним словом. Затем цветок срезается и ставится в вазу, а то и просто в баночку. Что и является семейной прозой, постылой и отталкивающей. И мы инстинктивно пытаемся вернуться в «поле», снова и снова пытаемся пережить влюблённость. И любовное приключение следует за любовным приключением. То есть постепенно, но верно отношения между полами переходят в разряд развлечений.
Зато сбывается вековая мечта домохозяек — об отношениях между полами можно говорить, как о приготовлении борща. Что означает только одно: разум может распоряжаться в этой сфере безраздельно. Соответственно, всё становится эффективным, понятным и наилучшим образом устроенным. Со всех точек зрения, даже с точки зрения гигиены. «Тоже ведь точка зрения». Разум он и есть разум, чтобы всё разузнать, разведать и рационализировать. Чтобы достигать цели наиболее прямым и наименее затратным способом. Из всего надо изъять жизнь (или всё изъять из жизни), и оставить себе только удовольствия и наслаждения. Заслуженное это лакомство, нет ли. Наслаждениям — да, страданиям и лишениям — нет. Иначе зачем нам разум, если не для нашего же блага. И что за беда, что люди перестают быть двумя половинками, а половинки превращаются в два эгоизма, в две уже противоборствующие личности. И они даже не смогли понять последнее и довольно несуразное возражение из прошлого: «У нас секса нет», которое поэтому и было подвергнуто всеобщему и вполне заслуженному остракизму. А далее? Далее — разврат. И разврат — беспредельный.
«Народ для разврата собран», как говорил один герой в одном известном фильме. Разврат тогда ещё воспринимался как нечто, привнесённое со стороны. Для разврата как бы ещё необходим внешний развратитель, действия которого воспринимаются как болезненное отклонение от нормы, или даже как вызов действительности. Так всегда и было. И вдруг с людьми совершенно неожиданно происходит нечто такое, что сами же люди называют сексуальной революцией. Заметьте, революцией! На жизни одного поколения! Разум просто врывается в эту запретную сферу и объявляет полную свободу. Правда, чётко не объясняя — от чего. От природы ли, от общественных ли ограничений. Или от того и от другого разом. Но цель у него, как всегда, благая: созидание свободной личности…
А ты, хлебнув этой свободы, начинаешь вдруг понимать, что развращённость исходит из тебя самого, а не откуда-то снаружи. Чувствуешь, что теряешь стыд, а за ним теряешь и совесть. И в какой-то момент вообще перестаёшь понимать это слово — разврат. Есть физиология половых отношений, есть психология половых отношений, — а того, что развращалось и развратилось, уже, собственно, и нет. А действительно, что развращалось-то? Что было хорошим, а потом стало плохим? Что было так, а потом стало не так? Однако ещё в Петушках я начинал догадываться, что что-то в семьях становится не так. Вспомнив об этом, я, естественно, обратил всё своё внимание на других людей. И очень быстро понял, что свободы у них всё больше, а удовлетворённости всё меньше.
Подтверждающих историй, всяких разных, было предостаточно. Да достаточно просто заглянуть в Глобальную сеть, чтобы понять и оценить весь масштаб и всю необратимость происходящего. Складывается такое впечатление, что человек и сам уже не знает, что с этими своими сексуальными побуждениями делать. Изгаляются кто во что горазд, так что и фантазии уже не хватает. Хуже того, это приобретает всё более неестественные и уродливые формы. Судя по предложению на рынке, совсем не сложно составить себе представление о спросе. «Деньги — товар — деньги». Картина вырисовывалась удручающая. Впечатление было такое, что мы, как те малые дети, которые с болезненным нетерпением раскурочивают и потрошат свою любимую игрушку. Становилось ясно, что одно из сильнейших человеческих побуждений осталось без естественных механизмов его реализации. Но что было делать?
Когда я задавал себе этот вопрос, я думал исключительно о себе. Я был уже женат и, по известным причинам, должен был ответить себе на вопрос, что же естественно и не безобразно, а что недопустимо. Ответ, какой я сумел отыскать, был для меня, прямо скажем, несколько обескураживающим. Неразвращённым и неизвращённым мог быть только чистый инстинкт, в его первозданном виде, без малейшей примеси чего-то от разума, что нам давно уже не доступно, что мы уже даже вообразить себе не можем. И ничего поделать с этим было нельзя. Оставалось только надеяться, что всё само как-то образуется. А когда сделать ничего нельзя, остаётся спросить себя, кому и на что всё это нужно. И ответа не было. Выходило так, что разум, помогая нам в достижении плотских благ, на деле оказывался инструментом развращения и разрушения этой самой плотской жизни. Видимо, именно поэтому и необходима общественная мораль. Не только как противовес инстинкту, как я раньше думал, но и как противовес разуму.
Я попытаться было разобраться, что мораль, собственно, в этом вопросе нам предписывает. Было желание на неё опереться. Но тут грянула свобода, и морали как-то вдруг не стало. «Долой любые оковы, красота спасёт мир!» Впрочем, тогда уже было не до морали, есть стало нечего, и мы занялись выращиванием картошки и капусты. А там и толкотня началась, чтоб занять под солнцем место посуше. И, наблюдая людей, я понял, что, в сущности, развращённость является определённым преимуществом и в борьбе за выживание, и в борьбе за доминирование, которое, в свою очередь, позволяет зарабатывать больше денег. Только обладание деньгами всё равно никак не может заменить тебе того, кто должен обладать тобой. И пошло-поехало, опять та же кутерьма: вожделение, обладание, — и тут же во всё мешается разум, убивая чувства, развращая инстинктивное в бешеной погоне за вечно убегающим удовлетворением. Развращение же — это всегда уничтожение явления по сути. «И как тогда сохранить отношения?»
Тут нужна либо какая-то договорённость между сторонами, либо взаимное наитие. При устойчивой тенденции к распаду, это, должно быть, неимоверно трудно для обоих. А если всё-таки это и удалось сделать, — зрелище предстаёт довольно жалкое: два сексуальных субъекта (или три, четыре — я уж теперь не знаю), которые постоянно балансируют на грани разумного и неразумного, набором определённых приёмов помогая друг другу справляться со своими далеко уже не естественными побуждениями. Благо, нас женщины ещё как-то жалеют, а то вообще была бы тоска… Хотя, с другой стороны, если по графику и соблюдать правила гигиены, то это, говорят, продлевает жизнь. «Тоже совсем неплохо».
Плохо другое. (А может и хорошо, я не знаю.) Как-то я стоял на петушинской платформе и смотрел, как в сторону Владимира не очень быстро шёл товарняк. Я к тому времени, — года уже два, наверно, — занимался известной философской задачкой о свободе человеческой воли. Решал, где человек свободен в своих поступках, а где — нет. Прочитал не один десяток книг, исписал не одну пачку бумаги. Вопрос этот уже казался мне настолько сложным, что любые теоретические попытки его решения, только ещё сильнее его запутывали и затягивали в мёртвый узел. Я очутился в дремучем лесу всевозможных логических построений и умозаключений, в котором плутаешь и плутаешь без всякой надежды когда-нибудь оттуда выбраться. А тут, на платформе, в долю секунды как-то всё вдруг упростилось.
Мимо меня прошли две нестарые цыганки со своим чумазым выводком, рядом со мной стояла мамаша и розовый чистый бутуз в жёлтой шапочке с бубончиком и с жёлтой же лопаткой в руке, поодаль на лавке сидел дед, дожёвывая и досасывая свою, наверно, стотысячную папиросу, а вагоны всё выстукивали и выстукивали на стыках своё: стык-стук, стык-стук, стык-стук… «Каждый божий день, каждый человек решает на практике этот пресловутый вопрос о свободе воли, даже об этом не задумываясь. Решает его не раз и не два, а десятки раз. То же делал и я в продолжение всех двух лет, не прибегая к знанию, как и все эти люди. Получается, что решение этого вопроса никому ни на что не нужно. Это всего лишь упражнение для мозга, способ поупражняться в своей способности умствования. И не более того».
И как это бывает, когда с глаз спадает какая-то пелена, для меня стало очевидным, что в нашей воле — в их, в моей — находится только то, что Ему (глаза и палец при этом машинально указывают наверх) уже не важно и не интересно. Именно поэтому оно в нашей воле и находится. «Хотим рожаем, хотим не рожаем. Можем предотвращать беременность. Можем кончать жить самоубийством. Можем разрушать себя никотином, алкоголем и наркотиками. Можем разрушать окружающую среду, частью которой сами и являемся». Выходило, там наверху до нашего физического выживания уже нет никакого дела. «Сами, сами, сами…» Выходило, то, что отдано на наше усмотрение, что находится в нашей воле, — то ничего уже для Жизни не значит.
Тогда почувствовал я себя просто каким-то обиженным ребёнком, которому доверяют одни никчёмные игрушки. «Как ту жёлтую лопатку. Бред!» Меня всё это так же неприятно поразило, как в своё время поразило, что я иду по деревне, и не поют петухи. Ни один. Я как-то не сразу и сообразил, в чём дело, просто почувствовал, что что-то не так. И потом вдруг понял: иду по Петушкам — и ни одного петуха. Мир перевернулся. Это хорошо, что к тому времени Музея Петуха ещё в Петушках не было. Меня это совсем бы, вероятно, доконало. Хорошо, оба события были разнесены во времени, и лишь в моём представлении они как-то сошлись и соединились. «Когда постепенно, оно и ничего, вроде бы».
Постепенность — это главная услуга, которую оказывает нам время. Правда, взамен требуя покорности и послушания, тем самым оставляя нам, собственно, только одну возможность: спокойно дожить свою жизнь, где-то как-то скоротать свой век. Как в клетке. Доживать в клетке времени. Постепенно теряя разницу между бдением и забытьём…
А то ли дело, вырваться из этого плена и оставить время с носом. То ли дело, когда и тех цыганок с детьми, и бредущих по старой дороге немцев, и всех тех, о ком, я тут понаписал, можно поселить в свой собственный мир, в котором время не у власти. Там можно выстроить своё собственное мироздание, которое каждый раз можно перестраивать заново, меняя местами его составляющие и время от времени добавляя новые. Так чтобы это составляло смысл, чтобы всё было взаимосвязано, целое бы было связано с деталью, а деталь с целым. А не как в реальности, где приходится терпеть бессмысленность обрывочных и отрывочных промежутков, которые соединяются только нашим наивным доверием ко всему видимому и слышимому. Там не ощущаешь пленения временем. Там развитием и видимыми изменениями можно пренебречь, настолько они незначительны, в сравнении со всем сущим. Там над тобой не довлеет глыба предопределённости, замороженная вечной мерзлотой временной бесконечности. Там немцы всё так же бредут по пыльной дороге, а девчонки никак не могут решиться подбежать и дать им хлеба. Там идёт война, и в то же время она ещё не началась и уже закончилась. И страх предчувствия, и радость победы ещё не пережиты; они всегда — переживаются. Они переживаются тогда, когда это нужно, а не когда время заставит. Там первый после Большого Ледника охотник всё ещё ступает по той самой земле, где стоит наша избушка. И у него ничего нет, кроме шкуры на теле, копья и лука. А я там понятия не имею, откуда я о нём знаю, ведь время сделало всё, чтобы мы друг о друге ничего не узнали. Там вообще ничего, что создаст потом человек, ещё нет и в помине. Там Иисус щурится от солнца и наблюдает, как плотничает его отец. А Сократ забился в тень портика, поглаживает живот и читает евангелие от Иоанна. И перед заходом солнца, они будут спорить, а может и не будут, кто их знает. Там где-то в пещере, возле догорающего кострища дремлют неандертальцы, дожидаясь солнца, нового дня и новой пищи. А динозавр в ночи вступает в глину, оставляя нам отпечаток, который давно пылится в запасниках палеонтологического музея, в одной из столиц мира, которая ещё и не столица и даже не поселение. Там только замышляется мой любимый фильм, который уже размножен, одискован и расфасован в миллионы коробочек, развезённых по всей планете. На этих дисках отпечатки пальцев множества людей, которые уже жили и ещё не жили. Там ещё не произнесено первое слово. Как мне представляется, это должно быть слово «я». И это слово ещё не проросло в сотни тысяч других слов. Там не произнесено слово «один», и потому ещё нет науки, которая уже добралась до решения вопроса о происхождении Вселенной. Ничего ещё не написано и не выбито в камне. Там миллиарды чистых листов, которых ещё тоже нет, а есть воображаемый чистый лист. Там нет пространства, там есть несметное количество ограниченных воображением пространств, которые ещё не наполнены людьми, занимающими в твоей жизни главное место. Многих из которых ты в реальности так никогда и не увидишь. Ты сам там распоряжаешься пространством и временем, ты сам их наполняешь содержанием. Там можно пренебречь Большим взрывом и расширяющейся Вселенной. Туда невозможно поместить смерть, она там не помещается…
Вот я ставлю последнюю точку, и всё, что я написал до этого, перестаёт быть реальностью. Настоящее берёт меня под конвой, ставит в своём протоколе дату и точное время и отправляет в будущее.
В реальной действительности не бывает обобщений. А для разума без обобщений не существует действительности. Действительность как-то всё чаще и чаще не вмещается в человеческое существование. Люди умудряются существовать вне действительности, будучи к ней привязаны намертво. Хотя в этом случае хочется употребить слово «наживо». А те, кому творческие силы и воображение не позволяют избежать полной зависимости от действительности, высвобождаются другим способом — пьют горькую. Способ этот не представляется естественным, тем более что прогресс превратил эту химическую уловку и в токсикоманию, и в наркоманию. Собственно говоря, в самоубийство.
А ведь люди никогда не убивают себя, они убивают действительность, которую не понимают и поэтому не принимают. Или лучше сказать, с которой не могут совместить своё существо. Мысли, инстинкты, сознание, знание, ум, разум, чувства, ощущения — из чего там это существо состоит — всё это не стыкуется у них с видимой действительностью. Я и в Петушках это часто наблюдал. И начинают-то, вроде, ничего, а потом — вразнос. Они даже выглядят по-другому. У них другие глаза, вроде как обманутые. Даже рты и зубы у них какие-то не такие. Так мне казалось, когда у меня сложился образ вымирающего человека. Когда я их себе представляю, они с горькой усмешкой твердят одну и ту же фразу: «Помрёшь — трава вырастет». Их образ — олицетворённая смысловая конечность. Именно конечность, а не законченность. Они уже и померли все. И трава выросла. И не раз.
Вывод напрашивается сам собой. Если внутри человека не строится собственное мироздание, то пустоты для него предназначенные, заполняются отчаянием и смертной тоской, которые удерживаются там тонкой коркой инстинкта самосохранения и привычкой жить. Но в конце концов отчаяние всегда убивает своего носителя. «Если нет сущей мелочи — собственного мироздания». Причём совершенно не важно, из чего строится это мироздание. Строительным материалом может быть и свой опыт, и школьное образование, и воображение, и слухи, и наука, и философия, и мифология, и футбол, и кино, и сплетни, и фантазии, и впечатления, и что угодно. Гораздо сложнее себе представить, из чего его нельзя выстроить. Причём это не какая-нибудь куча непонятно чего, это всегда системно-структурированный мир, который растёт и развивается по своим собственным законам. И в отличие от видимого мира, эта непространственная вселенная действительно постоянно расширяется. И если твоё мироздание не поспевает за логикой своего развития, это опять грозит образованием пустот. И поэтому твоё мироздание должно постоянно менять и структуру, и самый свой костяк, чтобы иметь возможность становиться больше. И тогда оно начинает управлять процессом потребления информации. Ему уже нужно не абы что, а именно то, что нужно. И потребности эти очень скоро выходят на пределы доступного, как, впрочем, когда-то и животная жизнь в нас балансировала на той же предельной грани выживания: всё, что можно, в пищу, чтобы не стать пищей. А всё, что можно увидеть, узнать или представить, — всё в плавильную печь растущего мироздания. И расслабляться нельзя. Комфорт в воображаемом мире нам только мнится, так же, как и в мире реальном.
«Похоже, что так». Похоже, что для нас это некая обманка, что-то вроде морковки, которую привязали к палке и держат перед осликом, а он бредёт к ней и за ней и везёт того, кто эту морковку держит. «А кто-то ведь держит, заставляя идти, кто-то ведь направляет. А ослику всего-навсего хочется морковки. Всего-то-навсего».
Время от времени у меня возникает такое ощущение, — порой довольно сильное, — что и я бреду за такой же морковкой. Иду и не знаю, куда. Как, впрочем, и все остальные не знают. Так мне иногда кажется. Как сказал бы дед, не знаешь, куда везут, запоминай дорогу. «Шли-шли и как-то ушли из природы».
Это ведь нужно, чтоб что-то этакое случилось в голове, чтобы мы с каждым днём всё больше и больше, шаг за шагом, сами отрешали себя от природы. Нужно изменить собственную природу, чтобы из природы же и уйти. И это вовсе не каламбур. Природа человека меняется. Из года в год, от поколения к поколению. И мы уже начинаем осознавать эти перемены в собственной сути как реальное движение, как свой путь. «Куда?»
Хотелось бы, конечно, иметь какие-то ориентиры или хотя бы вешки. А ещё бы лучше иметь возможность рассчитывать невидимую эту траекторию движения, как мы когда-то научились это делать в мире физическом. Древние китайцы в своей великой «Книге Перемен» попытались ввести специальные знаковые обозначения элементов развития человека и вывести из них формулы, подобные химическим, чтобы иметь такую возможность: управлять реакциями собственного развития. Да и развития общественного тоже. Но, насколько мне известно, последователей у этой науки не нашлось. Дальше гаданий и колдовства дело у их потомков не пошло.
Творцами самих себя мы так и не стали, поэтому выбирать себе дороги нам заказано. А значит, нам остаётся одно — подчиниться необходимости. И никто тебе, человек, ничего не расскажет и не покажет, перед носом маячит очередная морковка. Для каждого человека она, скорее всего, разная. Но практически всегда она как-то связана с созиданием. Человек уже произнёс эти странные слова: «Мы создаём вторую природу». И мы на самом деле её создаём, и даже не создаём, а творим. И специальности множества людей теперь называются творческими, а род их занятий называется творчеством.
Откуда взялась эта способность творить, никто не помнит. Уж очень далеко в глубь веков уходят те времена, когда человек принялся громоздить друг на друга камни и разрисовывать себе глиной физиономию. Ещё сложнее выявить ту грань, за которой творчество становится самоцелью. Признаться, эта грань и сейчас не всегда различима. Однако потребность творить была, видимо, насущной и неодолимой. Иначе столько бы всего не натворили. После того как ты приложил к чему-то руку, это «что-то» уже не должно оставаться таким, каким было до нас. Взять хотя бы знаменитое «здесь был Вася». Это ископаемое проявление творческого импульса практически в первозданном виде докатилось до наших дней. Как живое ископаемое. Правда, люди почему-то не особенно ему бывают рады, как, скажем, какой-нибудь кистепёрой рыбе.
Как это бывает у других, не знаю. О себе же могу сказать определённо, у меня творческие способности проснулись от испуга. Увлечения наши часто менялись. Одно время мои старшие сёстры забросили свои межстраничные гербарии, оставили рисование барышень в бальных платьях и принялись собирать фантики. И я, разумеется, вместе с ними. В моей коробке, я теперь подозреваю, было жалкое подобие тех роскошных «коллекций», какие были у них, но я участвовал в деле, и этого мне было достаточно. Тем более, что коллекции эти у них не были, как я сначала выразился, — они ими обладали. И мне жутко интересно было обладать. Одним словом, все мысли у нас были заняты пополнением наших заветных коробок. Причём фантик от конфетки тобой съеденной ценился куда меньше, чем тот, который тебе удалось добыть даже хоть с земли, даже если он грязный и мятый, и его нужно чистить и разглаживать утюгом. И вот как-то изощрённая мысль искателя привела нас под петушинскую платформу, куда люди действительно могли бросать фантики, съедая конфетку или шоколадку в ожидании поезда. «Там, где есть окурки, там должны были быть и фантики». Конечно, теперь уже не вспомнить, нашли ли мы там что-нибудь или нет, но мы как-то очень быстро попали между двух поездов. Когда поезд шёл с одной стороны платформы, мы просто вылезали с другой и пережидали. А в тот раз громада локомотива надвигалась и с другой стороны. Бежать уже было поздно. Поезда сошлись как раз в том месте, где мы сидели. Началось что-то невообразимое. Ужас со всех сторон. Ужас грохочущий, мелькающий и сотрясающий всё вокруг. Ужас, который непрерывно нарастал и, как всякое нарастающее действие, должен был закончиться чем-то непоправимым. И длилось всё это, казалось, бесконечно…
Но всё оборвалось вдруг тишиной. Внезапной тишиной, которая ощущение ужаса во мне только усилила. Усилила стократ. Он продолжал во мне шевелиться, как что-то постороннее и потому — до жути мерзкое. Скорее всего, это был первый страх, подрывающий веру в благостность мира. Потом понадобилось какое-то время, чтобы мир вернулся в своё привычное состояние. Моё же отношение к миру, как мне думается, так до конца и не восстановилось. Я перестал ему доверять безоглядно. А он меня за это наградил кошмарным сном, в котором вся земля была покрыта путями, стрелками и разъездами, и куда бы я там ни сунулся, куда бы ни забился отовсюду на меня надвигалась громада локомотива, надвигалась всей своей, ко всему безразличной, тупой и неодухотворённой силой. Сном, из которого нужно было не просыпаться, а вырываться…
Не стал я больше искушать тогда судьбу и решил рисовать себе фантики сам. Я принялся срисовывать их один за другим. Разумеется, мои фальшивки всерьёз сёстрами не воспринимались и уж тем более не принимались к обмену, но мне было всё равно. До сих пор могу по памяти нарисовать «Белочку» или «Мишку на севере». С тех пор я срисовывал, — а потом и рисовал, — постоянно. Потом и выучился, и профессию получил. Способность к рисованию, как и любая другая к чему бы то ни было способность, постепенно затягивает человека в соответствующие структуры, устроенные человеческим опытом задолго до тебя. Пребывание в коих награждает, в конце концов, умением, за которое начинают платить деньги. Что для меня, собственно, и означало занятие своего места в глобальной системе производства и распределения благ. Вместе с которой и на которую я должен был работать, пока она не обеспечит меня пенсией, то есть откажется от моих услуг, не уничтожая меня самого. Всё это позволяло мне подумать о женитьбе, об устройстве собственного очага. А там уже и о старости можно было начинать задумываться. Можно было начинать стариться. «Потихоньку, помаленьку». В соответствии с выкладками собственного разума и в полном согласии с тем, что считается естественным ходом вещей.
Естественным, однако, оказалось совсем другое. Зависимость от системы как-то незаметно уступила место зависимости от самого занятия, которое поначалу я полагал лишь частью профессии. Занятием этим была живопись. Пока ты учишься, осваиваешь основы, перенимаешь приёмы, то есть пока бегло, по верхам, проходишь тот путь, каким в этой области прошло человечество, — всё это не забирает тебя всего, целиком с потрохами. Особенно когда всё это организовано в учебный процесс и свёрстано в ученические задания, где ставятся определённые задачи и преследуются конкретные цели. А какие-либо «творческие поиски», — пока не освоил школы, — не поощряются.
Совсем другое дело, когда все внешние цели и мотивы исчезают, когда ты остаёшься один на один с холстом и красками, когда ты свободен и вообще можешь всё бросить и никогда больше этим не заниматься. Разве что иногда, только чтоб не утерять навыки. И тут происходит неожиданное: оказывается, ты уже просто не можешь этим не заниматься. Многолетняя ли это привычка, зависимость ли это, но ты осознаёшь, что выбора-то у тебя, собственно, и нет. «И что тогда?» Продолжать делать ученические работы глупо, да и не нужно. Вот тогда и начинаются те самые «творческие поиски», переходящие со временем в «творческую страсть».
Какое-то время у меня (по инерции, видимо) сохранялось устойчивое убеждение, что конечным продуктом живописания является картина. И как её не обзови: произведением, продуктом, товаром ли, — она всё равно остаётся неким материальным объектом, который кому-то для чего-то нужен. Именно как предмет. Эти предметы я и производил. Один за другим, один за другим. И не мог остановиться. Делал это по внутреннему побуждению, но, как это ни странно, с оглядкой на чьё-то мнение, какого-то воображаемого потребителя, хотя торговать картинами вовсе не собирался. Да и возможности такой у меня не было, — времена были советские. И очень хорошо, что не было. Это сохраняло, мне думается, чистоту эксперимента.
Очень скоро, анализируя сам процесс и себя в этом процессе, я стал догадываться, что совсем не полотно является целью всех моих манипуляций, а то состояние, в котором ты находишься, когда возникают связи: натура — чувство — холст, чувство — холст — натура, холст — чувство — натура. И так по кругу, до бесконечности. Мне нужно было именно это состояние, а вовсе не картина, не продукт, который при этом получается. И я постоянно искал пути, чтобы загнать себя в это состояние. Выходило, искусство — это то отношение, которое возникает между художником и предметом искусства. Отношение, которое является результатом интимного творческого акта. Настолько интимного, что мне становилось удивительным, как это художники выставляют напоказ его результаты. На всеобщее обозрение.
Впрочем, я мало об этом задумывался, я находился в состоянии непрекращающейся эйфории. Без кистей в руке я просто не находил себе места и думал об одном, только бы добраться до мольберта. Ты испытываешь постоянную потребность хоть раз в день, хоть ненадолго, но снова погружаться в это состояние. Попадаешь в зависимость. И чем дальше, тем больше и больше. Пока, в конце концов, это состояние (или его отсутствие) не завладеют тобой полностью, когда ты уже не в силах из этого состояния (либо его ожидания) выйти, даже если отвлекаешься на что-то постороннее. Которое, кстати, ты уже тоже не можешь воспринимать адекватно. Тебя удивляет, чем вокруг заняты люди. Сама действительность начинает тебя поражать и уже не представляется тебе единственно возможной и абсолютно неизбежной. Удивительное состояние!
А процесс продолжается. Продолжается, исходя из своей внутренней логики. Начинается постепенное освобождение от натуры. Познав законы, с помощью которых природа формирует в наших головах отображение натуры, ты приобретаешь способность обманывать обычное зрительное восприятие. Ты можешь создавать вещи, о которых говорят: «Как похоже!» или «Прямо как живое». И создавать их ты можешь, уже не справляясь у натуры, а прямо из головы. Но сам ты уже не получаешь удовлетворения от этого обмана, как тот фокусник, который знает секрет фокуса, и потому не может разделять восторгов зрителя. Совершенно незаметно для себя ты начинаешь творить свой собственный мир, который с каждой работой всё больше и больше отличается от так называемого «реального». Почему?
Одному богу известно, почему и зачем. Делаешь это, повинуясь ли всё той же внутренней логике, подчиняясь ли целому комплексу каких-то внутренних побуждений? Не знаю. Знаю, что отвергнуть натуру полностью невозможно, как нельзя отвергнуть внешний мир. Она всегда с тобой, хотя бы в твоём воображении. Но она уже не имеет над тобой прежней власти, и диктует законы уже не она, даже если ты к ней время от времени и обращаешься. Их диктует то самое взаимное отношение, что возникает между тобой и полотном. Мало того, это отношение развивается, меняя как тебя самого, так и то, что ты делаешь. Со временем возникает способность заниматься живописью прямо в воображении, что здорово ускоряет и тем самым усугубляет весь процесс.
Лет пять-десять: и ты уже не можешь смотреть на мир по-старому. Целостное восприятие мира рассыпается на мириады цветовых, графических, композиционных эффектов, манипуляции с которыми доставляют настоящее наслаждение. Причём, варианты бесконечны. Ты творишь свою собственную гармонию. Ты сам создаёшь целое, законченное целое, к которому ничего не прибавить, от которого ничего не убавить. И ты один знаешь, когда у тебя получается, а когда — нет. И уж если что-то получается, это невозможно сравнить ни с чем: выше тебя только звёзды.
Со стороны может показаться, что ты что-то такое проделываешь с полотном и с красками, на самом же деле ты переиначиваешь собственное восприятие мира. Переиначиваешь, пока не наступает известный предел, когда всё, вроде, как всегда: и холст, и краски, и ты сам; когда ты воспроизводишь то, что хочешь и что видишь своим внутренним видением, и всё у тебя вроде получается, — только с тобой ничего больше не происходит. С тобой самим. И ты ничего не можешь с этим поделать. Потребность остаётся, и действие остаётся, а удовлетворения — никакого. Ты потерян и ничего не можешь понять. Неудовлетворённость нарастает, как снежный ком, и заставляет тебя ставить на карту всё, что у тебя есть, и ты неизбежно проигрываешь. Проигрываешь всё, не остаётся ничего. И даже не знаешь, что проиграл и кому. Пустота. Ты как тот горький пьяница, который и пить уже не может, но и не пить не может тоже. Узел затягивается. Намертво. И что бы ты ни делал, как бы ты ни напрягал все свои силёнки, ничего у тебя не выходит. Ты повторяешься. Ты встал, то бишь — остановился. Ты умер…
Первый такой кризис был ужасен. Действительно, как у конченых пьяниц: и прекратить нельзя, но и продолжать нет никакой возможности. Остаётся наливать себе один, уже бессмысленный, стакан за другим. И валиться замертво, и валяться где-то на обочине жизни, как пьяный под забором. Зато всё глубже и глубже начинаешь понимать значение глагола «прозябать». В такие моменты, вообще, возникают какие-то особые отношения с родным языком. (Но это тема для отдельного разговора.)
А вне языка все твои побуждения, лишённые хоть какой-то формы выражения, повисают где-то в пустоте, которая настолько пуста, что в ней нет ни пространства, ни даже времени. А вот что там есть наверняка, так это исступление. Сейчас об этом даже стыдно вспомнить: резал и рвал холст, ломал кисти и подрамники, мазал всё красками, и себя самого, по-моему, тоже; даже грыз тюбики с краской и жевал её. Одним словом, творил такое, что описанию не поддаётся, да и самому теперь не верится, что всё это было на самом деле. Как я не попал тогда в соответствующее заведение и не пообщался с душевнобольными, — ума не приложу.
Что это такое со мной было, я тоже до конца не понимаю. Видимо, даже материальные предметы: кисти, краски, холст — тоже как-то исчерпали все свои возможности и уже не могли дать то, чего от них требовалось. Хорошенько не помню, но продолжалось это где-то с месяц, не меньше. Потом — апатия и полный упадок сил. Проспал практически целую неделю. В себя пришёл полностью опустошённым, совершенно ничего не соображая ни о себе, ни об окружающем мире. Не говоря уже о каком-то будущем. Один единственный раз в жизни я мог существовать без будущего, да и без прошлого, кажется, тоже. Один единственный раз. Впоследствии мне это уже не удавалось. «Ни разу…»
Это было как раз то время, когда рушился строй. Советская система, в которой я вырос, стала разваливаться. По всей вероятности, за этим было бы довольно интересно наблюдать. Но я практически ничего вокруг себя не замечал, просто не мог ни на чём сосредоточиться. Видимо, созерцание возможно только при определённой внутренней устойчивости, какой у меня не было и в помине. Так что сам исторический момент переворота я пропустил и знаю о нём только по рассказам и публикациям. Да и не мудрено: после того, как я месяца два-три ничего не писал, начались зрительные галлюцинации. Особенно частые в сумеречное время суток. Человек, только что бывший передо мной и что-то мне говоривший, мог уже отойти, но на его месте оставался как будто подмалёвок его портрета. Оставался в воздухе, со всеми взятыми цветовыми и тоновыми отношениями. Не только оставался, но и преследовал меня, сам по себе меняясь, как если бы над ним кто-то работал. И даже если я закрывал глаза, я всё равно его видел.
А бывало и так, что рушилось пространство, выворачиваясь ко мне обратной перспективой и теряя всякую логику размещения в себе видимых глазом предметов. Иногда неподвижное казалось движущимся: закрывающаяся сама собой куда-то в полумрак дверь, по-змеиному свивающаяся штора или поднимающийся неизвестно куда потолок. А закроешь глаза, начинались такие цветосветовые представления, по сравнению с которыми все наши фейерверки и современные лазерное шоу могли бы показаться сущей ерундой. Не знаю, как я тогда не сошёл с ума. Спать я практически не мог. Проходило по нескольку суток такого вот сумасшествия, пока от изнеможения я не проваливался не то в сон, не то в беспамятство. Не помню. Помню, что просыпался я совершенно разбитым. С этим надо было что-то делать, нужно было искать выход. И я стал его искать.
Только в жизни всё вышло, как обычно, наоборот: не я нашёл решение, а решение нашло меня. Совершенно случайно мне на глаза попалась репродукция «Красных виноградников в Арле» Ван Гога. Работа эта меня поразила. И это было странно, потому что я её не раз видел и раньше. И даже в подлиннике. Только теперь я видел в ней что-то такое, что заставляло в неё вглядываться снова и снова. В ней было нечто абсолютно обратное тому, что делал я: гармония там достигалась соотношением трёх основных цветов, которые человек различает: жёлтого, красного и синего. Он не усложнял всё, как я, а наоборот — упрощал, и каким-то образом добрался практически до самых истоков визуального мировосприятия. До самого «нерва». В процессе работы он сам себе на этот открытый «нерв» и воздействовал. И это передавалось зрителю. Мне, по крайней мере, передавалось. Я не раз ездил в Пушкинский музей и подолгу простаивал у «Виноградников», испытывая нечто вроде врачующего гипноза. По крайней мере, эмоции у меня были сугубо положительными.
После этой неотложной, если так можно выразиться, терапии я продал всё, что смог продать, и купил себе роскошный альбом Ван Гога. Этот, давно умерший, голландец открыл для меня новое измерение, другую вселенную, в которой как-то незаметно растворились все мои неудовлетворённые видения и связанные с ними вожделения, разрывающие мне голову. Но ещё важнее оказалось то, как мне теперь кажется, что этот альбом был на английском языке. Это было моё первое знакомство с аналитическим языком. Простое описание на английском — это уже анализ. Каким-то образом это заложено в самой его структуре. Худо-бедно, со словарём, но я чуть ли ни наизусть выучил весь текст, заодно выучил и язык. Совершенно не понимая зачем. Чисто интуитивно. И не прогадал: этим самым анализом, явившимся из английской логики, я и спасся. Во всяком случае, мне так казалось. Возвращал меня к жизни сам процесс мышления. И я думал. Думал так, как никогда больше — ни до, ни после — уже не думал.
Прежде всего, мне необходимо было понять, произошедшее со мной было случайностью или закономерностью. Поначалу я склонялся к мысли, что всё это случайно, что это побочный эффект, связанный с особенностью психики. С её слабостью, если угодно. Или даже с её утончённостью. (Человек часто склонен приписывать себе какую-то особенную неординарность.) Потом меня бросало в другую сторону: мне стало представляться, что всему причиной моя собственная бездарность. Полное отсутствие таланта. А логика работала, она уж как начнёт, так и не останавливается. Невзирая на все твои метания. И чем больше в жернова этой логики попадало информации, — и из истории живописи, и из теории живописи, из психологии восприятия цвета и света, из всего, одним словом, что было доступно в опыте, — тем больше я сомневался в своих умозаключениях. Всё было как-то глубже и естественнее, нежели простая случайность. Всё было серьёзнее и проще, нежели банальное отсутствие способностей. Но решения не было. Всё-таки не было. И довольно долго. А излечился я к тому времени настолько, что однажды застал себя любующимся на закат. Как будто ничего и не было. И без каких-либо нежелательных последствий. Вот только того первозданного, нетронутого восприятия мира восстановить мне так и не удалось. И не удастся, по всей видимости, никогда.
А ответ явился, как это всегда бывает, нежданно-негаданно. И опять это случилось в Петушках. От нечего делать я включил тогда телевизор и случайно попал на документальный фильм о Святославе Рихтере, о нашем великом музыканте. Это было завершение фильма, самые, по-моему, последние кадры: та же в глазах тоска по так и недостигнутому, — я узнал эту тоску, — и в каждом движении ощущение полной внутренней опустошённости. Особенное внимание приковывали к себе его руки, показавшиеся мне жилистыми и костлявыми. Я всё следил за ними, как заворожённый. И в самом уже конце он то ли устало опёрся лбом о руку, то ли вложил в неё свой череп, как что-то хрупкое и недужное, что нужно беречь и холить. Этот жест, соединяющий в одно целое причину и следствие, как бы замыкая круг, подводя черту под прожитым, — жест этот до сих пор стоит у меня перед глазами.
Я был поражён. С одной стороны, я испытывал благостное чувство человеческого единения, откуда-то изнутри, из самой сути, прямо из тех дремучих глубин, из которых произрастают «синие водоросли» ДНК, но с другой стороны… «Опять это было разрушение, только теперь уже через звук. Зрение, а теперь и слух». Оставались обоняние, осязание и вкус. Пять основных чувств, с помощью которых мы воспринимаем мир. По крайней мере, именно так меня учили. И выходило, что над всеми пятью мы проделываем какие-то немыслимые манипуляции, если и не разрушающие эти чувства, то уродующие до потери всякой естественной их сути. «Но зачем?»
Если, к примеру, представить себе слух, как чуткую, туго натянутую между мозгом и мирозданием струну, мы эту струну, ни с того ни с сего, расчленяем на семь жил и начинаем лихорадочно вязать на них узелки, сплетая нечто похожее на рыбацкую сеть, плетём и переплетаем, пока у нас не получается сложнейшее макраме, которое мы готовы с завидным самоотречением совершенствовать и усложнять до бесконечности. Пускай мы испытываем при этом самое «высокое» наслаждение, но каков при этом результат?! Кто так устроил, что мы вознаграждаемся за это наслаждением?.. Мы ни за что, ни при каких условиях не изменим мироздания, но что мы при этом проделываем над собой?! Мы уже никогда не услышим этот мир так, как его слышал «животный» человек. Услышим ли мы вообще что-нибудь, кроме самих себя?
«И это только музыка». Тогда как в этом процессе задействованы все искусства, включая кулинарное. «Причём давно и повсеместно». Первые наскальные изображения, каменные бабы, украшения и одежда, религиозные культы и обряды, родившие церковь, которая в свою очередь передала всё это академиям, консерваториям, библиотекам, музеям. Всё это вросло в человечество и, естественно, имеет армии служителей, теоретиков, исследователей, собирателей, популяризаторов, хранителей, обладателей, дарителей. Всех не перечесть. Вдобавок всё это спелёнато мыслью, если так можно выразиться. Прошнуровано и прошито бесконечным количеством исследований и теорий. Что, в свою очередь, гарантирует постоянное наличие в искусстве производителя и потребителя. А произведения этого вида жизнедеятельности давно уже превратились в эквивалент денег, причём практически не подверженных обесцениванию. К тому же, общество выработало устойчивые социальные формы существования процессов творчества и механизмы сохранения в них преемственности. Из поколения в поколение. Никак и ничем этот процесс уже не остановить.
О том же, что к людям, занимающимся искусством, в обществе относятся с полным пиететом, — даже и говорить не приходиться. Как когда-то преклонялись перед колдовством и чародейством, так сейчас преклоняются перед творчеством. Создали настоящий культ: что значит одно утверждение — «красота спасёт мир», ставшее крылатым и разлетевшееся чуть ли не по всему миру. «А что оно, собственно говоря, значит? Что такое красота? Почему мир надо спасать? Как эта самая красота будет его спасать? Самое главное, от чего?!»
Как это частенько бывает со мной в Петушках, чуть задумавшись — я естественным образом, незаметно для себя очутился на улице. На воле, как там говорят. Одеваясь, видимо, машинально пшикнулся туалетной водой. И оторопел аж, так неприятно на меня подействовал очевидно искусственный её запах, хотя до этого я никогда не придавал этому значения. «Парфюмерия, — постоянно обманутое обаяние. Perfume. И тоже целая индустрия». Как утопающий за соломинку, так и я ухватился тогда за мысль, что это мы заплутали, что это мы сами делаем что-то не то и не так. Я искал оправдания в частностях. Благо, они всегда на поверхности: эгоизм, бездуховность, корысть, коммерциализация и прочая, и прочая.
Особенно настойчиво думалось об экономической составляющей. Уж очень мне, видимо, хотелось всё свалить на невидимого, но всемогущего финансового монстра, которого я тогда, по всей вероятности, уже побаивался. Я просто не мог примирить себя с мыслью, что творчество в искусстве является одной из форм саморазрушения. А кругом, как назло, стояла золотая осень: безумный хоровод цвета, погружённого в небесную синь. «Красота!» Никакого сомнения не было: по-другому то чувство, какое я испытывал, никак было не назвать, кроме как чувством красоты.
«Но в детстве я его не испытывал. Хорошо помню, что не понимал, когда кто-то чем-то восхищался и называл что-то красивым. Вглядывался — и не понимал. А потом, в свою очередь, не понимали меня, когда я восхищался какой-нибудь корягой или каким-нибудь захватывающим видом». И я решил себя проверить. Как раз передо мной возвышался большой клён с огненно-жёлтой кроной. Я сделал усилие и какое-то время смотрел на него совершенно отстранённо. Это было просто чувство. Обычное зрительное чувство, которое выделяло это дерево из всего пейзажа. Выделяло и вместе с тем объединяло со всем окружающим. А потом я сам себе позволил им залюбоваться. И внутренний механизм запустился. Я уже испытывал чувство наслаждения и вместе с тем какой-то томительной неудовлетворённости. Оба эти чувства побуждали к чему-то. Я уже знал, к чему. Собственно говоря, я испытывал чувство уже от своего чувства, а не собственно от клёна. Это-то вторичное чувство и называют чувством красоты. И побуждение оно вызывает практически неодолимое. За ним должны следовать определённые действия и разрядка, то есть удовлетворение. И так снова и снова, по кругу. По заколдованному кругу.
Слишком явственно это что-то напоминало, чтобы иметь внешние причины. Всё это исходило изнутри. Из самого себя, как собственное внутреннее побуждение. Только когда побуждение есть, а естественной формы регулирования этого побуждения нет, тогда оно, как разлившаяся из берегов река, ищет себе другой путь и заполняет водой все низины и впадины, застаивается, гниёт и медленно пересыхает в отдельных лужах. «Как это и происходит теперь у человека, к примеру, с сексуальными проявлениями. Да и не только». А в художественном творчестве форм регулирования и сдерживания не так уж и много. И чем цивилизованней общество, тем их меньше. Честно говоря, я был изумлён. Это у Ван Гога творческое начало проявилось в исключительно острой форме, но и все остальные люди переживают то же самое, проходят тот же путь. Не так для себя заметно, может быть. Гораздо медленнее. В течение жизни не одного поколения. Но тем не менее. «И в чём цель замысла? Как далеко всё это может зайти?»
На следующий день мы крестили дочь. Ей уже было больше года, и когда её, совсем голенькую, поставили в таз, чтобы обливать водой, она вся съёжилась от испуга, затряслась и принялась орать как оглашенная. От жалости сердце у меня разрывалось на части. Но одновременно с этим, я испытывал и странное умиление: я тоже, говорили, когда-то орал здесь как резаный, ухватился батюшке за бороду, а он бил меня по руке, чтоб я отцепился. И, видимо, хорошо орал, потому что не один человек это запомнил и потом мне об этом рассказывал. Вдобавок мне кто-то нашептал, что меня-то крестил ещё тот, настоящий батюшка: «Не то что теперешние».
Детское восприятие имеет одно странное свойство: что с детства запало, то уже ничем не вытравишь. Головой я, само собой, понимаю, что это далеко не так, но всё одно — кажутся мне нынешние священники ненастоящими. Я как раз об этом и думал, пока «ненастоящий» батюшка носил дочку на руках и показывал ей иконы и всякие блестящие штучки, чтобы хоть как-то её развлечь и успокоить. А она всё никак не хотела. Крёстная утверждает, что он её от волнения чуть в алтарь не занёс вместе с мальчиками. Правда, сам я этого не видел.
В воображении вдруг явственно возник вчерашний клён. В голове закрутились всё те же мысли. Я непроизвольно посмотрел наверх, и у меня мысленно вырвалось: «Почто же ты рушишь чувственное восприятие мира? Почто?» Как нарочно, ещё и с этим «почто», почти забытым из детства словом. Одним из тех, от которых так упорно отучали родители. Вы не поверите, какой был ответ: вдруг вышло солнце, не успел и опомниться. Его лучи справа налево, сверху вниз пронзили всё внутреннее пространство, которое с клубами ладана стало вдруг зримым. А люди и убранство, наоборот, стали в нём таять. Картина была необыкновенная. Получай, мол, удовольствие. Но к моему удивлению, у меня отнюдь не возникло эстетического чувства. Было что-то совсем другое. Скорее, это было ощущение тихой благодати дома, ощущение пространства, которым владеешь ты, а не которое владеет тобой. «Безмерный человечий космос, а в нём некая логическая завершённость родной норы». И звук, цвет, свет, и пространство, и даже само время переиначены были так, что вызывали состояние устроенности и неуязвимости. А безучастный взгляд Христа будто говорил: всё именно так и должно быть, и никак иначе. «Благодать, одним словом…» И дочка как раз затихла. Оказалось, это батюшка, наконец, не выдержал и велел позвать мать.
В Петушках на самом деле очень красивая церковь. Об этом многие говорят, и с этим не поспоришь. Только для меня главное совсем не это. Для меня это единственное место, где живёт тот бог, к которому можно обращаться. Он какой-то «печной» бог, что-то вроде домового, и пахнет от него пасхой, кислыми щами и берёзовым дымом. Каким-то неведомым образом это чувствуется даже через запах ладана. Точно так же, как живой запах человека всё одно пробивается через самые изысканные ароматы и благовония. «Так было раньше, в детстве».
Раньше за тяжёлыми церковными дверями предо мной представало само прошлое: тогда мне там чудился дух времён Вещего Олега и Соловья-разбойника. И звуки были оттуда же. Не знаю почему, но я ничуть во всём этом не сомневался, пока старая баба Анна, одна из немногих истинно верующих, как-то очень просто и между делом не рассказала мне, что девчонкой бегала с товарками смотреть, как нашу церковь строили. Для меня это было двойным откровением: во-первых, я глядел на изборождённое морщинами лицо и не мог поверить, что оно когда-то принадлежало девчонке, а потом, невероятным казался сам факт, что на свете ещё живы люди, на памяти которых нашей церкви просто не было. «А что было? Пустое место?»
В народе рассказывали всякое. Ходила даже молва, будто при строительстве откопали пепелище сожжённой ещё Батыем деревянной церкви, стоявшей когда-то будто бы на этом самом месте. Говорили, нашли наконечники монгольских стрел и копий. И мне уже грезились всадники, топот копыт, истошный визг и улюлюканье варваров. Я решился втихаря вырыть ночью за церковью яму и отыскать там что-нибудь этакое: шлем, а лучше меч, или, на худой конец, кольчугу. «Прожект» был захватывающий и, как мне представлялось, совершенно осуществимый. Но на его пути возникло неожиданное препятствие, в виде избушки, стоящей в церковной ограде. По вечерам там светились окошки. На расспросы мне объяснили, что живут там монашки. И объяснили, видимо, не очень ловко, как ребёнку. Как я понял, монашки — это были женщины, которые «хоронили себя заживо».
Тут уж ничто не могло укротить моего любопытства. Я всё ходил кругами вокруг да около, пока, наконец, не взобрался на ограду и не попытался заглянуть в окошко: как они там сами себя хоронят? И вдруг в этом самом окошке, из непроницаемости застеколья, явилось лицо. Тоже испещрённое сеткой морщин и с очевидно живыми, хоть и блеклыми глазами. Их открытого взгляда я не выдержал. Я не успел ни разглядеть его, ни даже испугаться: через крапиву, репейник скатился к Берёзке, ногой соскользнул в воду, запнулся, упал, острекался крапивой и из зарослей вылез уже весь грязный, мокрый и в репьях. Злость на себя, досада, стыд и разочарование, какие бывают, когда сделаешь что-то не то, — вот что я тогда испытывал. Но всё это было ничто в сравнении с чувством уязвлённого самолюбия, что ты куда-то не допущен, хотя и напрашивался…
И странное дело, через столько лет, когда церковь осветилась вдруг для меня солнечным светом, шевельнув в душе что-то благостное, когда нам отдали дочку, и мы вышли в притвор, я испытал очень похожее чувство, будто тебе деликатно указали на дверь. Очень неприятное, надо признаться, чувство. В притворе, уже у самого выхода, есть место, где бабушка когда-то дожидалась в гробу своего отпевания. Когда проходишь это место, взгляд невольно на нём задерживается. Стенка там выкрашена масляной краской с имитацией под мрамор, а на ней нарисована рамка с завитушками, в которой краской же написано: «Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и гонящих вас»». Я машинально пробежал глазами по этим привычным словам, и мы вышли на улицу, на солнечный свет. И тут слова эти меня вдруг остановили. Но только не своим прямым смыслом, который каждый обычно трактует, как хочет, а, скорее, своей интонацией, изнутри присущим им правом эту самую мысль высказать.
Все мои чувства внезапно испарились. Оставалась лишь какая-то зияющая пустота. Я извинился «на минуточку», вернулся внутрь и перечёл их заново. Я был сражён. «Что давало ему право и основание так говорить?» Ответа, естественно, не было. И не могло быть. Но сам вопрос как-то незаметно завладел мной и сделался для меня чем-то вроде навязчивой идеи. «Были чувственные отношения с миром, а значит и с человеком, а какие же будут взамен?» Нужно было докопаться до ответа. Я чувствовал, что в его разгадке как раз и заключён пропуск туда, куда я не был допущен. А уж как скоро обыденное мировосприятие я всё равно в себе испортил, чем чёрт не шутит, а вдруг можно будет достичь такого состояния, в котором это «любите врагов ваших» станет настоящей и непреложной истиной. То есть, такого состояния, когда я сам смогу это высказать как несомненную истину, как если бы она мне была ещё неизвестна. Я даже пожалел, что она мне уже известна, и известна со стороны. Правду сказать, никакого мне дела до моих врагов не было, но очень интересно было испытать, как в таком состоянии воспринимается всё остальное, весь мир и все люди. Особенно люди. «И каков буду я сам?» Фортуна мне сопутствовала, это было как раз то время, когда нас стали выпускать в мир, к людям. Мы купили с женой путёвки и улетели в «Святыя Палестины».
Накануне отлёта мне приснился сон. Будто бы Иисус-из-Назарета оставил нам не просто тексты, не просто свои заповеди и заветы со своей историей, с бесконечными толкованиями и перетолкованиями, и не только церкви со своими расколами и раздорами, а ещё и такое место, всего только одно место на земле, которое само собой светится ясным и чистым светом. Это был такой чистый изнутри и глубокий свет, что во сне он виделся мне каким-то аж с морской солёной просинью.
Как это во сне часто бывает, мне совершенно был очевиден принцип его устройства, абсолютно, разумеется, нелепый наяву. Был он в виде креста, четырёхугольного креста, сотворённого из какой-то неведомой, но совершенно проницаемой для человека субстанции. Я почему-то о нём знал. Знал, что если ты его найдёшь и раскинув руки уместишься внутри, то тебе сразу откроются все тайны бытия, всё доселе от тебя сокрытое, всё, что до этого мучило своей неизвестностью, всё до конца и сразу, включая все человеческие языки и языки животных. Откроется всё то, что было доступно и Ему.
Изничтожить этот крест было никак нельзя, поэтому его застраивали каменными стенами, заваливали каменными глыбами, щебнем и песком, отверстия и трещины замуровывали кладкой на извести и яйцах, так что столетиями он был для людей недоступен. Во сне я отчего-то не задавался вопросом, зачем они так делали. Но тем не менее, его так хорошо упрятали, так долго никто не видел, что одним было уже не до него, а другие стали считать его мифом, или легендой не очень цивилизованных предков. Люди забыли даже само то место. Забыли и приверженцы, и противники Иисуса. Противники-то и должны были следить за сохранностью каменного саркофага, но и они забыли. Или просто перестали верить преданию, плюнули и ушли. И их можно понять, им приходилось верить в то, чего сами они никогда не видели. Они видели только каменную гору, которая размывалась дождями и выветривалась ветрами. Один склон этой горы был вморожен в многокилометровую толщу вечного ледника, тогда как другой утопал в зарослях джунглей.
И вот однажды, после сильного землетрясения и наводнения, из-под каменных завалов вновь засиял голубоватый свет. Люди на него удивились, а я знал, что это такое, но никому не сказал. Всю ночь я раскидывал камни, сбивая в кровь руки. И когда уже стало светать, я пробил к свету ход, проник туда и встал там, широко расставив руки, но мне никак не удавалось найти положение, чтобы за пределы ничего не выступало, как я там ни умащивался. А вот-вот должны были явиться все люди. И когда, наконец, уже в самый последний момент мне это всё-таки удалось, раздался ни с чем не сравнимый, божественный звук… Это был будильник, который меня и разбудил.
Перелёт у нас получился для северянина забавный: из зимы в лето. Мы приземлились в аэропорту Бен-Гуриона, спустились по трапу прямо на лётное поле и впервые в жизни ступили не на родную землю. Это была не земля, конечно, а бетон, но тем не менее. В первый раз в жизни мы были иностранцами. Какие-то чувства по этому поводу были, и весьма сильные, но теперь их уже не вспомнить и не пережить достаточно ярко, чтобы можно было их описать. Слишком мы ещё были «советскими». Не знали, как это всё с туристами происходит. Кажется, супруге было даже страшновато. Однако нас встретили табличкой, как и было договорено, отвезли в отель, поселили, объяснили, что к чему.
Короче говоря, всё сразу покатилось как по накатанной. Постоянно за себя «биться» никакой необходимости не возникало, даже машины останавливались перед «зеброй» и нас пропускали. Ресторанчиков и кофеен в округе было множество. Но особенно по вкусу пришлись нам уличные продавцы питы, которую ты мог сам наполнять по своему усмотрению. Да к тому же, доверху. Одним словом, куском хлеба и крышей над головой мы были обеспечены, а большего мы и не желали. Тогда мы ещё и понятия, разумеется, не имели об индустрии туризма, которая естественным образом наделяет тебя необходимым и достаточным набором услуг, были б деньги.
Даже что такое реальные деньги, мы до конца не понимали. Столь крепко в нас сидела привычка, что наличие денег ничего тебе ровным счётом не гарантирует. Поэтому для пущей надёжности мы сразу же решили отыскать базар. Благо у супруги открылся талант по внешнему виду отыскивать русскоговорящих, она и спрашивала дорогу. Свернув на очередную улочку, мы наткнулись на совершенно московскую старушку, каких в Москве уже не встретишь, в болоньевом плаще и вязаном берете с пимпочкой. Старушка брела нам навстречу, тяжело опираясь на палку. Этой самой палкой она и преградила нам путь:
— Давно приехали?
— Сегодня.
— Ну как там?
— Хорошо.
— А чего ж приехали?
— У-у… Да просто так, в гости.
— Врёте вы всё, — и пошла дальше, потеряв к нам всякий интерес. С базара она, видимо, и шла, потому что он тут же открылся нашему взору. Такого мы ещё не видели. Глаза разбегались от разнообразия овощей, фруктов, орехов, пряностей и прочего восточного великолепия. До нас в таком наглядном виде изобилие тогда ещё не добралось. Жена, как водится, принялась сравнивать цены, но тут обнаружила клубнику в корзиночках, а была середина января, как-никак.
— Ну конечно, купи, — ответил я на её просительно загоревшийся взгляд, тем более что продавец с покупателем разговаривали на русском языке.
— А почему в этой меньше, а в той больше? А стоит и то, и то пять шекелей? — в следующее мгновение она уже обращалась с этими словами к хозяину прилавка. Тот с чувством собственного достоинства всем своим видом показал, что занят с клиентом, минуточку, мол, мадам. Она и мне показала:
— Смотри, насколько тут меньше, а те же пять шекелей.
— ?
— А вы не скажите… — за прилавком появился какой-то юноша, но тот только передёрнул плечами. За женой в очередь уже пристроился небольшой лысоватый человек. Он её и прервал, похлопав сзади по плечу, и произнёс с неподражаемым одесским выговором, выворачивая от себя ладошки:
— Женщина, ну так вы и берите, где больше.
Мы купили «где больше», накупили ещё всяких разных вкусностей. Я нашёл Библию на русском и путеводитель по Израилю на русском же языке. И мы направились домой, отягчённые весьма внушительным пакетом, который с обеих сторон был испещрён надписями, составленными из каких-то геометрических знаков, как мне казалось, а не из букв. В отеле, к моему крайнему огорчению, обнаружилось, что в пакете протекла клубника, и её сок залил Библию. Чтоб в самом начале лишний раз не расстраиваться, мы решили, что это и к лучшему: Священное Писание у нас будет пропитано соком Святой Земли. Я ещё подумал тогда, что если это сделано не специально, то это не должно быть откровенной пошлостью. Подумал себе в оправдание, совершенно не отдавая отчёта, перед кем оправдываюсь.
Мне хотелось скорее к морю. Поэтому мы быстро побросали вещи, вышли на пустынный пляж и пошли вдоль линии прибоя. В последний раз я видел море ещё до моего «живописного помешательства», и мне было интересно, каким оно теперь мне покажется. Ничего особенного, надо признаться, я не испытал, вопреки ожиданиям. Я почувствовал воду и пространство. Небо и море. Среда, где человеку жизни нет, где нет тверди. Ни снизу, ни сверху. Но тем не менее, низ и верх образуют плоскость. Плоскость, которая отражает в себе пространство. Только о воде можно сказать, что она постоянно стремится быть плоскостью. Линия горизонта наглядное тому подтверждение. И в то же самое время по всей морской поверхности было такое многообразие ни на миг не прекращающегося, повсеместного движения, силящегося нарушить эту самую плоскость, что делало её практически несуществующей в реальности. Как, впрочем, и саму береговую линию. Она тоже вроде была, а вроде её и не было. Волны отступали и снова бросались на песок, иногда заливая берег на добрый десяток метров. И всё это завораживающее, неохватное действо являло собой лишь ничтожную часть той мощи, которая была под этой поверхностью скрыта.
Тем более, ты знаешь, что море всегда открывается лишь самой незначительной своей частью, а вся его необъятность только предполагается, где-то там, за горизонтом. Этим оно притягивает, этим и страшит. Притягивает своей нетронутостью, как неиспорченная жизнь, как ненаписанная проза. Страшит же своей толщей и той невероятной утробной мощью, которая в ней скрыта. А возможностью отступлений от принципа своей плоскостности страшит ещё больше. Достаточно только вообразить себе какую-нибудь стометровую волну или представить, как море убегает вдруг за горизонт, оголяя всё дно. «И тогда!..»
Слава богу, это отнюдь не такая свободная стихия, как нам часто представляется. И мне снова, хоть в какой-то мере, удалось почувствовать пространство в его чистом виде, а насладиться своей способностью к созерцанию даже в полной мере. Благо, в тылу у меня всё время оставался спасительный берег. Он не был скалистым. Никаких тебе привычных и милых глазу напластований, никаких осадочных пород. Мы как раз дошли до высокого, обрывистого, земляного берега, на вершине которого торчали многоэтажки, а не какие-нибудь древние руины, как того, по всей вероятности, желалось бы. Как-никак, а шли мы по бывшей восточной провинции некогда могущественной Римской империи… «Надо же, за совершенно небольшие деньги мы какое-то время могли ею попользоваться. Конечно, не в той же мере, как когда-то Тиберий Цезарь Август, но тем не менее».
Мне уже стали мерещиться римские тоги и перья на шлемах, когда жена обратила моё внимание на тёмные, извивающиеся по песку змейками нити. Я думал, что это ошмётки каких-то водорослей, намываемые волной, и не обращал на них никакого внимания. Но как оказалось, состояли они из обваленных в песке гранул то ли мазута, то ли нефти. На ощупь очень вязких и липких. Когда мы вернулись в город, кроссовки у меня стали липнуть к мостовой. Я вернулся на пляж и долго чистил их об песок. К тому времени уже стемнело. Но люди, на удивление, попадались постоянно. То тут, то там. Кто-то шёл прогуляться и подышать морским воздухом, кто-то сидел на лавочках и слушал шум прибоя, кто-то выгуливал собаку. Один человек примостился на скамейке и спокойно себе спал. Одним словом, в воздухе веяло полной безмятежностью. Мне, вынырнувшему из наших неспокойных девяностых, это было как-то странно, и где-то даже завидно.
Спать ещё не хотелось, поэтому, нагулявшись, мы зашли с женой в бар и устроились у барной стойки на высоких стульях. Тут общаться пришлось на английском. (Спасибо Ван Гогу.) Я заказал себе кружку местного пива с фисташками, а жене молочный коктейль. Однако не успел я сделать и пару глотков, как дверь с шумом отворилась, и через неё ввалилась девушка в каком-то комбинезоне-балахоне с огромной, как у хоккеистов, сумкой и с автоматом через плечо. Сумку она бросила на пол, устроилась на соседнем стуле, а свой автомат водрузила на стойку чуть ли не передо мной, едва не смахнув им моё блюдечко с орешками. Автомат был какой-то не русский, такого я никогда в руках не держал. Но совсем по-русски два рожка были стянуты изолентой. Из запасного рожка виднелись боевые патроны. Где-то это было и лестно, что меня принимают за своего, но всё же это было более чем странно. Мне и в голову бы никогда не пришло так обращаться с оружием. Я даже заговорил о чём-то с женой, в надежде, что иностранная речь заставит обладательницу несколько неуместного здесь агрегата забрать его от меня и от греха подальше. Но не тут-то было, чужая речь не произвела на неё никакого впечатления. Она попивала кофе с водой и без умолку болтала о чём-то с барменом…
Все занимались своим делом. «Люди как люди». У меня начинало возникать устойчивое ощущение, что у человечества нет никаких общих интересов, интересы есть у каждого отдельного человека. Существуют отдельно взятые, конкретные люди, человечество это — фикция. Не большое и цельное закономерно делится на малое, а совсем напротив, малое сцепляется во что-то хаотичное, неопределённое и для нас случайное. Сцепляется-сцепляется, пока под собственной тяжестью или под действием внешних сил опять не распадётся на составляющие.
А вот человеческое сознание существует именно как нечто цельное и единое. И представлялось оно мне некой плоскостью, которая, как и море, имеет свой определённый и устойчивый уровень. Сравниваем же мы все наши высоты с уровнем моря. Точно так же и в сознании, всё сравнивается с общечеловеческим уровнем. Иначе друг друга мы просто бы не понимали. Получается, никакие умственные усилия, никакая духовная работа, никакая наука, никакая философия — на уровень сознания никак не влияют. Как и любой высоты волна, к примеру, с любыми её пенистыми завихрениями, никоим образом не изменяет уровня моря. Изменяется он по каким-то другим причинам, вовсе нам недоступным и неподконтрольным. И всё-всё определяется этим пресловутым уровнем, а все наши взлёты и падения, все гребни знания и впадины невежества, всё это можно сравнить с игрой волн: вверх-вниз, вверх-вниз, но всё строго относительно общего уровня. Даже гений и злодейство не выше и не ниже того, что находится в пределах допустимых от общего уровня отклонений. «Зыбь, не более того».
Странное было ощущение… Обдумывал это всё я уже в номере, когда сидел в ванной и оттирал подошвы от мазута. Как-то не хотелось в освящённых преданием местах оставлять отпечатки современного протектора, а ещё больше не хотелось испытывать это отвратное ощущение, когда ноги липнут к полу с мерзопакостным клейким звуком.
Ранним утром следующего дня мы спустились в вестибюль. За стойкой портье, к нашему немалому с супругой изумлению, сидел молодой негр и улыбался нам своей белозубой улыбкой. Мало того, он заговорил с нами на русском языке, старательно выговаривая слова. Естественно, первым делом в голову пришло, что он учился где-то в Союзе. Я и спросил его, где. Оказалось, он никогда там не бывал, а русский выучил самостоятельно по учебникам, так как очень любит русскую литературу. В голове мелькнуло, что насчёт человечества я был вчера не совсем прав. Я отдал ему ключ от комнаты, и мы разговорились.
Знания по предмету и особенно его оригинальные суждения настолько меня поразили, что я не удержался и изложил ему, первому, свою задушевную мысль, что мы теперь имеем свои собственные «священные» тексты, в том смысле, что ими можно заменить практически всё, когда-то нами извне заимствованное. На что он не совсем правильно грамматически, но совершенно резонно заметил, что в истории есть немало примеров, когда обладание подобным достоянием ни к чему хорошему не приводило. Я даже не нашёлся, что на это ответить. Пообещал хорошенько над этим подумать и пошёл завтракать.
Меня ждал первый в жизни завтрак со «шведским столом», который сами шведы порой называют русским, полагая, что пришёл он к ним из России через прорубленное Петром Великим «окно» в Европу. Но как бы там ни было, возможность не ограничивать себя в количестве съеденного произвела на меня совершенно обратное действие. Какая-то сила заставляла меня взять как можно меньше, невзирая на увещевания жены наедаться как следует, с тем чтобы в течение дня на еде можно было б сэкономить. Отчего-то мне было стыдно и неловко. И я ничего не мог с собой поделать.
В этих чувствах я и пребывал почти весь путь до Хайфы. За окном автобуса на этот раз, наоборот, всё двигалось: и небо, и земля, и что на земле; неподвижным оставалось только море, вдоль которого мы ехали. Яркая синяя лента. День обещался быть солнечным. Чтобы себя как-то развлечь, я стал думать над словами нашего портье. И так их крутил и этак, пока не пришёл к радикальному выводу: а почему, собственно, я должен думать о последствиях?! «Если опасаться последствий, то вообще нужно не думать. А это уж точно не в нашей власти. Кто в меня эту способность вложил, тот пускай и думает о последствиях».
Привезли нас сначала на алмазную фабрику и зачем-то долго объясняли, как добываются, как сортируются и обрабатываются алмазы. Показывали работу огранщиков и разъясняли технологию производства бриллиантов. И в конце концов уговорили-таки купить золотой крестик с камушком посередине. Аргументация к тому была неопровержимая: коль скоро мы собирались посещать Святые места, освящённый в каждом из них нательный крестик мог бы стать незаменимым подарком для нашей дочери. Нам тут же объяснили, что нужно просто крестиком прикоснуться к тому месту, где стояли Ясли, когда Он родился, где стоял Крест, когда Его распяли, приложить его к Камню, на котором Его обернули плащаницей, того, кто сказал: «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб, а я говорю, —не противься злому».
И действительно, в дополнение к залитой клубничным соком Библии это могло составить некую семейную реликвию, какую обычно люди передают из поколения в поколение. Кто знает, быть может, ничего другого оставить после себя дочери мы так и не сумели бы. Так что мы даже остались довольны своим приобретением. И уже с крестиком, очень хитро упакованным и опечатанным в специальном мешочке для возвращения нам в аэропорту какого-то их внутреннего налога, но с возможностью краешек крестика оголять при «освящениях», — мы отправились на осмотр достопримечательностей Хайфы. Красивого прибрежного города, основанного ещё в римскую эпоху, а в те дни уже заползшего на гору Кармель, с высот которой открывались впечатляющие виды не только на залив и на Нижний город, но и на галилейские горы, и на уходящее к горизонту побережье, которое терялось в дымке чуть ли не у самого уже Ливана.
На фоне городской застройки своим золотым блеском выделялся купол храма бахаистов, куда нас после осмотра панорамы города и повели. Бахаи — пятая, как нам объяснили, по версии ООН, мировая религия, что меня несказанно удивило, потому как я был уверен, что время зарождения религий отнесено от нас на тысячелетия назад. И время это безвозвратно ушло. Но оказалось, что это не так: бахаизм зародился в середине XIX века и окончательно сформировался как учение и стал распространяться уже в XX веке, в конце которого мы и посетили, предварительно разувшись, храм-усыпальницу Баба, предтечи новой религии. В понимании бахаистов Баб является олицетворением исполнения всех пророчеств всех мировых религий, явленных человечеству со времён Адама. Баб завершил старый адамический цикл пророчеств и дал начало новому пророческому циклу, призванному прекратить раздоры и рознь и объединить человечество в единое целое. «Как раз о чём я вчера думал».
Опять то же самое: чьё-то религиозное чувствование превращается во внешнее учение, всеобщее распространение которого должно осчастливить всех людей, объединив их вокруг какого-то внешнего фактора. Однако, из тысячелетнего опыта мы должны бы были уже усвоить, что религиозное чувство одного никак нельзя привить или передать другому. Мало того, исполнение человеком самых что ни на есть возвышенных заповедей, почерпнутых извне, — от другого человека ли, или из какого бы то ни было учения, — нарушает прямую сакральную связь человека с божественным и потому отнюдь не является действием религиозным, а, в лучшем случае, может восприниматься как действие общественное или социальное. Всем же своим жизненным опытом я уже был приведён к тому неизбежному выводу, что только божественные внутренние силы в человеке наполняют его жизнь реальным смыслом. Не придуманный смысл приходит сам, определяется той же силой, которая заставляет нас жить. И самое главное, заставляет нас сознавать.
«Жить» и «сознавать» сливались у меня в одно целое. Но это были всё глаголы, а значит, должно было быть и существительное. «Если есть действие, то должен быть кто-то, кто это действие производит. Или что-то». Эти «что-то» и «кто-то» сливались в своей недосягаемости в нечто непредметное и внеличностное. А в этих сферах разум и воображение оказываются абсолютно бессильными и беспомощными. Дороги туда нет. Более того, интуиция подсказывает, что её и быть не может. Можно, конечно, что-то додумать и что-нибудь себе нафантазировать, но это уже совсем не то. Настоящее всё ж таки никогда не заменишь придуманным. Только это вот «настоящее» где-то кем-то так запрятано, что до него никак не дотянуться. Состояние, когда тебя куда-то не допускают, я испытывал уже как дежавю.
Именно в этом состоянии я и находился, когда мы выходили из усыпальницы Нового Пророка. Направлялись мы осматривать знаменитые, как нам сказали, Персидские сады, окружавшие его усыпальницу со всех сторон. Это и в самом деле было настоящее произведение садово-паркового искусства. Планировка, дорожки, ограждения, светильники, какие-то диковинные растения, ухоженность и чистота. Всё было без изъяна, ни к чему не придерёшься. Хорошо, что я подошвы свои ночью отчистил, а то неловко было бы и шагу ступить. Однако, как это ни странно, чем дольше мы там ходили, тем явственнее я чувствовал себя не в своей тарелке. Я не находил этому причины, пока одно апельсиновое дерево не пришло мне на помощь, обычное апельсиновое дерево, обвешанное спелыми плодами, как ёлка игрушками. Своей незамысловатой естественностью оно явно выделялось из всего прочего. И, видимо, именно поэтому показалось мне как-то связанным с расстилающейся за ним необъятной стихией моря, которая, к счастью, ещё способна останавливать человеческое своеволие. До этого апельсины я видел только в магазине да в вазе на столе, а тут они валялись даже на траве, как у нас яблоки валяются под яблонями. Как раз с того места была отчётливо видна искусственная правильность и симметричность всего парка. Поклонникам геометрии там можно было проверять свою к ней приверженность на прочность.
Между тем, яд моих предыдущих размышлений всё ещё продолжал действовать. И в русле последних мыслей мне представилось вдруг совершенно очевидным, насколько глубоким было моё заблуждение насчёт отношения людей к природе. Люди не только не уповают на неё как на универсальный жизненный регулятор, люди её просто ненавидят. И ненавидят тем больше, чем явственнее сознают свою от неё зависимость и невозможность высвободиться из-под бремени её законов. Отдавая на словах ей должное и рассуждая о «бытии животворящей природы», на деле противятся ей как могут. Да и то сказать, ну кому понравится закон «естественного отбора», когда ты сам в любую секунду можешь стать его жертвой?! Кому могут быть близки и понятны старение, болезни и сама смерть!? Кому может быть в радость предстоящее тебе уничтожение, когда ты оглядываешься на свою жизнь и так и не можешь понять, что ж это такое было, и было ли что-то вообще!? Кого может удовлетворить понимание процессов и явлений без понимания цели и смысла всего происходящего!?
Да что там говорить, дав человеку понять, что что-то есть, его напрочь лишили представления о том, что что-то ещё будет, что что-то хотя бы может быть. «Как ещё сильнее можно было наказать мыслящее существо!?» И это сделала Природа. Стоит ли после этого удивляться, что человека не устраивает в ней буквально всё: и его природная скорость передвижения, и природное его место в цепочке питания, и природная борьба за выживание, и все его природные склонности, инстинкты, страсти. Недаром на самой заре нашей цивилизации Сократ как-то сказал, что зло делаешь от имени природы, а добро — всегда от себя. По сути дела, вся титаническая деятельность человечества, все его физические и умственные силы, вся мощь мировой экономики направлены именно на то, чтобы вырваться из этого, как они говорят, «бытия животворящей природы».
Природа же в свою очередь тут же принимается за разрушение того, что человек возводит вопреки её законам. Природа очень чётко и явственно определяет границы человеческому своеволию, за пределами которых это самое своеволие превращается в иллюзию, из него выхолащивается всякий смысл. Что же человеку остаётся? Остаётся одно — непосредственное чувство жизни. «Апельсины на траве, ветер, море. А ещё остаётся мышление, — последнее, что человек в своей гордыне когда-либо согласится искренне признать исходящим из той же природы».
А тем временем нас отвели в монастырь кармелитов на горе Кармель, чего я, задумавшись, даже не заметил. Лишь на месте мне удалось разузнать, что нашей в монастыре целью является посещение пещеры пророка Илии. Она находилась под алтарной частью главного кармелитского храма. «Пещера в храме. Храм как продолжение пещеры. Что-то до боли знакомое». Воображение тут же явило нашу петушинскую церковь, полумрак, образа, свечи, звуки службы, запах ладана. «Рай — это то место, где законы природы не действуют, где ты природе не подвластен».
Перед входом в пещеру меня попросили надеть на голову картонную коробочку, тогда как жену пустили с непокрытой головой. Всё было вроде бы и так же, но как-то и не так. Когда экскурсовод излагала предание, согласно которому в этой самой пещере на пути из Египта в Назарет пряталось от непогоды Святое семейство, я попытался было всё это себе представить и не смог. Воображение отказывалось представлять то, что не могло быть достоверным по определению. Гораздо понятнее и потому гораздо более представимым было то, что говорилось далее, что простой русский люд наделил Илию приметами своего собственного божества, Перуна-громовика, который несётся по небу на огненной колеснице и мечет молнии. Там и представлять было нечего, всё было перед глазами.
И люди считали, что на Ильин день работать нельзя, сено возить — грех, потому как Илья всё едино сожжёт-спалит его грозой. Поэтому стогов на Ильин день и не метали, не дураки ведь. «Только какое, интересно, дело было Илие из далёкой палестинской пещеры до какого-то там сена где-нибудь под Петушками?!» А вот пасечники на пчельнике работать могли. Пчела — «божья пташка», трудится, собирает воск Богу на свечку. (В воображении всплывали и мёд тягучий, и рой жужжащий, и сухое потрескивание свечного огонька.) Поэтому Илья не ударит стрелой в улей, даже если за ульем будет прятаться нечистый дух.
Мне до сердечной боли захотелось вдруг во всё это поверить. Но я уже знал, что разум не даст, а памятью мне в то состояние сознания уже никогда и ни за что не вернуться. «Это всё разум. Разум исподволь, подспудно разрушает в человеке его животную сущность, а вместе с ней всё, что связывает человека с миром Природы. И нам не устоять. Зацепиться нам не за что». Реальность или, лучше сказать, действительность пошатнулись, двинулись и стали от меня отдаляться. Почва опять уходила из-под ног. В такие минуты испытываешь неподдельное удивление, отчего это всё так, как есть, а не как-нибудь иначе. Сомневаться начинаешь даже в своём собственном существовании. Вовсе перестаёшь понимать само слово — существование. «Отрыв от природы — это только первый шаг. За ним следует следующий — зыбким и нереальным становится весь материальный или, как ещё его называют, физический мир».
Над пещерой как раз проходила католическая служба со своими цветовыми сочетаниями, со своими звуками, с незнакомыми запахами. Только представлялось мне всё это чем-то нереальным. Я пребывал в полном недоумении, как же вообще можно функционировать в этом мире, когда он на глазах превращался в некую виртуальную фикцию. Он просто таял и растворялся в смысловой неопределённости. Вернее сказать, в смысловой и ценностной неопределённостях. Само понятие «существование», казалось, скидывало с себя какую бы то ни было смысловую нагрузку.
Я был сражён, ещё почище чем стрелой-молнией Илии, потому что за поражением молнией обычно следует смерть, или выздоровление, а тут — я продолжал быть. Я оставался тем же самым «я», который когда-то давно увидел за окошком свой первый снег. И чувствовал я себя тем несчастным духом, который отчего-то прячется за ульем.
И снова не заметил, как очутился на улице. Старинные камни монастыря и дикий парк вокруг действовали умиротворяюще. И камни, и даже зелень захотелось потрогать и ощутить их реальность. И я это делал. Я гладил рукой каменную стену, срывал и разминал в пальцах какие-то листики и травинки, нюхал их. Именно так это теперь всплывает в памяти. Мне кажется, в качестве самозащиты я просто-напросто заставлял себя тогда поверить в провидение и в непостижимость всевышнего замысла. До сих пор не могу забыть эти утопающие в зелени дикие камни, безыскусную простоту старины.
Лишь через много-много лет мне предстояло узнать, что кармелиты решили перестроить свой парк, так чтобы затмить знаменитые Персидские сады бахаистов. Правда, к этому времени я уже совсем отчаялся отыскать в событийном мире хоть какой-то ценностный стержень. На любое событие мог отреагировать каким-никаким расхожим объяснением или каким-нибудь общим местом, навроде: «Жизнь по своей сути есть религиозное переживание. Не менее, но и не более того». А ведь когда-то эта незатейливая мысль, что жизнь есть не сумма каких бы то ни было событий, а целый комплекс религиозных переживаний, — в корне изменила и полностью перевернула мою жизнь. По крайней мере, мне так представлялось.
Следующий день, как мне казалось, был самым главным во всём нашем путешествии. Нам предстояло побывать в Священном Городе, посещение которого и представлялось мне основной целью всей нашей затеи. Причём, попасть туда мы собирались своим ходом, без туристов и экскурсоводов, что с успехом и проделали. На общественном автобусе, с вооружённым пистолетом водителем, через невероятные пробки, до Тель-Авива, а уже оттуда на другом автобусе, минуя разбитую военную технику на обочинах, — до самого Иерусалима. По прибытии мы немедля подались на розыски Храма Креста Господня, окунувшись в разношёрстную толпу торговых улочек Старого Города.
На лицах людей читалось обыденное ко всему равнодушие. Присутствие где-то рядом того самого места, где когда-то свершилось Распятие, казалось, не производило на них никакого впечатления, как на прибрежных жителей не производит впечатления уже привычное им море. Но всё ж таки было немного странно. «Голгофа это всё-таки не море. Неужели обыденная повседневность имеет такую над нами силу?!» Я объяснил себе это тем, что, — как мы от них Пространством, — так и все эти люди отделены от когда-то здесь произошедшего Временем, и, может быть, Время в этом случае берёт над Пространством верх. В конечном счёте, пространство можно преодолеть, но не время. «Это же уму непостижимо, сколько разных людей с совершенно различным мировосприятием здесь с тех пор перебывало. Этот временной отрезок включает в себя практически всю не немую, то есть сознательную историю людского рода». И сам себя одёрнул, — нет никакого людского рода, никакого человечества, а есть люди, люди, люди, люди… «И никто из нас так всего целиком и не поймёт. Уходящие ничего не знают о последующих, последующим уже никак не понять предыдущих, — человеческое самосознание поступательно развивается, производя на свет невообразимое количество мировоззрений. И у каждого есть свои предыдущие и есть свои последующие».
Я стал невольно вглядываться в лица, и никак не мог поверить, что каждому человеку всего лишь приоткрыли ничтожный, малюсенький краешек бытия и тут же сообщили ему о предстоящем вечном небытии, а он это понимает и принимает, и не только принимает, но может вот так сидеть и ждать, перебирая чётки, что какой-то, вроде меня, турист купит у него какой-нибудь сувенир. А в реальности именно так и выходило. Я не удержался и подошёл к человеку в куфии, или по-нашему в арафатке. За несколько монеток-шекелей он надавил мне из апельсинов стакан сока и подал мне его с такой важностью и с таким чувством собственного достоинства, что я принуждён был несколько неловко, как мне казалось, поклониться в ответ. Я забрал свой сок и отошёл, прекрасно понимая, что никогда в жизни этого человека больше не увижу.
Сок был очень хорош, монеты очутились у него в кармане, но неужели ничего в жизни не произошло и не произойдёт от того, что встретились два самосознания? «Или они не встретились?» Я начинал уже путаться. В это самое время мы как раз вышли на небольшую площадь, со всех сторон ограниченную каменной архитектурой зданий. Это был тупик, но каково же было моё удивление, когда выяснилось, что это Храм и есть. Где-то в углу этого каменного колодца находились деревянные ворота, к тому моменту запертые. Нам пришлось обождать человека, который их отпирает. Соседние ворота вообще были заложены камнем, и некого было спросить, почему.
Храм никак нельзя было увидеть со стороны, он врос в каменные нагромождения города. Нам-то, естественно, гораздо привычнее другое: открытое пространство, которое храмовым зданием венчается. Здесь же всё было вывернуто наизнанку: отсутствие пространства снаружи венчалось пространством внутренним. Правда, попасть в него у нас всё не получалось. Пока не было ключей, дно колодца постепенно наполнялось народом и разноязыким говором. Говор этот усиливался, или мне так казалось, что он усиливается, но нарастал он непрерывно, пока не стал основным внешним раздражителем. В какой-то момент нарастание этого звука стало представляться мне угрожающим, мне даже почудилось, что и камни, и даже сам воздух как будто растворяются в этом звуке и перестают быть реальностью. Настолько перестают, что я с удивлением огляделся вокруг. Удивительно было, что всё именно так, а не как-нибудь иначе. «А как иначе?»
Тоска непостижимости снова начинала проникать в сознание. Хорошо, пришёл наконец-то нужный человек, открыл ворота и выпустил нас из колодца. Весь парадокс заключался в том, что я ни слова в этом говоре не понимал. Зато ответ на мой вопрос стал очевиден: в плотском мире сознания лишь соприкасаются, а проникают друг в друга только посредством слова. Звучащие отовсюду слова и создавали то новое пространство, в котором я вдруг очутился. И что из того, что я слов не понимал, за словами стояли понятия, которые для людей всех языков одинаковы…
Между тем, задуманное мною, реализовывалось прямо на глазах: мы уже поднимались на Голгофу. Внутри всё было устроено, как в церквях и положено, и верующие вели себя точно так же, как у нас. Визуально ничего не выдавало, что это то самое место, лишь под стеклянным колпаком я увидел фрагмент той самой скалы. Мало того, я опустился на колени и, просунув руку в специальное отверстие, нащупал то самое место, где стоял Его крест. В висках стучало, но сердце почему-то молчало. Я совершенно ничего не чувствовал, я только слышал за спиной говор, тот самый людской говор. «Слова, слова… то есть, понятия, понятия, понятия». Понятия роились, сталкивались, плодили новые понятия, исчезали и возникали вновь. «И так повсюду, где только есть человек.
Бог, если вдуматься, — тоже понятие. Никто никогда с ним не общался, а все знают это понятие. Но если смерть люди видели, жизнь наблюдали, — с понятиями «жизнь» и «смерть» всё понятно, то откуда у людей появилось понятие «бог», причём повсеместно? Чтобы отсюда весть о Боге донести в Петушки, нужно, как минимум, чтобы люди там это слово «бог» понимали. И они понимали. Можно ли найти человека, который не понимал бы слова «дождь»? Навряд ли. Можно ли найти человека, который не понимал бы слова «бог»? Тоже навряд ли. «Только дождь видели все, а бога не видел никто. Поэтому в дождь верить не надо, а в бога надо верить».
Мы спустились к камню миропомазания, над которым висели лампады по числу общин, которые представлены в церкви. От камня действительно хорошо пахло. Мне подумалось отчего-то, что камень этот — застывшее во времени пространство. А всё человеческое, как поток, омывает это пространство и уносится куда-то дальше. Именно тут я про себя отметил, что туристов вокруг гораздо больше, чем верующих.
«Понятие «бог», действительно, сродни таким понятиям как «пространство» и «время». Понятия эти исходят не откуда-то извне, а непосредственно из нашего сознания. Ни представить их себе, ни объяснить, ни тем более понять их, мы не в состоянии. Это основополагающие понятия, которые невозможно разложить на составляющие, как, например, и понятие «я». На них, как на фундаменте, мы строим из кирпичиков-понятий понятийное здание. Каждый своё. Причём довольно часто человеку приходится разбирать это здание до основания и возводить его сызнова. Мы это делаем и делаем, не отдавая себе в этом отчёта, как муравьи, которые строят и строят муравейники, сколько их не разрушай».
Какие-то люди жестами и мимикой заманили меня в некую комнату, которая оказалась сувенирной лавкой. Мне стало неловко за очевидность приёма, с помощью которого они продавали свой товар, и я купил пузырёк со «святой» водой, пакетик со «святой» землёй и свечки, разочаровав их, по-моему, ничтожностью суммы, на которую я раскошелился. Тем не менее, один из них объяснил мне, — насколько я понял его английский, — что свечки нужно зажечь в гробнице, затушить и сохранять их как реликвию. Мы так и сделали, хотя я отчётливо в себе чувствовал сопротивление следовать совету этого человека.
В тесной гробнице тоже был плоский камень, источенный прикосновением миллионов рук. На этом самом камне и произошло нечто такое, что вообще никак не укладывалось в голове: воскрешение из мёртвых. Главным признаком смерти всегда являлась необратимость, воскресение же разрушало устойчивую пару понятий: «жизнь» — «смерть», размывая между ними понятийную границу. Смерть переставала быть смертью, жизнь переставала быть жизнью. Я испытал почти физическую боль, какая-то внешняя сила как будто расшатывала и ломала во мне сам фундамент, на котором зиждилось всё моё мироздание. Нехорошее это чувство было подобно тому ощущению, какое испытываешь, когда тебе расшатывают и вырывают из черепа коренной зуб, с мерзким утробным звуком разрушения. Противное ощущение, но сами эти пары понятий чрезвычайно меня заинтересовали: «пространство» — «время», «жизнь» — «смерть», «бог» — «я». Я сам был поражён, каким образом «бог» и «я» соединились у меня в пару. Только это несомненно была пара, одно понятие не могло существовать без другого, и наоборот.
Мы пробирались куда-то по Виа Долороза среди глазеющего и торгующего народа, и я, как ни старался, не смог найти убедительных доводов, которые опровергали бы взаимосвязь этих двух понятий. Виа Долороза — Крестный путь. На этой улице изображение креста действительно разбросано в изобилии, в том числе и равностороннего креста с засечками. В моём воображении противоположные понятия «жизнь» — «смерть», «бог» — «я» как-то непроизвольно пересеклись и тоже образовали крест, который вписался в круг. Его центр перпендикулярно пронизала ещё одна пара «пространство» — «время», и из круга получился уже шар. Я отчего-то вообразил, что все люди, какими бы различными они ни были, когда бы они ни жили, занимают внутри этого шара каждый своё место, и ни один из них — ближе он к центру или дальше — никогда не сможет вырваться за пределы этого шара. «По крайней мере до тех пор, пока все эти понятия имеют для него смысл». Да и в центре этого шара никто по логике вещей оказаться не может. «Почему? Не знаю, но не может». Шар этот — это как бы человек-вообще. Тут уже было не далеко до вывода: «человек-вообще» — это и есть бог, однако я вовремя остановился. Умозрительные эти представления о чём-то вневременном и непространственном имеют удивительную особенность очень быстро обращаться в ничто, возвращая тебя обратно к тому, с чего ты начинал. И возвращение это не очень приятное, надо признаться. «Опять то же окошко, снег, белое чистое пространство…»
А в жизни я так и оставался на камнях улицы, посреди каменных стен, кругом сновали те же люди. И я не просто не понимал, зачем я здесь, я испытал невероятное по силе чувство сиротства и даже какой-то обречённости. Казалось, никогда мне из этого каменного лабиринта не выбраться. Мне нестерпимо захотелось домой. Мы ещё много везде ходили, но чувство это меня не покидало. Мы были у Стены плача, где какой-то бородатый человек накричал на меня и заставил вернуться и надеть на голову картонную коробочку. Были на старинном кладбище возле Золотых ворот, которые, собственно, уже и не ворота, потому что наглухо заложены камнем. Гуляли по Кедронскому ущелью. Сидели в Гефсиманском саду. Физическое движение и смена картин перед глазами развлекали до известного предела, но всё-таки мне было не по себе.
Супруга всё больше молчала. На обратном пути в автобусе чувство тревоги и неприкаянности не просто вернулось, а, как мне показалось, ещё и усилилось. Было совсем темно, за окном ничего не разобрать. Ехали молча, все спали. Свет в салоне погасили, только мой через проход сосед засветил над собой лампочку и в её тусклом свете читал книжку. От этого света делалось ещё как-то тоскливее, так что я даже обрадовался, когда мы вдруг остановились и в автобус зашёл какой-то человек. Я подумал было, что это контролер, но мой сосед объяснил мне, что это идентификация: ищут ничьи вещи. И их таки нашли, какой-то целлофановый пакет. Нас вывели всех из автобуса, движение по трассе перекрыли, автобус отогнали на какую-то площадку, специальный робот как-то изъял этот пакет из салона, отвёз в кирпичный закуток и на наших глазах расстрелял его в клочья. Для большинства пассажиров, как я успел заметить, всё это было совсем не в диковинку, а я никак не мог избавиться от ощущения нереальности происходящего и отчего-то подумал, что у нас теперь зима, и всё завалено снегом, и все деревья белые. Мне даже как будто послышался хруст снега под ногами…
Временная последовательность дальнейших событий в памяти не сохранилась. Почему — не знаю. Остались лишь отрывочные вспышки воспоминаний и обрывки связанных с ними мыслей. Либо цель поездки была уже достигнута, либо утеряна, либо исчезла необходимая связь происходящего внутри с разворачивающимся снаружи. Трудно сказать. Однако по прошествии многих лет это даёт мне возможность расположить их не в хронологическом, а в смысловом порядке, по собственному произволу. И слава богу, в прошлом гораздо легче отыскивать смысловую нить, нежели в настоящем, а тем более в будущем…
Первое отдельное воспоминание — Вифлеем. Вифлеемская звезда, Святой вертеп. В воображении ясли, пахучее сено, воловьи мягкие губы, тёплое из них дыхание и тайна рождения новой жизни: новый свет, новое «я», новая будущность. На деле же — всё опять закрыто привычным уже камнем, церковной утварью и атрибутикой. Те же туристы, те же верующие и служители. Всё так же, как и на Голгофе. Окунаешься в ту же среду, что и в храме. Удивительно, но чем ближе к месту события, тем менее реальным оно тебе представляется. Ощущение причастности к действительно реальному уменьшается от петушинской церкви через церковь Покрова-на-Нерли и вплоть до Голгофы, а не наоборот. «Почему? Чем ближе к дому, тем… что? Хотя, в восприятии, собственно, так оно и должно быть».
Я бродил в колоннаде Храма Рождества, обходя кругом каждую колонну, и мне в голову пришла странная мысль: «Когда человек говорит о боге, думает о боге, рассуждает о боге, — он говорит, думает и рассуждает о себе. Поэтому мы так многословны и так свободно обращаемся с этим понятием, вплоть до превращения его в миф или до полного отрицания его реальности». А в реальности мы не можем ни представить себе Бога, ни определить, ни объяснить, ни тем более — понять. Реальность стала для нас делиться, множиться, ускользать от нас. «Убегающая реальность».
Мы скоро сами будем назначать, что есть реальность, а что нет. Впрочем, скорее всего, мы всегда так и поступали. «Реальность, которая перестаёт быть явью, и явь, которая перестаёт быть реальностью». Через низенький проём, так что надо было наклоняться, мы вышли из храма. Чуть отойдя, я обернулся. Грубо обтёсанные камни, вход так же в углу, в полузаложенной камнями древней арке. Я почувствовал, что никогда больше сюда не вернусь. И мне стало пусто и страшно. Страшно, что для меня больше нет бога в привычном смысле слова, как будто и меня в привычном смысле тоже больше нет. Мороз продрал меня по коже. И снова как будто почудилось: иней на мёртвых ветвях, запах хвои и заваленные снегом крыши.
Другое воспоминание — Иудейская пустыня. Мы были крайне удивлены её видом. Как всё-таки тривиальны наши представления о том, что мы обозначаем привычными нам понятиями. Пустыня всегда для меня была бескрайней поверхностью песка, где не на чем остановиться глазу, разве что на барханах. А тут пред нами представали не то горы, не то холмы, с ущельями и уступами, со склонами и обрывами. И если попервоначалу на них ещё просматривалась скудная растительность, то скоро пейзаж стал воистину «лунным», как выразилась наш экскурсовод, — каменистая безжизненная пустыня. А из-за того, что раскрывался он передо мной из окна автобуса, в движении, — был он как-то особенно объёмен и переменчив. Каменные осыпи вздымались ввысь и низвергались вниз, подобно гигантским волнам.
В голову невольно пришло место из Евангелий об искушении в пустыне. «Почему «дьявол» искушал Его именно в пустыне? Да ещё в такой». Вроде бы не самое подходящее место для того, чтобы искушать. «Чем тут искушать-то?» И тут меня осенило: переставая быть животным, человек волей-неволей оказывается в духовной пустыне, которая еще не обжита, не наполнена смыслами, как этот божий мир божьими тварями. И устраивать этот новый мир, и осваивать его, и существовать в нём нужно самому человеку. Мир, в котором вовсе нет никакого пространства. Кроме, быть может, смыслового. И время там только пошло.
Хочешь — не хочешь, станет не по себе. Хотя, судя по виду из окна, в нашем мире до сотворения жизни тоже было не слишком-то уютно. У меня с собой было Евангелие, то самое, облитое клубничным соком, и я быстро нашёл в нём нужное место. Искушений было три.
Первое и самое сильное искушение: вернуться в привычный мир с краюхой хлеба на столе и с плошкой наваристого борща, когда за окном метёт вьюга, а супруга подносит тебе рюмку и, помолившись, идёт разбирать постель. «Но, — говорит Он, — не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».
Второе искушение: с высоты своего мировоззрения кинуться в новое, как в омут головой, отвергнув старое, в надежде, что всё изменится и пойдёт само собой. «Нет, — говорит Он, — не искушай Господа Бога твоего». Чудес там не бывает, как и в привычном мире, всё там даётся усилием, каждодневной работой.
И последнее искушение: забрать свою власть, своевольничать в духовном мире, как тебе вздумается, предаваться фантазиям и пустому словоблудию. «Не делай этого, — говорит Он, — Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». «Твоему!» И тут тоже — закон. «В тебе».
Однако существенным было совсем не то, кто что сказал, а то, что само существование разделилось для меня надвое. «Росстань?» Кстати, в Библии нигде, по-моему, не сказано, что Бог сотворил пространство и время, он их только наполнял своими творениями. А духовное пространство, где обитает сознание, вообще увидеть нельзя, но оно есть, потому что с тех времён, когда по этим камням ступал Иисус, оно наполняется и наполняется. «Значит есть чему наполняться». И оно уже далеко не пустынно: то там оазис, то здесь.
И вдруг впервые в жизни я с такой остротой почувствовал нереальность предметного мира, нереальность пространства Вселенной и нереальность этих миллиардов лет, в которые, как в пучину, погружается наше познание. «Реально одно только сознание. Не материальный мир как целое всё, а мир сознания как целое всё». Я не мог поверить, что сам считал когда-то реально существующим только мир, а себя в нём воспринимал былинкой, которая в следующее мгновение растворится в безмерном пространстве космоса и исчезнет навсегда.
Это тем более удивительно, что мир мы способны воспринимать только снаружи, тогда как сознание — и снаружи, и изнутри: снаружи это множество людей и всё живое, а изнутри это наше собственное «я», сознающее себя собой. Пространство сознания — это действительное для нас пространство, а пространство мировое — это только пространство кажущееся. Отсюда, реальное событие то, что происходит в сознании, а не в мире. В мире ничего, собственно говоря, произойти и не может. Мир так миром и останется, что бы в нём ни произошло. Поэтому время не принадлежит мировому пространству, время принадлежит сознанию…
Это были даже не мысли, а что-то вроде спонтанного осознания. Отчего-то именно так моё прошедшее отразилось в настоящем. Хотя с тех пор минуло уже более десятка лет, я так и не смог восстановить в своём представлении действительную реальность того, что раньше было для меня явью. Шаг за шагом явью становилось то, что до этого представлялось не более чем образным представлением, неким воображаемым духовным миром. Однако ежеминутно и ежесекундно я продолжал своё существование в мире плотском, привычном для меня мире. Я потратил уйму времени и сил, чтобы примирить две реальности. И не смог.
Проблема заключалась лишь в том, что двух действительностей не бывает по определению: что-то действительно, а что-то нет. «Либо я, либо те камни». Но я почему-то почти уверен, что существую — я, что я — существую. Опять всё сводилось к одному невнятному понятию — сознание. «Сознание вмещает в себя всё, включая не только все эти камни и камни всех вселенных, но и саму бесконечность. И обе действительности, кстати, тоже».
Мы как раз остановились на «нулевой отметке». Она якобы указывала на тогдашний уровень моря. И дальше мы должны были опуститься ниже этого уровня, что для туриста предполагалось быть достопамятным событием. Мы все высадились и разбрелись по площадке, чтобы прочувствовать глубину момента и сфотографироваться со знаком «0» на память. Площадка не была пустой, на ней стояли маленький мальчик и чуть повзрослее девочка, оба в национальных одеждах. Перед ними плашмя лежали камни со сверкающими на солнце монетками. Экскурсовод предварительно увещевала нас не давать им много денег, потому что они «ещё те попрошайки». Мы положили по монетке каждому на свой камень, причём никто попрошайничать и не подумал: девочка стояла смущённо потупившись, а мальчишка с наивным детским любопытством разглядывал нас своими чёрными, как смоль, глазами.
Достоверность того, что виделось, слышалось, обонялось, осязалось, — совершенно явственно ко мне возвращалась. Все органы чувств работали как-то особенно напряжённо. Этому немало способствовало происходящее вокруг движение. Люди кругом меня прохаживались, осматривали виды, оживлённо обменивались впечатлениями, фотографировались. Чуть поодаль от местных ребятишек стоял с верблюдом другой мальчик, в арафатке. Перед ним тоже был камень с монетами, но он не просил, он зарабатывал. Поэтому, когда супруга его сфотографировала вместе с верблюдом и тоже положила ему денежку, которая показалась ему слишком мелкой, он с презрением отшвырнул её от себя на землю, и так, чтобы все видели.
И у меня снова закралось сомнение: ведь человек своим телом живёт в этом материальном мире, и всё в человеке приспособлено для жизни именно здесь и именно так. Этот мир, эти камни, этот верблюд — это всё, что у него есть. Но внутренний голос тут же ответил: ну и пусть себе живёт, тебе-то какое дело. Я встретился взглядом с маленьким хозяином верблюда. Смотрел он на меня исподлобья и без всякого намёка на дружелюбие. И там, за этим недружелюбным взглядом, было такое же «я», как и во мне. Как и моё, сознающее себя собою, сознающее себя существующим, а меня воспринимающее двуногим существом с деньгами в кармане. «Я для него лишь картинка, как, впрочем, и он для меня. Вот где непреодолимое расстояние! Что там всякие парсеки и световые года!» Непредставимо и непостижимо!
Я уж готов был упереться в эту непостижимость и привычно повернуть вспять, но в этот раз вышло нечто совсем другое. Я вдруг не то чтобы понял, не то чтобы вообразил, и даже не представил, а скорее просто осознал, что «я» и во мне, и в этом мальчике, и в окружающих меня людях — это одно и то же «Я». И не в каком-то философском или поэтическом смысле, а в самом что ни на есть прямом смысле. В том смысле, что именно таковой является единственно возможная реальность. Это для нас снаружи «Я» воспринимается как бесконечное множество разнообразных «я», а изнутри оно всегда одно. Снаружи их можно складывать в два, три, в миллиарды, а изнутри оно никак не складывается, и ничего из него не вычитается. К нему вообще неприменима ни количественная категория, ни какая-либо иная из тех, что мы используем для описания неживого мира.
Мало того, и всё живое каким-то образом сознаёт себя собой, отделяет себя от всего остального, питает себя, защищает себя. А значит и в нём есть это же самое «Я». И оно вне времени и вне пространства. Оно неподвижно, оно стоит, а всё, что «не я», всё это вокруг него движется и изменяется, появляется и исчезает. Выходило, что первый микроб, динозавр и я — это изнутри одно и то же, а различно лишь по степени присутствия в этом видимом мире. И даже мои мысли и слова, которые я при этом употреблял, показались мне всего лишь определённой «степенью присутствия».
Всё это было более чем странно. Мне даже на мгновенье подумалось, что лучше бы было привычно упереться лбом. «Хотя, с другой стороны, в привычном положении мы делаем такие ужасные вещи и часто несём такой бред, что, может быть, оно и ничего, если куда-нибудь чуть сдвинешься».
После «нулевой отметки» наш автобус стал так быстро спускаться к Мёртвому морю, что закладывало уши. Но так же быстро переключаться с одного на другое я был уже не в состоянии. Испытанное только что наверху переживание настоятельно требовало хоть какого-то осмысления. Ни о каких новых впечатлениях, казалось, не шло уже и речи. Однако никакого осмысления не происходило. Я был поставлен в тупик.
Это теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, что есть переживания, которые не укладываются в твоё мироздание, и как ни старайся, их туда не пристроить. Вот и выходит что-то вроде несварения, только не желудка, а разума. Я тогда не понимал, что мне надо было всё своё мироздание, выстроенное во всю мою жизнь из понятийных кирпичиков и образных блоков, разобрать до основания и выстроить его заново. А кладка эта замешена на таком крутом растворе опыта, что сделать что-то с наскока я ни под каким видом не смог бы.
В таких случаях память иногда выстраивает весьма занятные сближения. Память связала для меня тех самых детей и палестинского верблюда с затерянной в наших бескрайних чернозёмах узловой железнодорожной станцией Астапово. Ноябрь. Заиндевевшие рельсы. Кругом чёрная, масляная пашня. Всё стынет, твердеет и убирается снегом. Темнеет рано, дни короткие. В окнах дома начальника станции горит свет. Там умирает Лев Толстой. За ним записывают последние слова, которые ещё можно было разобрать: «Только одно советую вам помнить: есть пропасть людей на свете кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва». Обыкновенно я понимал это высказывание в том смысле, что Лев Николаевич, умирая, передаёт эстафету своего дела другим людям, скромно почитая себя одним из многих, кто внёс свой вклад в общечеловеческое дело на Земле. А жизнь как бы оставляет здесь, видит её будущность в деяниях потомков, в продолжении человеческого рода. И тут я увидел, что это совсем не так. Просто в такой форме он сумел выразить одно из последних своих озарений об общности и единстве человеческого «Я», о вне временной и вне пространственной его сущности.
По своей сути это было решение вопроса жизни и смерти. Результат человеческой жизни не принадлежит этому миру, он засчитывается там, где обитает её сущность. Да по-другому и быть не могло, Толстой один из немногих известных мне людей, который развивался, проявлялся, совершенствовался (как угодно) до последних минут своей жизни. Стал бы он перед смертью заниматься такими пустяками, как определение своего места в обществе или в истории. Я уж не говорю о выказывании на людях своей скромности. «Скромным вообще быть не скромно. Все же знают, что быть скромным это хорошо, а наоборот — плохо. Поэтому вести себя скромно означает выставлять себя перед людьми с хорошей стороны, а это, ох, как нескромно».
Судя по его дневникам последних лет жизни, заниматься подобным баловством мысли, да ещё в последние часы, он просто не мог. Но вот что странно, мы были с женой в Астапово, и тоже в ноябре, точно так же было холодно, и я точно помню, что нам заводили послушать голос Толстого, записанный когда-то на фонограф, и среди прочих мыслей Лев Николаевич именно это и говорил, что «Я» во всех людях одно и то же. Выходило, что я об этом знал. Знал, но не понимал? Понимал, но не сознавал? Или сознавал, но не пережил сам? «Очень странная вещь — человеческое знание. Каково же было Толстому жить среди одних последователей. Последователей кого-то или чего-то, включая своих собственных». И разве это не странно, что раньше я не видел того простого факта, что жизнь вся целиком в сознании, а не в том следе, который сознание оставляет в этом мире? Каким бы глубоким этот след ни был. Ладно древние люди, они думали, что всё это кругом — вечно, но мы-то знаем: солнце выгорит, вода испарится, всё живое вымрет и так далее. Мы уже в состоянии научно описать конец света. И всё-таки несём и несём всё самое ценное в банк, который неизбежно лопнет.
Очень яркое воспоминание — Мёртвое море. Во-первых, было довольно занятно находиться в месте, где Эверест становится выше почти на полкилометра. Во-вторых, там было намного теплее и как-то просторнее, чем в пустыне. А в-третьих, — само море, в котором лежишь и не тонешь, не плывёшь, а барахтаешься. И без всякого порядкового номера: курортная беззаботность, когда нет ничего кроме солнца, моря, воздуха и радости ощущения жизни. И что за дело, что море мёртвое. «Неужели человеку всё ещё доступна безмятежность?» — только я успел это подумать, как вдоль берега с рёвом пронеслись два истребителя. В дальнейшем эти пролёты повторялись с аккуратной периодичностью. Я наблюдал за ними из-под пальмы, а окружающие не обращали на них, казалось, никакого внимания. «А как же все эти войны? Бесконечные».
Когда-нибудь историки о нас напишут, что мы жили в период Больших войн. Люди, совершенно как животные, убивали друг друга за обладание самкой, за еду, за территорию, даже за какие-то абстрактные идеи или, того хуже, просто за самоназвания, которые сами же к себе и применяли, за принадлежность или не принадлежность к какому-либо сообществу. «Неужели это и есть эволюционная борьба за выживание? борьба за «степень присутствия»? присутствия этого самого, пресловутого всеобщего «Я»? Неужели в этом и есть проявление жизненной силы? Той силы, которая нами движет».
Как-то всё это не укладывалось в голове. Если для животного мира это представляется абсолютно естественным, — там и должен выживать сильнейший, — то для нас-то это зачем? Сократа убили, а его «степень присутствия» куда больше, нежели у тех людей, которые его приговорили. Иисуса распяли, и о каком присутствии его палачей можно говорить?! «Кто это? Что это?» И мне вдруг показалось совершенно нереальным, что я побывал на том самом месте, где происходило распятие, где человека замучили до смерти. Воображение тут же нарисовало картину истязания кнутом, вбитый через кость кованый гвоздь, подобный которому археологи действительно нашли в одном из захоронений того времени, перебитые голени и удар копьем под рёбра. Удар копьём, который выключает для тебя всю Вселенную. Навсегда. «Неужели для нас это и есть самая достоверная реальность?»
Выходило, что всё дело в достоверности, а не в реальности. «Неужели ж Иисус для меня достоверней, чем я сам для себя?» А выходило именно так; выходило, что солёная вода передо мной и горы для меня достовернее, чем тот факт, что я сознаю себя собой. Но внутренний голос спорил: «То, что ты сознаёшь, несоизмеримо достовернее того, что ты видишь и слышишь, и о чём знаешь». Однако достоверность есть событийная, а есть достоверность сущностная. И они вовсе не совпадают. А психологическая достоверность вообще находится на грани того и другого. Поступок относится к событийному ряду, а мотивация — к сущностному. Одним словом, опять всё как-то запутывалось, заплеталось, затягивалось в мёртвый узел, какой можно либо оставить, либо разрубить одним ударом. Я именно так и поступил, резонно определив наипервейшей достоверностью собственное чувство голода. Мы оделись и пошли покупать свою очередную питу.
Иерихон — по преданию, один из самых старых в мире городов. Но мне он был интересен не сам по себе и не своей древностью, а присутствием этого звучного названия в выражении «иерихонская труба», довольно распространённом. За что я, видимо, и был наказан: в город мы так и не попали. Когда мы подъехали к блокпосту, местные мальчишки стали бросаться в нашу сторону камнями. Именно в сторону, потому что с такого расстояния добросить до нас камень было просто нереально. Инцидент, само собой разумеется, малоприятный, но в этих мальчишках было что-то такое, что я невольно стал в них всматриваться. И скоро я понял, что в них было такого занимательного. Они были чем-то разительно схожи не с нынешними подростками, а с теми петушинскими мальчишками, среди которых я вырос и каких в реальности уже нет. Я же, по какому-то неведомому стечению причин и обстоятельств, был не с ними, а в кондиционированном автобусе и вместе с туристами. И нас, как туристов, охраняли от них солдаты с автоматами. Причём солдаты эти явно воспринимали нас как своих. Они всё это время пересмеивались и о чём-то оживлённо переговаривались, пока один из них, загорелый до какой-то невероятной черноты, безнадёжно не махнул нашему водителю рукой. После чего мы послушно развернулись и поехали объезжать пресловутый Иерихон стороной.
Мы ехали вдоль Иордана, я наблюдал его извивы через стекло, как, ставшее за последние дни уже привычным, «заоконное» представление, а сам всё думал о тех мальчишках, да и о себе самом, когда был таким же. Невероятная эта комбинация: ничего ещё не жившие — уже почти прожившие, палестинские образы — петушинские картинки, начало всей истории — сегодняшний её день, пережитое — предстоящее, всё это кружилось вихрем в голове, не реализовываясь ни в какую конкретную мысль. И даже без всякой к тому надежды. Благо, представление в этот день было отнюдь не скучное. Мы ехали по когда-то родной для Иисуса Галилее, ехали по берегу Галилейского моря, где когда-то рыбачили евангельские рыбаки, видали то самое место, где из живого моря вытекает Иордан и начинает свой недолгий извилистый путь через благодатную свою долину в выжженную солнцем пустыню, где даже море мёртвое. Неудивительно, что именно здесь зарождалось то, что потом превратилось в мировые религии, настолько явственно ощущалась здесь обычно невидимая грань между живым и мёртвым, между жизнью и смертью. Жившие здесь люди постоянно видели эту короткую речку, как образ целой человеческой жизни. «Они тут умудрились аж две тысячи лет назад обозначить какую-то сущностную границу в человеческой жизни. А ведь только определив чёткую границу, можно от неё откладывать какие бы то ни было смыслы. Как вперёд, так и назад».
В тот день, так получилось, мы продвигались в обратном направлении, от Мёртвого моря. По серпантину мы поднялись в курортную зону Хамат Гадер и очутились в рукотворном земном раю. По-другому то место и не назовёшь: диковинные растения, райские птицы, тропический климат. Мы там сразу разбрелись кто куда, гуляли, купались в горячих серных источниках, осматривали древние римские купальни-термы, правда уже в руинах и совсем без римлян. Но по всему было видно, место считалось благодатным и тогда. Потом мы опять поднимались по серпантину и с Голанских высот озирали холмистые окрестности и любовались видами Галилейского моря, которое издали виделось обыкновенным озером на дне пространной лощины.
После «рая» и горячих купаний, помню, в голову пришла глупейшая мысль, что отсюда идущего «по воде аки посуху» Иисуса никто бы даже не разглядел. Расслабленность была такая, что даже окопы и блиндажи под нашими ногами особенного любопытства не вызывали. А это были, оказывается, вражеские укрепления, грозившие когда-то всякой нормальной жизни там, внизу. С этим мириться было никак нельзя, объяснили нам. И с военной точки зрения, так оно и было — все главенствующие высоты должны были быть безусловно обезврежены. Однако в голосе экскурсовода, которая нам об этом рассказывала, явственно слышались оправдательные нотки. Несмотря на это, она деликатно нам попеняла, что «наши» инструкторы принимали участие в возведении всех этих военных сооружений и в обучении размещавшихся здесь когда-то солдат. «Этого мне только не хватало! Нам и так всё время приходилось тогда оправдываться, за то и за это, за всю шестую часть суши, а тут ещё в довесок и это».
Однако сопоставление по времени показалось мне более чем занятным: в то время, как я рос в Петушках, здесь тоже бегали мои босоногие сверстники, точно так же, как и я, не подозревавшие, что всё нас окружающее ещё на нашей жизни окажется совсем в другой стране, что наш малый мир будет навсегда разрушен. Пускай пути и причины к тому были совершенно различные. «И что»? И ничего. Никакой к самому себе жалости я не испытал. Я лишь почувствовал то, что до этого хорошо знал, что человек больше любого места и необъятнее любого пространства. А это чувство стоит того, чтобы за ним ехать куда угодно, хоть на край света. Обычно чувства такого рода бывают очень непродолжительны, но в тот день оно длилось и длилось: и когда мы по серпантину спускались вниз, и когда вкушали знаменитую «рыбу Петра» в прибрежном ресторанчике, и когда бродили по берегу, слушая негромкий шум прибоя. Состояние было такое хорошее, что даже думать ни о чём не хотелось.
Последним местом, которое мы посетили, был город Назарет. Так получилось не нарочно, но начали мы с Голгофы, а закончили местом, откуда Иисус по преданию был родом. Само это место со своими археологическими древностями теперь накрыто Базиликой Благовещения, которая в своём облике несёт отчётливую печать европейской современности. Внутри всё было уже привычно «совсем не так», как в нашей церкви. Я бродил там совершенным туристом, наугад разглядывая то, за что цеплялся глаз, пока не остановился перед древней мозаикой с какими-то знаками и крестом в круге.
Незатейливая и безыскусная простота, с которой она была исполнена, невольно обращала на себя внимание. Похожее ощущение часто испытываешь, разглядывая детские рисунки, в которых неумение нежданно-негаданно становится их самой привлекательной стороной. И ко мне вдруг так же неожиданно вернулось детское восприятие мира. На какие-то мгновения ко мне вернулось моё детское отношение к людям, когда они все представлялись мне большими, разными и невероятно любопытными. Я был не столько изумлён, сколько растерян. Трудно было поверить, что я когда-то к людям относился с таким расположением, с таким, можно даже сказать, ко всем благоволением. О себе я ничего такого не помнил. Совсем не помнил.
Внимание тут же переключилось на окружающих. И мне стало казаться, что я каждого из них уже когда-то видел. Для меня это были скорее типажи, нежели живые люди. А хуже того, я был убеждён, что из общения с ними ничего нового для себя я уже не вынесу. Да и особого к ним расположения я тоже не испытывал. Это было странно. Для христианина, коим я тогда себя мнил, всё должно было быть ровным счётом наоборот: от детского животного эгоизма он должен бы был перемещаться в сторону человеколюбия, а уж никак не в обратном направлении. Я был в этом убеждён. Что-то было не так.
Зато маленьким, подумалось мне, я был невероятно глуп: одно время вообще думал, что Иисус — из Петушков, иначе я себе просто не мог, видимо, объяснить, зачем ему в самом лучшем месте, у магазина, построили самый большой и самый красивый в деревне дом. «А он рос здесь. Может быть, бегал по этим самым камням». И этот же внутренний голос сам же на это и возразил: «Какая разница, где он бегал, где не бегал. Кроме этого, он ещё что-то делал, что-то говорил. Понял ты его? умный». Похоже, что нет, подумал я. «Похоже» — передразнил голос. Передразнил и исчез, оставив после себя раздражение и даже какую-то потерянность.
А что я мог сказать? Что мы ничего из того, что он нам заповедал, так и не исполнили, что поборников и толкователей заповедей столько, что сам чёрт ногу сломит? И вправду, с чем я, собственно, к нему пришёл?.. «Судя по всему, мы всё те же. «Царства Божия на земле» мы так и не построили. Да что там царство, за несколько тысяч лет мы даже не научились не убивать. Просто не убивать. Мы до сих пор считаем, что вечно и законно мёртвое, а живое — преходяще и случайно. Ничего нового к тому, что в твоё время уже было сказано о человеке и об его истине, мы не добавили. Нам, как тем римлянам, всё никак не достанет хлеба и зрелищ. Мы осуждаем, судимся, прелюбодействуем и клянёмся. Величаемся мы друг перед другом, а не перед истиной. Мы торгуем в храме жизни и поклоняемся своим старым идолам. Покаяния за протекшие тысячелетия так и не случилось, купайся в Иордане не купайся».
Выходило одно из двух: либо мы все скопом заблудились, либо у Провидения на наш счёт были и есть совсем другие виды. И скорее второе, чем первое, — очень уж сложно предположить, что Провидение настолько рассеянно, что позволило бы нам потеряться, или что мы настолько умны, хитры и своевольны, что были бы в состоянии обвести вокруг пальца само Провидение. «Так что твоё учение нам впрок как-то не пошло. Похоже, люди вообще не могут жить по учению, каким бы оно ни было, какой бы авторитет за ним ни стоял. И слава богу. Почему это нужно жить по учению, а не по сердцу и не по уму? Да — да, нет — нет, сам же говорил. Чтобы объединить людей для какой-то внешней цели, — учение нужно. Да только беда в том, что любая внешняя цель не имеет для жизни определяющего значения. Цель жизни внутри самой жизни. Для её достижения никакого ни с кем объединения не нужно. Стало быть, не нужно и учения».
Сама жизнь это и доказывает: чем дальше, тем более мы разбредаемся кто куда в поисках своих собственных смыслов. «И у каждого своя судьба. Каждому предстоит перейти реку жизни по-своему: один вплавь, другой вброд, кто-то на плоту, а кто и по хрустальному мосту. Естественно, у каждого об этой реке будет своё собственное представление». Учение жизни приходит изнутри, из человеческой сущности, а не снаружи, от учителя. Поэтому люди один за одним и избавляются от всякого внешнего учения, как вылупившиеся птенцы от скорлупы.
В обратном самолёте над Чёрным морем я от нечего делать решал про себя логическую задачку о поисках смысла жизни. С одной стороны, не задать себе вопроса, зачем я живу на этом свете, представлялось мне делом просто невероятным, однако с другой стороны, решение этого вопроса означало бы для познающего существа конец всему, конец жизни, смерть. Логически такого не могло быть. Многие говорят, смысл жизни в самой жизни. Это понятно, но зачем люди ищут этот смысл, это было совершенно не понятно. Я крутил всё это и так и этак, — ничего не выходило, однако я чувствовал, что решение должно быть, потому как «зачем» о смысле жизни — это самый главный «зачем» из всех «зачемов».
Недоступная мне логика мыслительного процесса опять возвратила меня в детство. Вспомнился мой крёстный. Летом он гонял в Петушках коров, и я ходил к нему на полдни. Мы с ним часто спорили, что было совсем не удивительно, он на всё имел своё особенное мнение. Один раз заспорили мы с ним о солнце: я доказывал, что земля вращается вокруг солнца, он же мне доказывал обратное. «Ну как же, — говорил он. — Я-то встаю рано, оно выходит у Никуловых, а садится за Панюшиными». Я был просто вне себя от такого вопиющего невежества, а он на моё возмущение только посмеивался, хлопал себя по коленкам и всё приговаривал: «Ой, не знаю, что такое».
По правде говоря, я думал, он меня просто дразнит. Однако, очень скоро я понял, что земля совершает гораздо более сложное движение, нежели простое вращение вокруг своей звезды. Солнечная система вращается вокруг центра галактики, та, в свою очередь, тоже вокруг чего-то вращается, и так до бесконечности. Потом пришло понимание того, что и земля, и солнце только в нашем представлении являются телами, а по своей сути они ничем от окружающего их пространства не отличаются. Галактика, в которой мы находимся, со стороны тоже выглядит телом, как, наверное, и сама вселенная. Из недоступных восприятию глубин микромира в моём воображении вырастала и исчезала в беспредельном макромире какая-то невероятная по сложности иерархия центров вращения, где каждый центр подчиняет и подчиняется, где каждый центр имеет своё строго определённое место для каждого определённого момента времени. И вселенная каким-то образом вмещает всё это невообразимое количество организованного вращательного движения, оставаясь при этом цельной губчатой структурой, неподвижной относительно самой себя.
И всё это нужно было представить себе без наблюдателя, то есть вне времени и вне пространства, что, по моему глубокому убеждению, сделать ничуть не проще, нежели ещё раз сотворить мир. Одним словом, я начал понимать, что достоверность моего знания неудержимо стремится к нулю, тогда как крёстный пользовался знанием очевидным. И когда он меня как-то встретил и в очередной раз попытался зацепить по поводу солнца, я только руками замахал, согласен, мол, согласен: «Оно встаёт у Никуловых». На что он сделал круглые глаза и невозмутимо возразил: «Не-ка, теперь оно поднимается от Леденёвых…»
На этом месте мои воспоминания прервала симпатичная и очень ухоженная стюардесса, предложив мне на выбор мясной или рыбный обед. Я выбрал мясной, и тут же получил улыбку, извинения и объяснение, что остались только рыбные. «Зачем же вы тогда спрашиваете?» — спросил я и получил в ответ ещё одну очаровательную улыбку. Обед свой рыбный я, правда, тоже получил. И как ни странно, он навёл меня на весьма занятную мысль, что любое наше знание не есть приобретение, а всего лишь переваривание, усвоение и избавление от испражнений. Наше знание само по себе отрицательно. В познании, как и в еде: что откушено, то уже мало нас занимает, и уже совсем не наше дело. Главный интерес всегда крутится возле ещё не съеденного и ещё не познанного. Самовольно мы можем есть что угодно, но только съедобное; можем своевольно узнавать что угодно, но тоже только «съедобное».
И тут, и там — больше, чем можешь, не съешь, и тут, и там — нельзя наесться впрок, один раз и навсегда, и тут и там — результатом процесса является выработка энергии, только природа её совсем разная. «Хотя и одна — энергия жизни, и другая — тоже энергия жизни». Между тем мы уже подлетали к Москве, за иллюминатором расстилались заснеженные леса и поля, народ принялся доставать тёплую одежду и переодеваться. Путешествие подходило к концу, и мне захотелось чем-то его подытожить. Общее впечатление от поездки хотелось запечатлеть в памяти каким-то одним, обобщённым образом. В воображении началась настоящая круговерть зрительных впечатлений. Однако, к моему великому удивлению, отнюдь не архитектурные и, уж тем более, не туристические достопримечательности оказались на первом месте. Перед глазами явственно вставал безжизненный пустынный пейзаж. Внизу, на склоне покатых, холмистых гор, возле каменистого русла пересохшего ручья одиноко притулился не то шатёр, не то палатка бедуинов. И ни малейшего нигде и ни в чём движения. Я ещё подивился тогда, что у них тоже есть «те» и «эти», бывшие и будущие, — средиземноморье как-никак, колыбель цивилизации. И вдруг те зимние видения, преследовавшие меня в наших палестинских переездах, воплотились в совершенно явственную картину. Безлюдная зимняя равнина, подпёртая сугробами одинокая избушка на отшибе. С крыши, заваленной снегом, ветер метёт белый снежный дым. Метёт и подвывает…
Образ занесённой снегом избы ещё долго меня потом преследовал. В нём много чего было. Наши длинные ночи, короткие морозные дни. И наши просторы. И эти слабо светящиеся в тёмном холоде окошки, за которыми всё ещё теплится разумная жизнь. Я воображал себе одинокого старика, который всё уже в жизни сделал и доживает в такой вот избе, может быть, последние свои дни. В Петушках я зашёл в церковь. На то, что там было и что там делалось, я смотрел уже совсем другими глазами. Точно так же, как по-иному глядишь на человека, когда выслушаешь историю его жизни. Все иерусалимские свечки я поставил за здравие всех «человеков», а иорданскую воду выплеснул на ступени ещё при входе.
Под треск свечек я физически, почти что кожей ощутил плотный, насыщенный елеем мифотворчества воздух, в котором я находился. «Начавшись где-то там, каким образом этот миф оказался аж здесь? Почему история Иисуса так поразила некоторых современников, а многих людей не отпускает до сих пор?» Что-то в ней такое было, если бог, к которому можно было испытывать сострадание, вытеснил целый сонм богов, перед могуществом и своенравием которых позволительно было лишь преклоняться в благоговейном трепете.
Я подошёл к изображению распятого Христа. «Людей хоронили с пергаментными текстами, которые описывали его страдания и страшную гибель». Странное предположение закралось мне тогда в голову. Предположение состояло в том, что это было первое художественное произведение, где было изложено столкновение духовной жизни человека с обществом, с реалиями окружающего его мира. «Дух соприкасается с материей. Получается — душа».
И я не устоял тогда перед искушением, начал свои измышления записывать. Конечно, я понимал, что человек и без того мыслит образами и понятиями. Любой человек. Но меня уже занимал сам процесс, искусственный процесс, когда сотворение образно-понятийного раствора становится самоцелью, и этот раствор цементируется словами-знаками на бумаге и застывает. До смерти любопытно было узнать, что это графоманское действо проделывает над человеком, изменяет ли самосознание, и если изменяет, то как. Интересно на себе было попробовать, каков будет результат. По идее он должен был бы быть принципиально иным, нежели когда мы творим с помощью пяти чувств. Слова сами стали складываться в строки. И пошло и поехало… И вот что у меня (вместе с названием) выходило:
Круговерть.
Глава 1
В моём воображении с давних пор стал возникать образ этого человека. И я теперь, по прошествии десятков лет, не взялся бы утверждать, что образ этот стал для меня совершенно определённым, законченным и предельно ясным. Образ этого человека так же не конкретен, не целен, не определенен, как и тогда, когда он непонятно как и зачем начал рисоваться в моём воображении. Тогда я не спрашивал себя, с какой целью представляю себе подобного человека и зачем это мне нужно. Однако с годами я начал понимать, что таким способом в моём представлении созидается образ человека как такового, образ человеческой сути, не ограниченной телесными, личностными или индивидуальными проявлениями.
Круговерть. Глава 1: http://proza.ru/2019/09/05/1692

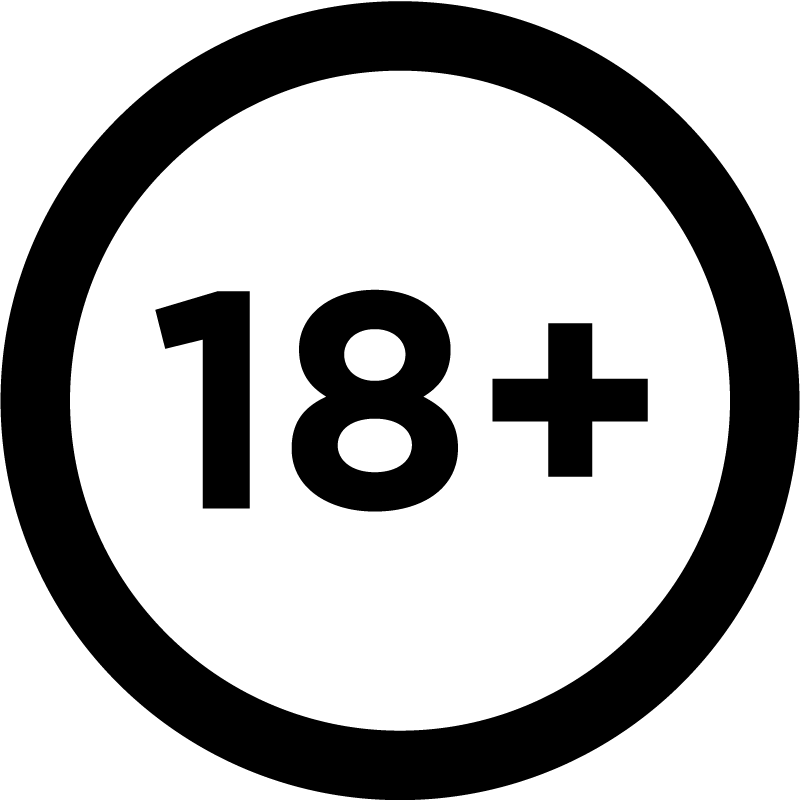 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.