
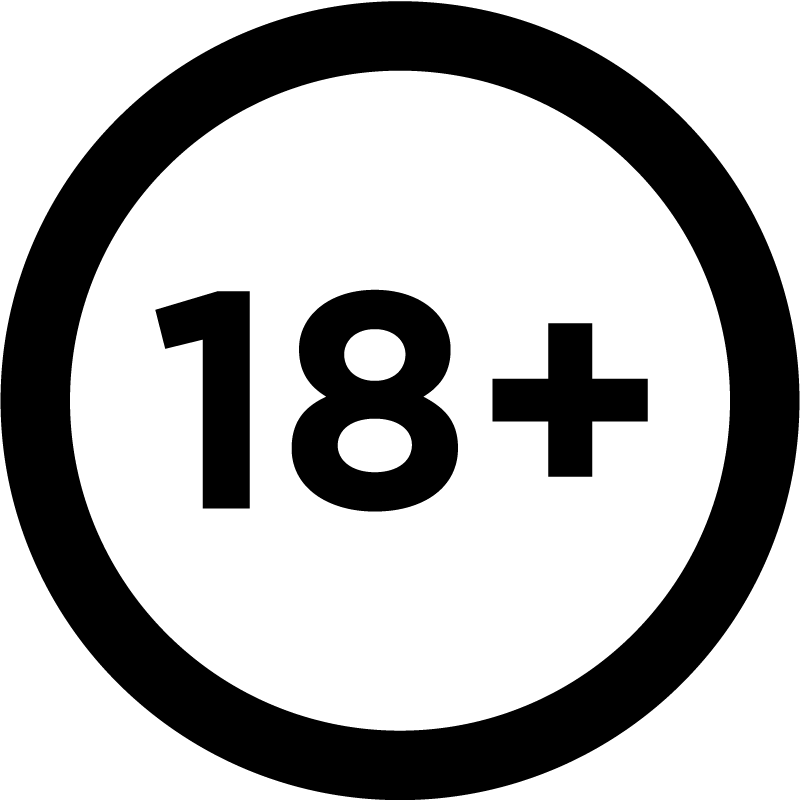
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Сандаловый слонёнок
К.Велигина afalina311071@mail.ru
САНДАЛОВЫЙ СЛОНЁНОК
повесть
Этот слонёнок стоял в серванте её приёмных родителей.
Хобот его всегда смотрел немного в сторону, точно он не хотел идти за другими слонами: должно быть, потому, что был среди них самый маленький и последний. Все семеро слонов были из сандалового дерева и стояли за стеклом по росту, как матрёшки.
Настя любила их больше, чем своих четверых по счету родителей. Анна Леопольдовна, хозяйка детского дома, велела ей на этот раз отказаться от "фокусов"и послушно стать дочерью пожелавших взять её супругов. У Анны Леопольдовны было в детском доме три прозвища: "Царица", "Больная" и "Леопольд". Настя когда-то объединила всё это в Больную Царицу Леопольд и теперь, поразмыслив, решила с директрисой не спорить: какой спрос с Больной Царицы?
Новые папа и мама были чопорно-золотые, душистые. Боялись потерять деньги в банке. Обедали, едва разжимая рот. Редко улыбались. Любили красивые вещи и несколько надменный уют. Настя смотрела мульфильмы и рано ложилась спать. Иногда её водили в гости.
Чем такой изысканной паре приглянулась неказистая Настя, никто не знал. Её вообще забирали из детдома чаще, чем других, раз в год, но потом неизменно возвращали. Ничего примечательного в ней не было: обычная нескладная некрасивая девочка, но жизнерадостная, бойкая и находчивая. Когда, провинившуюся, её тащили за ухо к директрисе, она кричала злейшей, как цербер, Татьяне Сергеевне:
- Ой, тётя Танечка, миленькая, больно! Ой, простите, не буду! - и прекрасно знала, что "тётя Танечка" вместо "Татьяна Сергеевна" - лучшее средство смягчить наказание.
Приятней всего было у бабушки, где Настя прожила четыре из пяти первых лет своей жизни (до года её растила мать). О своих родителях она мало что знала. Отец был человек случайный и внимания не заслуживал, а лишённая родительских прав мать сидела в тюрьме. О ней у Насти сохранились самые смутные и неживые воспоминания, похожие, скорее, на неясный сон.
Когда умерла бабушка, пятилетняя Настя попала в детский дом к Больной Царице Леопольд. Там она провела еще пять невыразимо скучных лет, то забираемая кем-то, то отдаваемая назад. От четвёртых своих "родителей" Настя решила наконец к Царице не возвращаться. Её к тому времени начали утомлять истерики воспитательниц, наказания, запугивания и прочая дерготня: захотелось тишины. Она ясно почувствовала, что устала.
Поэтому теперь она изо всех сил старалась быть послушной, зная, что если она будет послушной, назад её не отдадут. Она не спорила с родителями, считалась с их прихотями и старалась всегда сохранять кукольно-безмятежный вид, что, знала, должно им нравиться. Таким скучным людям должна была нравиться именно такая же скучная, во всём правильная девочка, пусть некрасивая и троечница.
Действительно, Настя их устраивала, они же ее - нет, и детский дом тоже. Она переросла и сиротство, и удочерение. Ей хотелось живой человеческой жизни, какая бывает у всех людей, которые имеют настоящих родителей или, хотя бы, просто хороших друзей: то-то им, наверно, весело! Ведь ей было весело у бабушки, а чем хуже другие люди? Надо только их найти. И зажить самостоятельной жизнью. Ей уже целых одиннадцать лет, она вполне сумеет постоять за себя, если это понадобится. Только надо терпеливо выждать момент - и тогда свобода сама дастся ей в руки...
Терпеть она умела. Например, когда бабушка мыла её в бане, и мыло лезло в глаза, или когда Анна Леопольдовна срывалась на неё, или когда учителя её отчитывали, или когда в тёмной детдомовской кладовке приходилось дремать на матрацах, отбывая срок наказания, до тех пор, пока не открывалась дверь, свет проникал в кладовку и раздавалось заветное:
- Кольчихина! Ужинать - и спать!
Она знала,что такое терпеть в ожидании. Это значило временно умереть для мира, стать упрямым сандаловым слонёнком в серванте, самым последним и маленьким.
- Знаешь, - шептала она ему потихоньку. - Как только ЭТО получится, я возьму тебя с собой...
... Настя в гостях. Родители взяли её с собой, чтобы показать ей пример для подражания, а именно одарённого мальчика, музыканта Костю Долгих. Ему было десять лет, и он с высоты своей избалованности, миловидности и славы снисходительно смотрел на невзрачную девчонку, угловатую, с сереньким остроносым личиком. У нее были небольшие бесцветные глаза и белесые ресницы, такие же брови и прямые русые волосы до плеч.
Костя долго играл ей на фортепьяно, точно доказывая, как велика разница между ним, юным дарованием и ею, маленькой безродной бездарностью. Настя терпеливо слушала. В музыке она не видела никакого толку, не понимала её, не чувствовала и, разумеется, не любила, но дипломатия требовала терпения. Приходилось подчиняться обстоятельствам.
Она выжидала.
Костю попросили показать Насте его книги. Он охотно подчинился. Она, в свою очередь, сделала вид, что книги её очень заинтересовали. Костю позвали к телефону. Настя осталась одна.
Тут, как по мановению волшебной палочки, она изменилось. Немного сонное выражение слетело с её лица, а в движениях проснулось что-то стремительное, грациозное и даже хищное. Она принялась быстро и бесшумно выдвигать ящики шкафов и столов - один за другим, и одним взглядом охватывать их содержимое. Так учил её детдомовский приятель Борька Санаев, будущий профессиональный вор: действовать быстро, пользуясь любым подходящим случаем, но осторожно, а главное, совершенно хладнокровно. "И лишнего не бери, - наставлял он, - а только то, за чем пришла."
Помня это Борькино наставление, Настя нашла и взяла именно то, что было ей нужно: свидетельство о рождении Кости Долгих - зеленое, в полиэтиленовой обложке. Она сунула его в трусы. Тут же вернулся Костя, и они пошли пить чай с тортом.
Она и не надеялась, что найдёт этот столь необходимый ей документ так быстро и без малейших хлопот: ведь одно дело стянуть какую-нибудь конфету или рубль и совсем другое - настоящую вещь. Но факт был налицо - и теперь она тихо торжествовала, сидя рядом с самодовольным одарённым мальчиком.
... Спустя два дня ей довелось совершить еще более полезную находку в вытяжке уже "отцовского" стола: три билета на скорый поезд до Москвы; один из них был на её имя. Вероятно, новым родителям вздумалось показать ей столицу.
Судя по дате на билетах, поездка намечалась на конец декабря, а теперь было только начало ноября.
Настя билеты не тронула, но тут же разработала план действий. Написала записку: "Мама и папа! Простите, но я уезжаю. Деньги когда-нибудь верну. Мы с вами не родные, мы друг друга не любим. Мне скучно: и в детдоме, и с вами. Вы все какие-то неживые, а я хочу жить. Спасибо вам за всё. Настя."
Утром новые родители, собираясь на работу, так и не узнали, что Настя не пошла в школу, а притаилась этажом выше и ждет, когда они уйдут. Уходили они всегда вместе. Едва стихли шаги на лестнице, как Настя вернулась в квартиру.
Она очень быстро собрала маленький рюкзак, бросив туда заодно седьмого сандалового слонёнка, зашила в полу куртки два свидетельства - о рождении и крещении Анастасии Кольчихиной, а в карман сунула метрику Кости Долгих. Потом взяла "папину" машинку для бритья и быстро и ловко обрила себе голову. Покончив с этим, она надела свой тёмный спортивный костюм и глянула в зеркало. Перед ней стоял теперь самый натуральный мальчишка. Правда, он был хлипковат и узковат в плечах, но всё же на девочку совсем не походил.
Свои остриженные волосы Настя тщательно собрала и выкинула на лестницу в мусорку, натянула на бритую голову драповую кепку с ушами, положила записку на стол родителям и, взяв все наличные деньги в рублях и евро, которые нашла, а также свой билет до Москвы, покинула дом, так и не ставший ей родным, без всякого сожаления.
Погода стояла прозрачная и холодная. За ночь выпал небольшой снег и тонко прикрыл землю. Насте вспомнилась деревня. Такой же мелкий снежок. Покров. Они с бабушкой идут в церковь...
Тогда на ней были простенькие сапожки и рыжая курточка, а теперь - великолепный теплый спортивный костюм с лейблой: "Made in England", английские же кроссовки, немецкая кепка и финская куртка на лебяжьем пуху, на груди которой было начертано:"Jesus life!", а за плечами модерновый, весь в наклейках детский рюкзачок. Вот бабушка бы теперь её увидела! Наверно, долго бы ахала. Потом спросила бы: "А чего у тебя, Настёнка, на груди-то, батюшки!"И Настя ответила бы ей: "Жив Господь", бабань. Только это по-английски."
Она не мёрзла в тёплой одежде, но всё же рада была очутиться, наконец, на вокзале, возле предварительных касс. Там она быстро продала на руки свой билет, и с рук же купила один, тоже детский, в общий вагон до Самары, на сегодняшнее число и даже на ближайшее время. Ей было безразлично, куда ехать, - только бы общий вагон и народу побольше, чтобы как следует затеряться среди людей.
Плотно пообедав в привокзальном ресторанчике, Настя села в поезд и убедилась, что всё идет как нельзя лучше: пассажиров было столько, что они сидели даже в проходе, и у проводника не было никакой возможности ещё раз проверить наскоро просмотренные билеты. Она забралась прямо на багажную полку, положив в изголовье рюкзачок и аккуратно завернув в пакетик новые кроссовки.
Она наслаждалась свободой и почти полным отсутствием багажа. Весь день провалялась на полке, потихоньку уничтожая купленные на вокзале пирожки и запивая их лимонадом. Внизу громоздились чемоданы и тюки, на них сидели люди. Напротив неё, тоже на багажной полке, зычно храпел какой-то богатырь, уставя багровое лицо в потолок, а ниже, на верхних полках, друг напротив друга тихо лежали двое: один, лет двадцати шести, с неподвижным, как маска, но очень необычайным и красивым русско-азиатским лицом; и второй, непосредственно под Настиным местом - рыжий, лет шестнадцати худощавый парень убогого и жалкого вида, но с бойкими неугомонными глазами (бедовыми, как сказала бы "церберша" Татьяна Сергеевна).
Настя потихоньку вытащила сандалового слонёнка, а из яркой золотистой конфетной обёртки у нее вдруг получилась Больная Царица Леопольд. Она часто ходила на работу в рыжем с блестками платье.
"Здравствуйте", - сказал ей Сандаловый Слонёнок.
"Здравствуйте, - ответила Царица. - Ты откуда? И где твои волосы?"
"Волосы у мамонтов", - напомнил ей Слонёнок.
"Да нет же, - возразила Царица. - Я, конечно, немного больная, но у одной девочки были волосы, а теперь их нет. Она украла тебя из дома и деньги взяла. Ах!"
"Мне было скучно дома, - возразил Слонёнок. - Можно считать, что я ушёл сам. А деньги ей понадобятся в странствии. Она просто одолжилась - ну, знаете? В долг взяла. Я буду ей настоящим другом. Какое на вас платье, Царица!"
"Великолепное платье, - согласилась Царица Леопольд. - Правда, совсем бумажное и скоро сомнётся. Вы не помните, был ли нынче снег на Покров, Сандаловый Слонёнок?"
Слонёнок сказал: "Я забыл про Покров. Мои "родители" в этот день смотрели по видику фильм про Лувр. А Настя делала уроки. У неё молитвы зашиты в драповой кепке. И она тоже не помнит, был ли снег на Покров..."
"Удивительно, как хочется на бал, - молвила Больная Царица Леопольд. - И спать... А вы хотите спать, Слонёнок?"
И Настя заснула, зажав слонёнка в кулаке.
Просыпается она глубокой ночью от чьего-то шёпота. Вагон спит; в проходах стало посвободней. Рыжий подросток толкает в плечо того, который с русско-азиатским лицом.
- Эй, земляк!
"Земляк" просыпается.
- Тебе что?
- Извини, разбудил... Закурить будет?
Тот молча достаёт и протягивает ему пачку сигарет.
- Спасибо, - шепчет рыжий. - Тебя как звать?
- Иваном, - неохотно отвечает его сосед. - Кто Французом ещё зовёт. А вообще я Жан-Сабит.
- Клёво, - сипит рыжий. - Почему "Жан-Сабит"?
- "Сабитжан" наоборот. У меня отец казах, мать русская. Ну... я переделался в Жана-Сабита. Так интересней.
- Для прикола, - уточнаяет рыжий.
- Вроде того...
- А почему ты ещё и Иван?
- Я в русскую веру покрестился. Стал Иваном. Крест видишь? Такие дела.
- Ишь, - покачал головой рыжий. - А я Отворуев, Валька. Мы из купцов новгородских. Нам царь когда-то часы золотые в три килограмма пожаловал. Только родственнички их по частям потом спустили вместе с цепью.
- Знатно.
- Ещё бы. Далеко едешь, Француз?
- А тебе что?
- Да вот думаю: может, тебе дом нужен? Моя бабка сдаёт.
- Далеко?
- В Малом Перчине. Это от Н. автобусом. И недорого.
- Подходяще. Я бы снял.
- Ты не от долгов ли бежишь? - Щурится Валька, улыбаясь.
Жан-Сабит тоже улыбается, но как-то хищно, зловеще.
- Иди кури, купец новгородский. Не твоё дело, от кого я бегу и куда. Мне дом нужен, а вопросы твои не нужны. Въехал?
- Въехал. Будет тебе дом, - заверяет Валька. - Там никто тебя не отыщет. Слышь, Иван, никто! Зуб даю.
И уходит курить в тамбур.
Настя притворяется спящей, но ей не до сна. Сердце сильно бьётся в груди. Она поспешно суёт в рюкзачок Слонёнка. Царицы Леопольд нигде нет; наверно, провалилась куда-нибудь вниз...
"Увяжусь за ними, - думает Настя. - А буду делать вид, что сама по себе. Только бы не уснуть - просплю ведь..."
Валька возвращается. Жан-Сабит давно уже спит. Валька тоже засыпает. Вертится на своей багажной полке одна только Настя.
... Утром ни свет ни заря Жан-Сабит будит Вальку:
- Подъем, Отворуев! Выходим.
- Чё, уже? - бурчит Валька, протирая глаза.
- Вставай, Купец. Или врал про бабку-то?
- Какое врал, - Валька зевнул. - Мне самому бабка до чёрта нужна. Да больно спать хочется. Ктогда Н.-то?
- Через десять минут.
- Тьфу, напасть...
Через десять с лишним минут они уже стоят на незнакомой станции. Француз и Валька вместе, а Настя за их спинами, незаметная, точно её и нет. Только бы на неё не обратили внимания...
Дует холодный ветер, сметая в кучу сырые коричневые листья. Вдали под низким небом - чужой незнакомый город.
Жан-Сабит и Отворуев, выкурив по сигарете, идут на автовокзал и покупают билеты до Малого Перчина. Настя следует за ними, как тень, и тоже покупает билет. Она слышит всё, о чём они говорят...
- Сколько время? - спрашивает Валька и сам себе отвечает, находя глазами привокзальные большие часы:
- Пять с четвертью. Уродство!
Они снова закуривают от нечего делать.
- Ты сам не от долгов ли бежишь? - спрашивает Жан-Сабит.
- Как раз и нет, - в голосе Вальки детская гордость. - Я знаешь что? Я - СВИДЕТЕЛЬ.
- Иеговы, что ли? - шутит Жан-Сабит.
- Сам ты... - Валька обижается, что его великая роль в этой жизни не оценена по достоинству. - Я ПО ДЕЛУ свидетель! Видел, как Михайла Тверской с Индусом в Бологом мужика кончали. Они меня поздно увидели... А я случайно на них напоролся. До этого-то мы дружили, хотя я знал, что Михайла сидел "полтинник" за соучастие. Они меня привезли в Бологое гулять. Мол, к девкам закатимся в общагу, там дискач, выпить можно и вход свободный. Затырили меня туда, а сами смылись. А мне что там делать, каким я девкам обломился? Заскучал, пошёл Михайлу с Индусом искать. У нас приятель там был общий, Толик Робый, кликуха Робин. Ну, думаю, может, они у него? Зашёл в подъезд и вижу: они под лестницей Толика-то и кончают. Сбили его с ног, и финарь ему в горло. Он хрипит, а тут Индус меня увидел. Ну, я давай ноги. Наверно, они меня с собой брали, чтобы я им алиби, если что, подтвердил, а так ясно стало, что уже не подтвержу. Я тогда удрал от них, только меня всё равно "заказали". Думаешь, вру? Всерьёз "заказали". Уже стреляли раз, я сбежал, не вышло. И чего боятся, дураки? Я в ментовку-то не пойду, ещё перепутают, самого посадят - боюсь...
Его голубые глаза смеются, но в них - напряжённая тревога. Худая курточка, на тонкой шее - старый, весь вытертый шарф. Кроссовки явно из "гуманитарки" и просят каши.
- Что ж ты так подвернулся? - не выдерживает Жан-Сабит. - В таких делах умней надо быть. Два раза промахнутся, а в третий, не беспокойся, попадут. Это тебе не боевик американский.
- А, выкручусь, - Валька машет рукой. - У бабки пересижу.
- В таких-то чоботах? Заболеешь и сдохнешь, как собака.
- Это не чоботы, а "Цеба"...
- Поди-ка. Может, тебе их за валюту загнать?.. Пошли, в зале потусуемся, там теплей.
Они идут в зал греться горячим чаем. Настя тоже пьет чай, чувствуя тяжесть в голове: как ей хочется спать! Потом подходит автобус, и вместе с другими они залезают в него.
Настя устраивается сбоку от тех, за кем она "увязалась". Контролёр, проверив у неё билет, больше ею не интересуется. Поначалу она крепится, но потом засыпает... Ей видится храм. Горят свечи. На одной из икон - маленькая, стриженная под машинку девочка с сандаловым слонёнком в руке, а на другой - рыжий худощавый подросток. Кто-то целится в него из пистолета... Она быстро открывает глаза. Жан-Сабит с Валькой уже у дверей. Она едва успевает выскочить за ними, думая про себя: "Церква приснилась, свечи... помру я, что ли?"
Настя осторожно следует за объектами своего наблюдения, сохраняя дистанцию.
Валька довольно быстро находит дом своей бабушки - и проникает туда. Жан-Сабит остаётся за калиткой, а Настя прячется за фонарным столбом.
Далее следует весьма впечатляющая сцена: пожилая, но сильная и высокая бабка выволакивает потомка новгородских купцов за волосы на крыльцо, и её мощный голос гремит на всю улицу:
- Это ты-то в такую рань ко мне приволокся на старухины-то хлеба?! Я и отца, и мать твоих в гробу видала, недоносок, а тебя и подавно. Ты, домовой, дорогу-то ко мне позабудь! Это вы - Отворуевы, а мы, Безмогильные, люди честные. И не внук ты мне, и никто: всему миру так и объявлю. Вон, вон пошёл...
- Да у тебя человек дом хочет снять! - кричал в ответ Валька.
- Человек! Он ещё человека мне суёт! Да поди ты ко всем лешим, я ничего не сдаю, а особенно тебе, скотина! Я от твоего отца, да и от матери, кроме худа, добра не видела с самого её рождения: ты-то мне на что сдался! Вон!
- Да куда я пойду? - Валька всхлипывает. - Старая, а ума не нажила. Меня же убьют, корова. Михайла Тверской. Я у него свидетель.
- А, ты ещё в тёмные дела записался! Ну вот хоть пришибут тебя, доброе дело сделают!
И старуха так хрустнула входной дверью, что задрожал весь дом.
Валька, размазывая слёзы по впалым щекам, подошёл к калитке и пнул её ногой.
- Сука! - крикнул он в сторону дома.
Потом треснул кулаком по забору и разбил руку в кровь.
- Славная у тебя бабушка, - сказал Жан-Сабит. - Да, ты, кстати, зуб давал... где зуб-то? Ладно, не реви. В С. поедем, там старухи посговорчивей, квартиру снимем. Оно и дальше будет. Безопасней.
Он повернул в обратную сторону, понурый Валька поплёлся за ним. Настя не отставала от них. И опять был автобус, потом снова поезд и снова общий вагон. На этот раз Насте пришлось применить чудеса ловкости, чтобы проводник ничего у неё не проверил и даже не взглянул на неё. У нее было место в другом вагоне, но она боялась прозевать Жана-Сабита с Валькой. Они скоро уснули на своих полках. Она не сомкнула глаз и, чтобы не уснуть, без конца пила крепкий кофе, налитый ею во фляжку в одном из станционных буфетов.
Спустя несколько часов после изгнания из Малого Перчина они все втроём очутились в С.. Тут-то Настя и имела несчастье "засветиться". Она потеряла бдительность, и Валька Отворуев её заметил.
Оглянувшись назад, он толкнул локтем в бок Француза:
- Иван! Мы "хвост" ведём. "Джизес лайф". Пацан десятилетний в куртке. Он ещё в самарском общем с нами ехал.
- Мои пацанов не подсылают, - сказал Жан-Сабит.
- И на моих не похоже. Слышь, а вдруг его в киллеры наняли? Если он нас пристрелит, ему не будет ничего.
- Выясним, - пожал плечами Жан-Сабит.
Измученная, еле живая от усталости, Настя подняла голову и обмерла: её "объекты" исчезли! Как сквозь землю оба провалились, стоило ей на секунду взглянуть себе под ноги. Она бросилась бежать вперёд, но так их и не увидела. Споткнулась в потёмках, полетела в грязь. Встала. Напротив неё - покосившийся забор, а вдали - незнакомые панельные дома. Настя не выдержала тяжкого разочарования и заплакала так горько и безнадёжно, как не плакала уже давно...
Тут кто-то цепко схватил её за плечи. Она обернулась - и с души точно свалился камень. Жан-Сабит! Значит, она не потеряла их.
- Э, - сказал Отворуев, вылезая из своей засады. - Тебя кто подослал? Колись, а то все зубы вышибем!
- Никто, - Настя вытерла слёзы. - Я Костя. Детдомовский. Сбежал от новых родителей, решил уехать куда подальше. Услышал в поезде, что вы дом хотите снять. Ну и думаю: увяжусь за ними...
- Зачем?
- Чтобы вместе в доме жить.
- Нужен ты нам! - проворчал Отворуев. - Осчастливил!
Потом добавил сумрачно:
- Тебя же искать будут...
- Я так сделал, что не найдут, - Настя хитро прищурилась. - Не бойтесь. У меня бабки есть, поделюсь.
- Давай, - сказал Отворуев.
Жан-Сабит остановил его:
- Отставить! Не твои деньги. Потом разберёмся... - и Насте:
- Ну, пошли с нами, что ли...
Они молча двинулись в путь и вскоре пришли к какому-то частному домишке. Постучали в дверь.
- Кто? - спросил старушечий голос за дверью.
- Валентину Петровну надо, - сказал Жан-Сабит. - Квартиру сдаёте? Мы объявление прочли.
- Сдаю, - старуха открыла дверь. - Да вы кто, мило'чки?
- Братья мы, бабуля.
- Расписку напишете?
- Всё напишем...
- Квартира-то моя вон в той пятиэтажке. Однокомнатная. Санузел раздельный, ванная с колонкой, плита на газу. Два дивана, и раскладушка есть. Васька! Бери Серёжку, сводите их на квартиру, пусть расписку вам напишут... А деньги, милочки, мне сразу за месяц.
- Пожалуйста, - отдал Жан-Сабит.
- Да как фамилия-то ваша?
Жан-Сабит слегка растерялся. Сказать "Рыспаевы" - подозрительно. "Отворуевы"? Ещё от квартиры откажет...
- Ну, - шутливо обратился он к Насте. - Костик, как наша фамилия?
- Долгих, - ответила Настя.
- Долгих, - одобрительно закивала бабка. - Там и бельё в шкафе, и матрацы - всё... Да сыновья намедни прибрались. И холодильник, и моющие средства. Живите с Богом.
Огромные, как шкафы, Васька с Серёжкой повели "братьев" на квартиру. Молча передали ключи, показали, что где. Жан-Сабит написал расписку в двух экземплярах, один из которых отдал Серёжке. "Шкафы" ушли, и в квартире сразу стало просторней.
Настя сидела на краешке дивана, осматриваясь. Было джовольно чистенько, на стенах висели репродукции с видами природы, на полу был коврик, а возле окна - очень старый чёрно-белый телевизор.
- Есть хочешь? - спросил Настю Отворуев.
- Спать хочу, - ответила Настя. - Вы-то спали, а я вас стерёг, чтобы не отстать...
- Ну иди, мойся да ложись, - сказал Жан-Сабит. - А мы после тебя. Тоже устали. Да, Купец?
- Как свиньи, - подтвердил Отворуев.
- А вы меня не бросите, пока я моюсь? - тревожно спросила Настя.
- Нет, - успокоил её Жан-Сабит. - Честное пионерское.
Она сняла куртку, кепку и кроссовки, взяла из рюкзачка мыло, мочалку, щётку, зубную псту и полотенце из шкафа с бельём. Про себя пожалела, что нет тапок и пижамы. Закрылась в ванной.
Едва зашумела вода ( Жан-Сабит зажёг колонку), как Отворуев зашептал Французу:
- Иван! Проверь евонные вещи; может, врёт всё. Такие сопляки ушлые, те ещё, проверь...
- Хорошо, - отозвался Жан-Сабит. - Иди на стрёму, и куртку заодно обыщи.
Валька выскользнул в коридор. Угрюмый Жан-Сабит открыл рюкзачок и вытащил:
1) пачку денег, стянутую широкой резинкой;
2) сандалового слонёнка;
3) шерстяной свитер;
4) фляжку с остатками кофе и горсть жвачки;
5) две пары тонких шерстяных носков;
6) нижнее бельё.
Это последнее было чистым и белым, но, тем не менее, оно так изумило Жана-Сабита, что брови его невольно поползли вверх. Перед ним лежал лифчик нулевого размера и пара девчоночьих - не мальчишеских - трусов.
"Дурак я, - подумал Жан-Сабит. - Голосок-то у Кости слабоват... и в слёзы сразу, как нас потеряла..."
Он быстро сложил все вещи обратно и позвал Вальку из коридора:
- Ну что, рыжий?
- Ничего, - пожал плечами Валька. - Пусто. Нашёл у него только свидетельство о рождении. На Костю Долгих. Константина Васильевича...
Жан-Сабит засмеялся.
- Ты чего? - удивился Валька.
- Да так. Постели давай стелить. После Кости мыться пойдёшь, а я чай заварю. Обычный он пацан, Валька, никто его не подсылал.
Настя вышла из ванной, завёрнутая в широкое полотенце, румяная и сонная. Валька тут же отправился мыться, а Жан-Сабит вдруг тихо сказал, глядя на неё:
- Слушай... А ведь ты девочка.
Настя быстро повернулась к нему, и он увидел в её беспомощных глазах страх и смятение.
- Не бойся, - он подошёл к ней. Но она уже всхлипывала, присев на диван. Он сел рядом и обнял её.
- Не плачь, не обидим. Как тебя зовут по-правде?
- Настя Кольчихина... Жан-Сабит! Я не знаю, кто вы оба, но я хочу быть с вами. Вот деньги. Все ваши, все... Может, пригодятся. Дарю.
- Чьи деньги-то?
- У родителей взяла у приёмных. Я им когда-нибудь верну. У них много денег-то этих...
- Не плачь, Настя, - повторил Жан-Сабит. - И ложись спать: вот на диван.
Он быстро постелил ей на диване. Она забралась под одеяло.
- Мы тебя никому не продадим и не выдадим, - сказал он. - Не волнуйся. Спи.
Настя с облегчением улыбнулась ему, закрыла глаза и заснула почти мгновенно.
Валька вернулся из ванной, распаренный и красный, как тощая свёкла.
- Не шуми, - предупредил его Жан-Сабит. - Ребёнок спит.
- Велика важность, - ухмыльнулся Отворуев.
- Велика. Кстати, это девочка.
- ЧТО? - Валька разинул рот, как подавившаяся ворона.
- Что слышал. Девчонка это.
- Не может быть.
- Уже смогло. Она деньги нам подарила. Пошли в кухню чай пить, а она пусть спит.
- Сколько денег-то?
- Я не считал. Так, приблизительно, тысяч двадцать с баксами.
Валька тихонько свистнул.
Они перешли в кухню, стараясь не скрипеть половицами. Жан-Сабит налил себе и Вальке чаю и разломил пополам маленькую булку: всё, что у них осталось.
Валька с наслаждением глотнул чай.
- Как её зовут-то? - спросил он.
- Настя.
Валька задумался.
- Я в первом классе был в одну Настюшку влюблён. В неё все были влюблены. А эта... мала'я еще. И обрилась круто. Как зэк.
Он засмеялся.
- А ничего, хорошенькая.
Тут в нём проснулась наследственная купеческая честность.
- Слышь, Француз... она эти бабки спёрла... мы их рассандалим, а ей потом отвечать? Нечестно...
- Нам шкуры надо спасать, - сурово сказал Жан-Сабит. - Особенно тебе. Мне её деньги не нужны, а тебе хватит только-только, чтобы "заказ" пересидеть, ещё и мало будет. Эти бабки - нам на крайний случай и для начала. Понял? Ты с нами останешься или отдельно будешь бомжевать?
- Куда же я отдельно? - Валька растерянно захлопал глазами. - Вы мне жизнь спасли. Я в долгу у вас теперь до самой смерти.
- Ну и всё, решено, значит.
Жан-Сабит вмял окурок в пепельницу, сделанную из какой-то жестянки, пристально посмотрел на Вальку и сказал:
- Иди, ложись на втором диване, а я раскладушки люблю. Идёт?
- Ага, - Валька протяжно зевнул и пошёл в комнату, на ходу стаскивая футболку.
Некоторое время Жан-Сабит сидел в одиночестве. С каждой минутой глаза его всё больше темнели под влиянием какой-то неотступной мысли.
Наконец, он встал. Заглянул в комнату. Оба "брата" дышали ровно и безмятежно. Тогда он оделся и вышел на улицу.
Остановившись у покосившегося аппарата для междугородних переговоров, он сунул туда магнитную карточку, взял трубку и набрал номер.
Знакомый голос в трубке сказал:
- Слушаю.
- Боб, это я, - отозвался он.
- Готово?
- Нет. Не стану я его убирать. И задаток тебе вышлю.
Секунду в трубке держалась изумлённая пауза: Боб осмысливал услышанное. Затем на Жана-Сабита, как горох, посыпались слова:
- Ты что, Француз! Робин ведь не мальчик был тебе. Третий магазин покупал, полгорода его знало, с братвой он в казино катался. Если б он никто был... А так - надо убрать парня, слышишь?
Он хоть и щенок сопливый, а видел много. Он и моих, и Робина хорошо знает, и, если попадётся, со страху вложит всех, говорю тебе. Сразу головная боль на неделю, чтобы всё замять. А так - никакой боли. Убрать его надо, слышишь, Француз?
Жан-Сабит выдержал паузу, потом Боб услышал его ответ:
- Делай, как знаешь. Но я буду при нём, а не с тобой. Иначе не могу.
- Так ты против меня решил? - Боб так удивился, что даже перестал горячиться. - Тогда и тебе головы не сносить, Француз. Мои, знаешь, разбирать не станут: я им вперёд заплачу. А пуля дура - гляди, перепутает вас с Купцом... Сердце моё отцовское, жаль тебя станет. Ты мне хорошо служил. А ведь я тебя не обижал, Иван.
- Боб, детвора не мой профиль. За бабки спасибо. Я больше у тебя работать не буду, ты извини. Я другим займусь. Прощай.
- Не передумай, Француз.
- Не передумаю.
Он вынул карточку и отправился домой.
Насте снится Больная Царица Леопольд в халате из оргомной и блестящей конфетной обёртки ярко-зелёного цвета.
- Почему на вас бумага? - спрашивает Настя и , как это бывает во сне, слышит в ответ несусветную
- Это фланель. А вообще, ты и в хэбэ не разбираешься.
- Это же шерсть, - вдруг неожиданно произносит Настя.
- Шерсть, - подтверждает Царица. - Чистая. Два процента. Знаешь, тебя ищет милиция. И Слонёнка тоже.
Она танцует вальс.
- Анна Леопольдовна, - говорит во сне Настя. - Мне скучно с вами. И без вас. Мне скучен этот странный вальс. Но я люблю больших слонов, особенно сандаловых. И я увижу сорок снов. А к нам - добро пожаловать!
Вымолвив во сне этот странный стишок, Настя тотчас просыпается.
В комнате никого нет. Она вылезает из-под одеяла, находит обрывок бумаги и какой-то выдохшийся фломастер, суёт его в рот, чтобы он намок, потом записывает:
Мне скучно с вами и без вас
мне скучен этот странный вальс
но я люблю больших слонов особенно сандаловых,
и я увижу сорок снов, а к нам добро пожаловать.
В комнату заходит Валька.
- Проснулась? - спрашивает он.
- Ну, - отвечает Настя.
- А чё пишешь?
- Стих. Во сне сочинила.
И Настя читает ему стих.
- Круто, - восхищается Отворуев. - Да ты прямо Пушкин. Иван ушёл жратву покупать на завтрак. Чё, тебе надеть нечего?
- Вроде как, - соглашается Настя. Она в майке и трусах. Её никто не учил, что так не ходят перед незнакомыми. Тем более, Валька уже знакомый.
- Спасибо тебе, - бомочет он. - За деньги.
- Пожалуйста, - Настя собирает бельё и складывает в шкафчик, как делала дома, у своих последних родителей. Потом она включает телевизор и сообщает Отворуеву:
- Представляешь, где моя мать? В тюрьме.
- За что?
- Не знаю. Один раз вышла, потом снова села.
- Ты её навещаешь?
- Зачем? - изумляется Настя.
- Мать всё-таки...
- Она меня не навещала, а я что, дурней её? Меня бабушка растила. Потом умерла. В деревне это было, в Низовке. С бабаней весело было. А в детдоме скука смертная. И у новых родителей тоже.
Появляется Жан-Сабит.
- На, держи халат, - он протягивает Насте свёрток. - Сейчас завтракать будем. Я сыра купил. И хлеба. И колбасу с маслом...
Через некоторое время Настя в новом тёплом халате уже уплетает толстый бутерброд и запивает его чаем с лимоном.
- Как твою бабушку звали? - спрашивает Отворуев.
- Баба Нина. Я её бабаней звала. Мы с ней в церкву ходили, свечку за деда ставили, а мамке за здравие. Бабаня молитву про зэков ещё знала "О в узах сущих".
- Ты мать-то помнишь?
- Нет. Детдом помню. Там директриса Анна Леопольдовна. И ещё Татьяна Сергеевна: злю-ущая! И Борька Санаев. Он вором будет. Настоящим.
- А Костя Долгих кто?
- Мальчик. На пианине играет - ловко так. Правда, понты' колотит: я, мол, одарённый, такой-сякой. Ну, думаю, пианино твоё, а свидетельство пусть будет моё. Пригодится.
Валька захохотал и подавился чаем. Жан-Сабит улыбнулся. Потом сказал:
- Валентин, нам куртку тебе надо купить и ботинки. А ещё постричь тебя надо.
- Надо, - соглашается Отворуев. - Волосы в глаза лезут.
- Мы недолго, - говорит Жан-Сабит Насте.
Он странно говорит с ней: редко, точно глядя сквозь неё. Она чувствует в нём что-то такое, чего надо бояться - и боится, но не очень, так как не знает, ЧЕГО боится. Это неопределённый страх, но он постоянен.
Жан-Сабит загадочен. Его глаза почти лишены выражения, вернее, оно всегда одинаковое: какое-то сумрачное, траурное.
Едва они уходят, Настя с любопытством заглядывает в его дипломат: там тьма денежных купюр. А в дорожной бесформенной сумке - какой-то чёрный футляр. Она его открывает. Автомат! Разобранный автомат! Патроны. Пистолет. Глушитель. Нож. Какая-то чёрная длинная трубка с ножками. Настя направляет её на окно и видит очень близко угол самого дальнего дома. Ещё какая-то чёрная штука... В непонятном страхе Настя поспешно кладёт все вещи на место, закрывает сумку и дипломат.
Ничего себе, сколько у Жана-Сабита денег и оружия! Зачем ему все эти штуковины? Наверно, чтобы защищаться от тех, от кого он уехал вместе с ней и Валькой в общем вагоне.
В окне - маленький заледеневший двор. Серые дома. Деревья. Вдали - речка. Летом здесь, наверно, ничего, но осенью - уныло...
Настя заходит в полутёмную маленькую кухню. Там на столе пепельница и окурки. Валька с Французом курили. Она вытряхивает пепельницу в ведро и моет всю посуду. Потом начинает протирать пол.
За этим делом её застают Валька и Жан-Сабит.
- Ноги вытирайте, - говорит им Настя. - Я половик положила. И обувь сразу снимайте.
- Ишь, хозяйка, - улыбается Валька. Он стриженый, счастливый, в новой куртке и зимних ботинках.
- Кайф? - спрашивает он, встряхивая ими перед Настей.
- Ни финты себе, - говорит Настя. - Почём?
- Четыреста с рук.
- А куртка?
- Триста. Неношеная.
Настя деловито щуает кожаный рукав. Резюмирует:
- Настоящая. И овцой подбита. Всего триста? Повезло вам, могли бы тысячи две спустить, а то и больше.
- Экономный я, - говорит Жан-Сабит. - Он-то всё спустил бы. Только не со мной.
- Не с ним, - подтверждает Валька. - Он жадный, морда азиатская. Хоть и крещёный.
- Не жадный, а бережливый, - поправляет Жан-Сабит. - Нам бабки нельзя проматывать. Люди мы пока не те.
Он смотрит Насте в глаза:
- Готовить умеешь? Нам поесть бы...
- Сейчас сварю обед, - говорит Настя. - Только овощей мне купите и кость говяжью на триста граммов, и фаршу - тоже триста; ну, зелени там, чесноку... Записать или запомните?
Валька идёт за покупками.
За обедом она рассказывает про детский дом, про кладовку и про Анну Леопольдовну.
- Круто её папа с мамой назвали, - замечает Валька.
- В честь Анны Леопольдовны, - говорит Жан-Сабит, складывая руки на груди, и рассказывает грустную историю о том, как у женщины с таким же именем был сын Иван, царь российский; как его годовалого, сослали с матерью на север, а после и совсем разлучили с родителями. Он рос, не видя света, в мрачном каземате - никто не любил, не жалел его. А потом, уже взрослого, его убили...
- За что? - едва сдерживая слёзы, спрашивает Настя.
- Чтобы не дать ему царствовать.
- Что ж за это убивать? - шепчет Настя. - Зачем?
- А зачем Отворуева хотели убить? Свидетелем оказался, всего-то! И хоть бы царь он был российский, а то купец новгородский - мелкота. Что ж ты хочешь насчёт царя; с царями всегда круто было.
- Как его очество? - хмуро спрашивает Настя.
- Антонович.
- А у тебя? - Настя смотрит на Вальку.
- Семёновичи мы, - он смеётся.
- Я не дам тебя убить! - почти кричит Настя. - И тебя, Жан-Сабит! Не дам, не дам!..
Вечером Настя сидит в ванной (она обожает принимать ванну), а под газовой колонкой на досочке для мыла перед ней Сандаловый Слонёнок. Рядом - найденный Настей на полу пластмассовый магнитный ферзь из дорожных шахмат. Это, конечно, Больная Царица Леопольд, кто же ещё.
"Вот как, - говорит ей Сандаловый Слонёнок. - У вас, оказывается, был сын Иван. Его у вас отняли, он долго жил в тюрьме, а потом... потом его убили..."
"Что вы, что вы, - бормочет в ответ Царица. - У меня нет детей, Сандаловый Слонёнок. То есть, у меня совсем большой сын Владилен, новый, русский, толстый и глупый, но добрый. Анастасия ведь помнит: он очень финансирует наш детский дом, его связи - это ого-го, вот что. И с губернатором он на короткой ноге... Но его ещё не убили, потому что хоть он и дурак, но любит детей. Настьке раз конфету дал. И не Иван, а Владилен, Вла-ди-лен. Изящное французское имя. "Владимир Ленин" переводится".
"А в тюрьме он не был?" - спрашивает Слонёнок.
"Что вы! - ужасается Царица. - Нет, нет..."
"Два года-то сидел ведь", - напоминает Слонёнок.
"Это вам Кольчихина сказала?"
"Да. Она подслушала. Вы плакали три года назад: Владюшу посадили... А потом он досрочно вышел".
"Да, так все и было".
"Но у вас не могло не быть сына Иоанна Антоновича... вспомните! Был? Сидел у решётчатого окна в самый Покров и глядел: есть ли снег на дворе-то? Вспоминал детство: везут куда-то с матерью в заточение. Потом отбирают чужие люди. Он плачет: маменька, не отдавайте... Тогда ведь детских домов не было. Сразу - в тюрьму..."
Настины слёзы капают в жёлтую воду.
"А когда убивали его, наверно, думал: ну, Господи, прими душу мою. Вот я, царь российский, раб Твой, безвинно смерть принимаю... Прости, Господи, и помилуй..."
Настя перекрестилась по-бабушкиному и ещё горше заплакала. Ей очень жалко было Иоанна Антоновича.
Сандаловый Слонёнок смотрел на неё с полочки для мыла, и Царица Леопольд смущённо пряталась за его спиной.
Валька Отворуев пишет письмо.
"Привет, Маркел!
Едва удрал от заказа. Не знаешь, как там Индус с Михайлой? Я этого ихнего "крышу" Стрижа, Боба, то есть, и не видел ни разу, а он на меня киллеров наслал. Ну, дружил я малость с Робином. Знаю, богатый был фрайер, понтовый, пальцы веером и две машины. Он мне в своём третьем магазине обещал в кабинет с телефоном посадить. Базарил: мол, ты, Валька, талантливый, клиентов обделаешь только так, я в тебе способности пред-о-щу-щаю. Так и говорил. ЛИНГВИСТ был, - вспомнил Валька трудное слово из школьной программы. - Я его звал запросто Толиком. Иной раз сидим, курим в кафешке, я ему говорю: эх. Толик, жить хорошо! в он мне - акулы, мол, кругом плавают, Купец, ты акул-то не видишь, ты счастливый... потому что нищий ты, как две копейки после девальвации.
Боб зря боится, что я их вложу. Ты, если сможешь, Индусу с Михайлой скажи: Купец, мол, к мусорам ни в какую не пойдёт, побоится, да и на что мне? Ну, пришили Робина, жаль,а разборка есть разборка, я в чужие дела не суюсь, глупо меня гонять. Знаю, что он крутой был чувак - да из меня свидетель-то хреновый. Я-то кто такой? Он и в политике был замешан, и в экономике... да я-то что? Я ж этого не знаю ничего. Мать мою не забывай, Маркел: как она там? Я тебе и денег переведу за неё, если будет возможность. Прощай. В.О. (Обратный адрес не пишу, позвоню потом)."
Валька сложил листок пополам и задумался. Ему вспомнился его верный дружок Санька Маркелов: с детского сада дружили. У Саньки был водяной пистолет - отец привёз "с моря" - и однажды он стрелял водой в девчонок до тех пор, пока его не наказали.
Потом иностранные жвачки, пистолеты и машинки у Саньки перевелись: отец ушёл из семьи. Появился отчим, который ничего ниоткуда не привозил, но Санька им гордился: отчим был богатый, "родом" из обкома и на хорошей должности. Маркела он уважал, катал на своей "Волге", кормил пирожными и порой покупал ему дорогие игрушки. Санька называл его "дядя Миша".
Дядя Миша катал и Вальку, который тогда уже рос без отца, часто голодал и болел.
- Что, Валентин, - спрашивал дядя Миша басом. - Синяк-то кто тебе поставил? Не Санька мой?
- Не, - отвечал Валька. - Пётр Иваныч. У нас живёт.
- А что так?
- Пьяный был.
- И мать не вступилась?
- Так он и её побил. А ведь мы из купцов, - тогда уже бормотал жалкий Валька, наслышанный от деда о своём высоком происхождении. - И царь часы подарил... мамка говорит, всё раскрали...
- Это у вас-то, брат, у Отворуевых? - и дядя Миша весело хохотал.
- У нас, - нерешительно улыбался Валька.
Дядя Миша завозил их в ресторан и там кормил обоих по полной программе. Санька ел лениво, по-буржуйски. Валька сжирал всё, как волчонок.
- Ешь до упора, - говорил ему дядя Миша, заказывая ещё пару блюд специально для него. Он не знал, когда в следующий раз сможет покормить Санькиного дружка. На прощание важно пожимал Вальке руку:
- Держись, брат Валентин, будет и тебе когда-нибудь хорошо. Вот закончишь школу, я...
Но когда Валька закончил школу, дядя Миша уже ничего не мог сделать для него: он умер за три года до этого - быстро, тихо, скоропостижно...
А Вальку продолжали бить материны "мужья", он подолгу не жил дома: ночевал то у приятелей, то с бомжами в подвалах или на чердаках.
В училище поступить ему не удалось, в десятый класс его не взяли; он стал подрабатывать мойщиком машин на стоянках. Мать, изредка трезвая, плакала над ним:
- Сиротинушка... вырос без друзей, битый... А я - не мать, не мать! Змея подколодная. Ты, сынок, прости меня. Кроме тебя все осудят, никто не простит, и правильно: за что прощать-то? Сына единственного не вырастила. Сам вырос. Как травка сорная...
И слёзы текли по её опухшим щекам.
- Мам, ну ты чё, - сопел Валька. - Я выйду в люди, вылечу тебя. Замуж выдам насильно, чтобы муж за тобой смотрел.
- Так и сделай, - шептала мать. - Слабая я. Жизнь загубила: и свою, и твою. Свою-то ладно, а твою... Смерть бы хоть прибрала меня. И то страшно - в ад попаду.
- Чтоб и на том свете били? - не верил Валька. - Нет. На этом-то пусть бьют, а там тебе хорошо будет! И мне тоже... Иначе быть не может.
Он в это свято верил. Когда человек умирает, ему ДОЛЖНО быть хорошо, даже если при жизни он пил и забывал растить сына. Жива ли там ещё мамка-то? Или уже... ЕЙ ХОРОШО?
Валька поднялся с места. Крикнул:
- Настя! Что делаешь?
- Посуду вымыла, - Настя вошла в комнату.
- Я письмо пойду отправлю...
- В магазин зайди, - попросила Настя. - Вот список, что купить...
Так проходит их жизнь в маленьком безвестном городке. Всё это чем-то похоже на сказку "Теремок". Настя готовит еду, Жан-Сабит убирает квартиру, Валька ходит по магазинам, и все смотрят телевизор.
Когда порой Настя просыпается ночью и выходит из комнаты, она видит, как Жан-Сабит сидит на кухне у окна и курит, и смотрит на своё отражение в тёмном оконном стекле.
Однажды Настя подошла к нему. Он молча посмотрел на неё. Она спросила, робея:
- Не спится?
- Не спится, - ответил он. - Да ты не обращай внимания.
- А с тобой нельзя посидеть?
- Зачем?
Его вопрос на секунду смутил Настю, но она тут же нашлась:
- Чтобы тебе веселее было.
- Мне и так весело, - ответил Жан-Сабит. - Веселей не бывает. Спи.
Она отправилась спать, размышляя о том, какой таинственный и странный Жан-Сабит: говорит, что ему веселей не бывает, а сам сидит и курит с неподвижным лицом. Разве так веселятся?..
Однажды вечером, изнывая от скуки, Валька Отворуев подошёл к застывшему в задумчивом оцепенении Французу и, дурачась, обхватил его за плечи:
- Иван! Я тебя поборю.
Жан-Сабит с улыбкой увернулся и в свою очередь схватил Вальку. Тот выскользнул из его рук, как угорь.
Настя следила за их борьбой с большим увлечением и раза два даже засмеялась, но вдруг что-то насторожило её. В движениях Жана-Сабита постепенно, словно из тумана, начала возникать угрюмая деловитость бульдога, готовящегося к мёртвой хватке. Спустя несколько секунд, он цепко схватил Вальку, легко опрокинул его навзничь и вдруг ударил с такой силой, что Валька удивлённо вскрикнул. А Жан-Сабит продолжал наносить удары так спрокойно, точно делал какое-то очень нужное и полезное дело. У Насти пропал голос. Она молча бросилась к Вальке и почти упала на него, чтобы защитить. Страшный удар пришёлся ей по рёбрам. Она вскрикнула и с ужасом взглянула на Жана-Сабита глазами, полными слёз. Тогда он очнулся - точно протрезвел после пьяного угара. Бережно отстранил дрожащую всем телом Настю и приподнял под мышки Вальку.
- Купец... живой?
Валька попытался улыбнуться, но вместо этого позорно заплакал: молча, не разжимая зубов.
Жан-Сабит принялся возиться с ним, смывая кровь и проверяя, нет ли внутренних повреждений, а Настя глядела на них из-под стола, куда она в страхе забилась, как собачонка.
- Губы разбил, - говорил Жан-Сабит. - А зубы целы... И внутренности в порядке; я знаю, я медучилище с отличием закончил. Ты прости, Купец: в голове помутилось. Одна штука вспомнилась. Я ведь не тебя бил. Тебя-то мне за что бить? Ты больше ко мне не лезь: убить могу. Тебя теперь Настёнка спасла, а так бы - хана тебе. Я в такие минуты вроде больного - себя не помню.
- Я же в шутку... - всхлипнул Валька.
- Знаю, - Жан-Сабит осторожно привлёк его к себе. - Всё знаю, Купец. Только нельзя мне драться в шутку. Прости ты меня: уж такой я, другим не стану - пока, во всяком случае.
- Да ясно. Ты ведь не хотел, - сказал Валька.
- Ты мне, рыжий, теперь вроде брата, - искренне признался Жан-Сабит. - И Настя, как своя. Оба вы. Я человек тяжёлый, прямо вам говорю. Но если вы меня стерпите, я вам обоим потом помогу. У меня кроме вас никого нет.
Отворуев улыбнулся:
- Да куда же мы без тебя-то? Я с тобой, Иван, на веки веков повязан.
- Спасибо, - коротко ответил Жан-Сабит. - А ты, Настёнка?
- И я, - эхом отозвалась Настя.
Жан-Сабит был первый человек, который после смерти бабушки назвал её Настёнкой. Но он же был первый человек, который внушил ей бесконечный ужас - сегодня, сейчас. И говоря "и я", она лгала. Она не была уверена, что останется с тем, кто способен "себя не помня", убить, может, не только Вальку, но и её, Настю...
Она легла спать очень тихо, стараясь быть незаметной. Ей вспомнилось оружие в дорожной сумке Жана-Сабита. Заснула она только тогда, когда твёрдо убедилась, что и ОН спит.
На следующее утро всё было, как обычно, только на опухшего, в синяках Вальку было страшно смотреть. Жан-Сабит сказал после завтрака:
- Настя! Сгоняй за мороженым: тебе и Отворуеву. Мне не надо.
Настя взяла деньги и ушла. Жан-Сабит отправился в ванную бриться. А Валька сунул руку в карман своей куртки, чтобы посчитать, осталась ли у него мелочь... и наткнулся на какую-то бумажку. Он вынул её. Это была его фотография.
Он тупо уставился на неё.
Да, это была его фотография. Полгода назад он весело фотографировался на вечеринке у Толика Робого вместе с Михайлой Тверским и Индусом. Только тут их не было: было вырезано ножницами лишь его лицо.
Валька с удивлением уставился на свой карман: как там очутился этот снимок? И вдруг нехороший холодок пополз по его спине. Карман был вовсе не его, а Жана-Сабита: он перепутал куртки.
В кармане Француза была его фотография.
ЕГО фотография...
Белый, как полотно, Валька сжал снимок в кулаке. Раздался звонок, он открыл. Настя вошла в квартиру и протянула ему две порции мороженого.
- Спасибо. Я потом, - потерянно сказал Валька. - Ты положи на кухне...
- Что с тобой? - спросила Настя, вглядываясь в него.
- Нашёл у Ивана... вот - свою фотографию...
- У Жана-Сабита? - изумилась Настя. Оправившись от удивления, она шёпотом сообщила:
- У него ещё оружие есть! Разобранный автомат. Нож. И пистолет с патронами. Я сама видела, только не говорила никому. В дипломате лежат.
- Ор-ружие? - Валька подавился собственной слюной.
- Да! Бежим, Валька, а? Он же нас убьёт, точно тебе говорю, убьёт... Бежим.
Валька с усилием мотнул головой.
- Нет, Настёнка. Не могу. Я должен ему верить... Я слово дал.
- Тогда я под диван залезу, - сказала Настя. - Боюсь. Ну вас!
И, скинув куртку, нырнула под диван.
... Когда Жан-Сабит вошёл в комнату, он увидел, что всё в Вальке дрожит: и улыбка. и взгляд голубых, совсем ещё детских глаз, и руки, и всё его существо. Валька смотрел на него, не отрываясь.
- Иван... мой снимок - вот... почему у тебя?
И улыбался, дрожа всё сильнее и сильнее.
Жан-Сабит траурно посмотрел на него и ответил:
- Потому что меня наняли тебя убить.
- УБИТЬ?
- Да. Сядем?
Он сел на диван и усадил возле себя Вальку.
- Не бойся, Отворуев, с тобой уже всё решено. На' мороженое. Ешь. Я киллер. Работал на Боба Стржевского или по-нашему Стрижа три года. Убирал должников: предпринимателей. И свидетелей случалось. Ну, неплохо получал. И вот недавно даёт мне Боб эту твою карточку и говорит: "Француз, его убрать надо. Он видел, как замочили Робина, и самого Робина знал. А язык у него без костей, и он не наш, а так: корешится от скуки с моей братвой. Ну они, дурачки, его и взяли в Бологое - мол, прикроет их. Хрен им. Он всё видел и застучит их теперь, как дятел, а они у меня что дети родные. Его, подлеца, уже раз отстреливали, а он всё живой."
Я спросил: "Да сколько ему лет-то?"
"Шестнадцать", - отвечает.
"Нет, - говорю, - Боб, мне ни к лицу с детворой возиться."
"Знаю, - шепчет. - Так ведь свидетель-то он по Робину, а не по дяде Коле-дворнику. Или, по-твоему, Робин среди нас никто был? Ты с этим щенком по-быстрому как-нибудь. Умеешь ведь. Да и задаток вот, не обижу."
Ну, взял я задаток. Вычислил тебя. И понял, что не стану убивать. Не стану - и всё. Тут ещё Настёнка, как с неба, свалилась. Я ночью позвонил Бобу и сказал, что не буду больше у него работать. Выслал ему задаток. А он обещал, что других пришлёт убить тебя. Так я с тобой буду, Валька.
- Круто, - прошептал Валька Отворуев. - А ведь ты меня сто раз мог бы уже убить.
- Тебя - дело нехитрое, - согласился Жан-Сабит. - А с Настёнкой бы ещё проще. Где она?
- Под диваном. Боится тебя.
- Вылезай, - заглянул под диван Жан-Сабит.
Настя выползла на свет, встала, стряхнула пыль со спортивных штанов и, глядя исподлобья на Жана-Сабита, спросила:
- Как со мной проще?
- А вот так.
Он слегка нажал пальцами под её подбородком.
- Чуть сильнее - и всё.
- Так быстро? - не поверила Настя.
- Одна секунда.
Настя отвернулась и сказала:
- Я уехать хочу. Назад В детдом.
И заплакала.
Валька крепко обнял её.
- Настюха, да ты чё? Какой детдом? Ты жизнь мне спасла. А Жан-Сабит нам друг. Друг! Понимаешь?
- Нет! - Настя разрыдалась. - ОН мне не друг! Он вчера убил бы тебя, если б не я, а ты говоришь - друг!.. Уйду я от вас!
Она убежала в ванную и заперлась там.
- Жалко Настюху, - сказал, помолчав, Валька.
- Да, пожалуй, - Жан-Сабит встал. - Она права: друг из меня нынче плохой. Оставайтесь-ка вдвоём: вот деньги. А я уеду - мне есть, куда ехать. Прощай, Купец.
- Не уходи, - Валька загородил ему дорогу. - Пожалуйста, Иван! Пожалуйста...
Но тот уже собирал вещи. Пожал Вальке руку на прощание. Отодвинул его в сторону и постучал в дверь ванной:
- Я ухожу, Настёнка. Живи спокойно, больше не увидишь меня.
В ванной было тихо. Настя услышала, как закрылась входная дверь. Слёзы тотчас высохли на её глазах. Несколько секунд она сидела неподвижно, потом вышла из ванной.
- Зачем... ты выгнала его? - засопел Валька. - Нас ведь грохнут без него. Пропадём. Ты пойми. Пропадём!
Настя вспомнила лицо Жана-Сабита. Его глаза. Голос. Улыбку...
И вдруг, точно очнувшись, бросилась вон из квартиры, даже не накинув куртки.
Она догнала Жана-Сабита уже довольно далеко от дома и схватила за руку. Он обернулся. Она молча смотрела на него, застывая на морозном ветру.
- Что? - спросил он.
Слёзы брызнули из Настиных глаз. Он поднял её на руки. Она обхватила руками его шею и сказала, плача:
- Не уходи! Я просто глупая: забыла, что мы не можем без тебя. А тут вдруг вспомнила. Мы же тебя любим! По-настоящему. Ты ведь не будешь нас убивать?
- Нет, - ответил Жан-Сабит, вдыхая ветер.
Он принёс Настю домой. Увидев их, Валька заулыбался вспухшими губами.
Жан-Сабит разделся и сел на диван. Сказал:
- Ну, кто со мной - смотреть телевизор?
Валька тут же пристроился рядом, а Настя, робея, села с другой стороны. Жан-Сабит крепко обнял её. Она прижалась щекой к его груди и глубоко вздохнула. Когда фильм кончился, оба увидели, что Настя крепко спит, вся в жару, раскрасневшаяся и печальная.
- Простудилась, - вздохнул Валька.
Жан-Сабит уложил её на диване и накрыл одеялом. Сказал:
- Сейчас молока согрею. Ей и тебе. Кашель у тебя сухой: это плохо, Валька.
Настя болеет. Сидит с перевязанным горлом, худенькая, бесцветная, прозрачная.
Жан-Сабит ушёл на заработки: разгружать вагоны. Валька варит суп.
У Насти в руке сандаловый слонёнок и ферзь: Больная Царица Леопольд. Белая шапочка-корона чуть сползла с её круглой головы.
"Видишь, Анастасия, - говорит Царица, - что бывает, когда сбегаешь из дому и перестаёшь быть хорошей. Видишь?"
"Вижу, - отвечает Настя. - А у вас шапка сползла."
"Это не шапка, - возражает Царица с неудовольствием. - Это моя царицына корона. Отклеилась от головы. Ну и что. Её легко приклеить, а вот ты... Как вы допустили, Сандаловый Слонёнок, чтобы она полюбила этого безумного киллера с большой дороги, этого крещёного азиата с непотребным французским именем?"
"Се человек", - вдруг говорит Сандаловый Слонёнок неизвестно где и когда услышанные Настей слова.
"Вот-вот. Всё цитируете. А сколько он невинных душ загубил?"
"Он больше не будет, - отвечает Слонёнок.
"Откуда вы знаете?"
"А потому что вот он. Стоит на коленях - и голову склонил."
"Это же икона..."
"Ну да, он на иконе. А над ним светлый Архистратиг Михаил со сверкающим мечом... И говорит: каешься ли, раб Божий Иоанн?"
"Каюсь", - отвечает.
"Не ты ли российский царь убиенный?"
"Нет, Архистратиже святый, смерд я."
"Ну да Господь с тобою..."
"Прощён?" - удивляется Царица Леопольд.
"Прощён, - отвечает Сандаловый Слонёнок. - Но не до конца. Вылечиться должен. Спасётся."
"Напиши письмо матери, - шепчет Насте чёрная Царица. - Адрес-то есть у тебя, напиши. А я стану дикой негритянкой на кокосовом острове. "И любит их чёрная женщина с серебряными волосами". Слышала песню? Так это буду я, я..."
"Так вы будете любить?"- звенит Сандаловый Слонёнок.
"Любить", - звенит в ответ Царица Леопольд.
"Кого?"
"Маленьких негритят. И вообще - всех детей на свете... Всех, всех..."
Настя оставляет Слонёнка и Царицу. Она садится писать письмо.
"Мама, здравствуй. Ты спрашивала у директрисы, как я живу. Я тебе отвечаю - ничего. Она мне дала твой адрес. Хочу тебе сказать, что я уже не с приёмными родителями, а с совсем другими людьми. Пиши мне до востребования. Я получу. Как тебе в тюрьме-то? Мне на воле по-всякому, но зато не скучно. Я тебя, мам, совсем не помню, но ты мне пиши. Вопросы задавай. Ладно? Пока. Настя."
Она идёт на кухню к Вальке.
- Валь, у тебя конверты есть?
- В шкафу посмотри, - отвечает он. - Кому написала-то?
- Мамке.
- Правильно сделала. Мать есть мать. Хоть в тюрьме, хоть где. Сколько суп варится, Настёнка?
- Я сама прослежу, - говорит она. - Ты конверт мне дай. Соли-то не забыл положить?
Жан-Сабит возвращается поздно и приносит полную авоську персиков. Говорит:
- Разгружали их сегодня. Мойте и ешьте.
Он идёт принимать душ.
Валька моет персики, потом греет их в тёплой воде и только тогда даёт Насте, чтобы она не простыла ещё больше. Она ест с большим аппетитом. Отворуев тоже не отстаёт.
Жан-Сабит выходит из ванной. Настя подаёт ему ужин - сосиски с картошкой и салат из помидоров. Он ест, задумчиво глядя своими тёмными глазами на её круглую стриженую голову и голубой халатик.
- Устал? - сочувственно спрашивает Отворуев.
Француз молча кивает. Он не берёт Вальку с собой разгружать вагоны под морозным ветром, хотя Валька и просится. С таким здоровьем и в такую погоду Отворуеву нельзя работать. Дурачок, боится армии. Да кто его туда возьмёт? Окрепнуть ему надо; на юг бы его, к солнцу, к морю...
Он переводит взгляд опять на Настю. Спрашивает:
- Лучше тебе?
- Лучше, - отвечает Настя. - Чай будешь или кофе?
- Чай. Я сам налью, спасибо.
Он пьёт чай, потом говорит:
- Спать пойду. Завтра вставать рано...
В коридоре Настя цепляется за его руку и шепчет:
- Жан-Сабит! Возьми меня потом из детдома...
- Я? - он изумлён.
- Ну да, ты... а кто же?
Он смеётся:
- Не думал об этом. Но ты, пожалуй, права.
И поднимает её на руки. Она застенчиво упирается ему ладонями в плечи и настойчиво спрашивает:
- Возьмёшь?
- Возьму, - он целует её в щёку и ставит на пол. - Спать пойду, Настёнка, устал...
- Не забудешь? - беспокоится она.
- Нет, - он гладит ёжик её волос. - Не забуду. Спокойной ночи.
И проходит в комнату.
Наступает декабрь - туманный, морозный, снежный.
... Ночь. Жан-Сабит не спит. Ему вспоминается день, когда Боб отвалил ему особенную сумму за "антураж". Он тогда убрал предпринимателя Тонникова, как хотел этого Боб: Тонников лежал посреди кухни, и голова его была разнесена вдребезги разрывной пулей. На лице Жана-Сабита была чёрная шапочка с прорезями для глаз, а на руках - чёрные перчатки. Он уже снял всё это и сложил оружие в дипломат, собираясь покинуть квартиру, но тут в замке повернулся ключ. Он спрятался за вешалкой и увидел маленького сына Тонникова, который вернулся домой из школы.
Жан-Сабит твёрдо знал одно: мальчику нельзя входить в кухню. Он вышел из-за вешалки и быстро зажал мальчику рот рукой, после чего втолкнул его, онемевшего от неожиданности и ужаса в ванную, включил ему свет и процедил сквозь зубы:
- Сиди здесь! Будешь стучать - убью.
И запер дверь. Потом неслышно покинул квартиру и вызвал милицию, позвонив с улицы. Назвал адрес. Сказал:
- Там, в ванной ребёнок. Уведите сразу, чтобы не видел труп, прошу вас...
И нажал кнопку мобильника, прерывая связь.
Потом издалека, невидимый, он наблюдал, как подъехала милиция, а минуты через три вывели из дома мальчика. Его посадили в легковую машину и куда-то увезли... Жан-Сабит испытал огромное облегчение и отправился к Стрижу докладывать, что дело сделано.
Вспомнилась больница. Предстояло убрать свидетеля по делу об убийстве. Впрочем, свидетель сам был известен крайне неприглядными делами, за которые ни разу не был судим. Жан-Сабит тогда проник после "отбоя" в палату в белом халате и бесшумно всадил стилет в сердце спящему. Когда он собрался уходить, чья-то голова приподнялась над подушкой.
- Вечерний укол. Спать, - шепнул он голосом врача и выскользнул в коридор.
... Люди Боба уже, вероятно, напали на след Купца и скоро будут здесь. Что ж, ему есть, чем их встретить. Но какое было бы счастье, если бы всё решилось иначе! Как именно, он не знал, но ему слишком уж не хотелось ещё чьей-либо смерти даже ради спасения их всех.
Впрочем, это не помешает ему выполнить свой долг до конца.
Он уткнулся лицом в подушку, вспомнив, как один из убитых им за три года людей долго не хотел умирать даже после контрольного выстрела в голову. Он твердил, залитый кровью:
- Дети... у меня... дети...
И полз куда-то с четырьмя пулями - в голове и в сердце. Тогда Жан-Сабит добил его. Бил чем попало, со всей силы. полный какого-то суеверного ужаса, жалости, тоски и отчаяния. Бил, пока тот не затих, уже совершенно не похожий на человека.
Убитый был владелец казино и сам многократный убийца, но тем не менее дрожь пробрала Француза при воспоминании об этом. Он знал, что эти воспоминания когда-нибудь придут и обступят его, но не думал, что они явятся все разом: яркие, как цветное кино на видеоплёнке, - и стиснут его память железным кольцом.
"Дети, у меня дети", - твердил в его сознании хриплый голос. Он стиснул зубы. Про себя крикнул: "Да заткнись ты!" И съёжился в тоске. Убитые им теперь выстроились в ряд. Он видел лицо каждого из них. Рядом с ними белели призрачно скорбные лица их жён, детей, матерей...
Жан-Сабит не выдержал: ушёл в кухню и включил свет. Выпил коньяка. Закурил. А мозг, как серебряный молоток в музыкальной шкатулке, отсчитывал покаянные молитвы с каким-то весенним лёгким звоном над его изнемогающей душой. Внутри была тишина - мёртвая. А за окном была чёрная мёртвая ночь.
Испарина выступила на его лбу. "Помилуй, Господи", - прошептал он, сжимая голову руками.
И Господь помиловал. Вошла заспанная Настя, шаркая маленькими шлёпанцами, в незастёгнутом халате. Спросила:
- Чего ты всё не спишь?
Он посадил её на колени и прижал к себе. Она спросила сквозь дрёму:
- Хочешь, стихи расскажу? Какие знаю?
И стала читать стишок за стишком, словно накладывая целебный бальзам на измученное сердце, - монотонно, спокойно, про что-то светлое: про траву, цветы, солнце, дождь...
И Жан-Сабит успокоился. Призраки отошли от него, он положил окурок в пепельницу и сказал:
- Спасибо, Настёнка. Пошли теперь спать.
- Тебе легче?
- Конечно. Ты меня вылечила.
Настя улыбнулась.
- Правда? Ну тогда пошли...
Они ложатся спать и засыпают. Жану-Сабиту ничего не снится.
Валька Отворуев берёт немного денег. Француза нет: он сегодня разгружает в ночь. Настя читает купленную ей Французом толстую книгу. Там "Остров сокровищ", "Всадник без головы" и "Пятнадцатилетний капитан". Она не может оторваться.
- Пойду позвоню Маркелу, - говорит ей Купец.
Настя молча кивает, не поднимая головы. Книга совершенно захватила её.
Валька уходит из дома. На улице темно, но "Телеграф" и "Телефон" ещё работают. Валька быстро проходит до них два квартала, покупает жетоны и забирается в пустую телефонную кабину.
Он набирает номер, жетон проваливается.
- Здравствуйте, Саша дома? - спрашивает Валька. Маркела зовут, и Маркел подходит к телефону.
- Здорово, Купец, - говорит он. - Ты когда вернёшься?
- А что? - Валька вставляет ещё один жетон.
- Да... ничего, - отзывается Маркел, но голос у него при этом какой-то напряжённый и виноватый.
Валька настораживается.
- Маркел, - произносит он, невольно сжимаясь в комок, точно в ожидании удара. - Что случилось? Ты скажи... ты не бойся...
И рука его, держащая трубку, вдруг потихоньку начинает дрожать.
Тогда Маркел тускло роняет:
- Мать умерла... твоя...
- Когда? - спокойно спрашивает Валька, а рука его дрожит всё сильнее.
- Неделю назад. Уже похоронили.
- Ясно, - говорит Валька. - Ну пока, Маркел. Спасибо.
И вставляет ещё один жетон.
- Ты не расстраивайся, - бормочет Маркел. - Ты приезжай... я тебе помогу... мы с матерью поможем...
- Да, - говорит Валька. Его рука совсем уже не может держать трубку, а в груди постепенно скапливается тёмное, тяжёлое чувство. Он уже не слушает, что говорит ему Маркел. Вешает трубку. Выходит на воздух. Бессильно опускается на обледеневшую скамейку под голубым фонарём.
Ему вдруг представляется дикая нелепость: развесёлый купец из иллюстраций к стихам Некрасова; в смазных скрипучих сапогах, в чёрном атласном жилете - на приказчика похож - и с золотыми часами на цепи. Он помахивает ими и спрашивает Вальку: что? Раскрали всё?
Раскрали, отвечает Валька и чувствует себя маленьким, точно в машине у дяди Миши.
И мать украли, говорит купец. Часы-то ладно, а вот мать живая душа.
Ей теперь хорошо, отвечает Валька и видит: мать в платочке и стареньком пальто стоит рядом с купцом.
- Хорошо тебе? - спрашивает он вслух.
Она кивает. Улыбается ему. Исчезает... И купец исчезает. Валька поднимается со скамейки, покупает бутылку водки и возвращается. Он пьёт: сначала бесчувственно. Потом вдруг окаменевшая душа его точно пробуждается. До него вдруг отчётливо доходит: мать умерла, и он никогда её больше не увидит. Кроме как ТАМ. А есть ли это - ТАМ?
- Есть, - шепчет Валька, и слёзы текут по его щекам.
Сунув бутылку в карман, он идёт домой. Звонит в дверь. Настя открвает ему - и застывает, онемев. Тихонько спрашивает:
- Валя... ты чего?
- Мать умерла, - он вытирает рукавом слёзы. - Я, Настя, это... во дворе посижу... один. Мать помяну. Она БЕЗ МЕНЯ умерла. Понимаешь? А я у неё один был.
Настя ничем не может его утешить.
- Пей здесь, - предлагает она наконец. - Дома!
- Нет, - он мотает головой. - Во дворе... да я сейчас приду. Ты не бойся. Не могу дома. Задыхаюсь.
И он уходит куда-то в морозную ночь.
- Господи, - шепчет Настя. - Пусть с ним ничего не случится. И Жана-Сабита-то ведь нет. Господи... что ж это? Ведь он на всю ночь ушёл. Это точно.
Её опасения сбываются. Валька исчезает. В час ночи его нет.
Одевшись, она спускается во двор и не находит его во дворе.
Тогда Настя возвращается и на всякий случай пишет записку Жану-Сабиту: "Жан-Сабит! У Вальки умерла мать. Он напился и ушёл. Я тоже ушла его искать, а то пропадёт ведь. К утру вернусь. Настя."
И она покидает квартиру, заботливо погасив везде свет.
Она деловито и сосредоточенно блуждает по тёмным улицам, маленькая, невзрачная, неприметная. Вальки нигде нет. Да и вообще никого нет. Попадаются временами тихие пьяные бомжи - и только.
Вздыхая, Настя глядит на небо. Оно всё в прозрачных тучах, сквозь которые мерцают ледяные звёзды. И куда это Валька запропостился?
Вскоре она оказывается на автовокзале. Кроме двух таксистов там никого нет. Сам вокзал заперт. На скамейке возле крыльца сидит большая девчонка в кожаной куртке и чёрных брюках: сидит и плачет.
На всякий случай Настя подходит к ней и спрашивает:
- Девочка, ты пацана не видела: рыжий, лет шестнадцати, пьяный?
- Нет, - девчонка шмыгает носом. Голос её звучит еле слышно. Фонарь озаряет её очень бледное несчастное лицо, наверно, обычно красивое, но только не теперь.
Насте становится её жаль. Она садится рядом. Спрашивает:
- Ты что плачешь?
- Да так, - отвечает странная девочка. - Я Птица Феникс: сгораю, потом возрождаюсь из пепла.
Несколько секунд Настя добросовестно осмысливает это заявление, потом спрашивает:
- Сколько тебе лет?
- Девятнадцать.
- А мне ещё одиннадцать. Настей зовут. А тебя?
- Таня.
- Татьяна, - Настя задумывается. - У нас в детдоме тоже Татьяна Сергеевна была. Злая, как чёрт. Так чего ты плачешь?
- Славка мой уехал, - Таня всхлипывает. - Мы познакомились. Ну и решили поехать куда-нибудь вместе. Тут вышли, он привёз меня сюда на автобусе. Говорит: поживём три дня в гостиннице. Я говорю, ладно. Оставила ему вещи, пошла мороженое покупать. Прихожу: ни его, ни вещей... ни денег... только документы при мне остались.
Она снова заплакала.
- И давно ты тут сидишь? - сочувственно спросила Настя.
- Вторые сутки. Не знаю, что делать. Ждать, не ждать? Извелась вся.
- Деньги-то чьи были?
- Мои, почти все...
- Тогда не ждать, - сказала Настя.
Лицо Тани исказилось.
- Он же ... меня любил...
И она разрыдалась, закрыв лицо руками. Длинные русые пряди волос скрыли её пальцы.
Настя смотрела на неё и думала: не он. а она любила. И вот теперь плачет.
- Ты бы ехала домой, - посоветовала она Птице Феникс. - Может, он там.
- Денег нет, - ответила Таня. - Ни копейки. И вообще, плохо мне...
- Денег тебе мой брат даст, - сказала Настя. - Пошли к нам. Всё лучше, чем тут сидеть.
- А ты разве не брата искала? Рыжего? - шмыгнула носом Таня.
- Это средний. А деньги старший даст, он под утро придёт. Он и не пьёт никогда. Да и средний - только сегодня; горе у него.
- И у меня горе, - вздохнула Таня.
- Пошли к нам, - настойчиво повторила Настя. - Не пожалеешь.
Они медленно побрели через весь город: Настя молча, Таня, всхлипывая, почти больная от слёз.
Дома Настя поит Таню чаем и угощает бутербродами с сыром. Таня жадно ест и плачет. За множество бессонных часов её лицо всё опухло от слёз. Глаза, красивые от природы, теперь похожи на щёлки и едва глядят. Она рассказывает Насте про то, как они со Славкой хотели пожениться. Любили друг друга. И вот...
В семь часов утра приходит Жан-Сабит.
- Это ещё кто? - спрашивает он, глядя на девушку со спутанными светлыми волосами и точно набухшим лицом.
- Это Таня, - объясняет Настя. - Птица Феникс. Сгорает и возрождается. Я искала Вальку, а нашла её. Понимаешь, у Вальки мать умерла. Он напился и ушёл куда-то. Я весь город ночью обошла - нет его!
И она тяжело вздохнула.
Таня тем временем почувствовала невольный страх перед Настиным "братом". Она встала и сказала ему:
- Вы извините... я уйду сейчас... я...
И не договорила. За неё стала всё объяснять Настя. Таня молча смотрела в окно. Жан-Сабит заглянул ей в глаза:
- Ты, Птица Феникс, чего-то хорошо приняла. Я угадал?
Вместо ответа она вытащила из кармана пачку таблеток.
- Вот. ЛСД. Это я с горя...
- Давно принимаешь?
- Второй раз.
Жан-Сабит сунул ЛСД себе в карман. Спросил:
- Давно не спала?
- Почти две ночи и день.
- Иди спи. Сначала в ванную, косметику хотя бы смой. А потом спать - на диван у стены. Хватит над собой издеваться.
Она умоляюще сложила руки на груди.
- Ты меня пока не трогай... Ладно? Я посплю, а потом договоримся.
- Нужна ты мне, - сказал Жан-Сабит. - И потом, и сейчас. Иди в ванную, хватит базаров. От слёз не глядишь совсем. Спать тебе надо.
Он приносит ей чистое полотенце. Таня послушно и боязливо скрывается в ванной.
- Так что, Настёнка, - Жан-Сабит гладит Настю по голове. - Загулял, говоришь, Отворуев?
- Загулял, - вздыхает Настя.
- А ты так и не спала, бедная?
- Что я бедная! - она машет рукой. - Валька вон бедный... и эта Таня...
- Ну вот что, - говорит Жан-Сабит. - Купца я найду. Ложись спать и ни о чём не беспокойся.
- А Таня?
- Тоже ляжет, не маленькая. Спи, тебе никто не помешает. Я прослежу.
Настя отправляется спать. С наслаждением вытягивается под тёплым одеялом. Ещё раз вздыхает о Вальке и погружается в сон.
Таня выходит из ванной с мокрыми волосами, вся влажная, как русалка, размякшая и печальная, завернувшись в свою куртку, длинную, как полупальто.
Жан-Сабит даёт ей свою чистую рубашку и говорит:
- Сними ты это и надень пока моё. Так и ложись в рубашке. Никто тебя не тронет. И смотри не буди мне Настю: ребёнок всю ночь не спал.
- Я тихонько, - шепчет Таня. Идёт в комнату. Ложится там, где ей сказано, и засыпает почти мгновенно с открытым ртом. Такой находит её Жан-Сабит, заглянув через несколько минут в комнату.
"Так и есть, "Теремок", - шутит он про себя. - Мышка-норушка, лягушка-квакушка и волк-зубами щёлк. Где-то ещё наш зайчик-побегайчик? Пойду искать, что ли..."
Он одевается и уходит - снова на мороз, в раннее пасмурное утро. Нельзя, невозможно бросить Отворуева. Хоть из-под земли, но его нужно достать, пока он, пьяный, не замёрз где-нибудь.
Жан-Сабит умеет искать и находить: его прежняя работа подразумевала наличие этих двух качеств. Не проходит и часа, как он натыкается на Вальку, спящего в каком-то дворе, прямо на снегу, возле детской песочницы. У Вальки восковое лицо, он едва дышит, и пульс едва прощупывается. Сон его больше походит на глубокий обморок. Руки без перчаток (он по своему легкомыслию редко их надевал) ледяные, белые и точно деревянные.
Француз вызывает такси и везёт Купца домой.
Дома он раздевает Вальку и тщательно растирает его спиртом, пока вся кожа не розовеет, и становится ясно, что обморожений нет. Валька приходит в себя и силится что-то произнести, но едва шевелит губами и снова засыпает. Жан-Сабит кладёт его на раскладушку, на которой до сих пор спал сам: Валькин диван заняла Птица Феникс. Валька дышит ровно, весь он постепенно теплеет; гибель ему уже, вероятно, не грозит.
Придя к такому выводу, Жан-Сабит идёт в ванную, чтобы, наконец, принять душ. До невозможности усталый и сонный, он возвращается в комнату и вдруг понимает, что все спальные места уже заняты и лечь ему негде. Он уже решает устроиться на полу в кухне, как вдруг просыпается Настя и шепчет ему:
- Жан-Сабит! Ложись ко мне, а то тебе некуда...
Он с облегчением ложится.
- Спасибо, Настёнка. Завтра поменяемся. Если Таня эта не уйдёт, мы с Отворуевым её переселим на раскладушку, а сами будем спать на диване вместо неё.
- Он хоть живой? - Настя с глубокой жалостью глядит на Вальку.
- Живой. Проспится, будет, как новый, - Жан-Сабит закрывает глаза. - Спи, золото моё. Тоже ведь устала.
- Да, - уже сквозь сон соглашается Настя.
Через минуту в комнате полная тишина, только слышно, как дышат спящие.
Наутро все четверо сидят за столом и едят то, что приготовил Жан-Сабит. Купец бледен и тих, ест он с трудом. Таня выспалась, вид у неё стал человеческий, но вместе с тем к ней полностью вернулось сознание того, что она в чужой квартире, брошенная и обманутая любимым человеком, без вещей, без денег... Она уже не плачет, но держится крайне скованно и не поднимает глаз от тарелки. Рубашка Жана-Сабита сидит на ней, как халат до колен. ЛСД ей уже не принять. Приходится своими силами преодолевать великую печаль души.
Настя ест с аппетитом, как, впрочем, и Жан-Сабит.
Первая заговаривает Птица Феникс:
- Вы знаете... мне надо уехать. Домой. Помогите мне, если можете. При мне паспорт... Запишите, где прописана. Я верну деньги.
- Возвращать не надо, - отвечает Жан-Сабит. - Денег я дать могу. Только к кому ты поедешь?
- К бабушке, - тихо отзывается Таня.
- А родители где?
- На юге. Они всегда на юге. Папа... и его жена. Женя. Чуть старше меня. Там её родственники.
Губы у Тани дрожат. Француз пристально смотрит на неё, потом предлагает:
- Пойдём в кухню, поговорим.
Она послушно идёт за ним. На кухне он спрашивает её:
- Что будешь делать, когда вернёшься? ЛСД принимать?
- Не знаю, - шепчет Таня. - Славка...
Глаза её наполняются слезами.
- Забудь о нём, - жёстко говорит Жан-Сабит. - Слышишь? Он тебя "обул", кинул и свалил. Я тебя не удерживаю, не подумай. Просто тебе сейчас нельзя расклеиваться. Мой тебе совет: переживи своё горе здесь. Позвони бабушке и посиди здесь хотя бы неделю.
- Тесно будет, - замечает Таня.
- В тесноте да не в обиде. Поговорку знаешь? Мы все трое никто друг другу, а вот судьба взяла и свела нас вместе. Мне просто не хочется, - он смотрит в сторону, - чтобы ты села на наркотики. Ты из какого города?
- Из Питера, - вздыхает Таня.
- А мы все из Т.. Я тебя не удерживаю, как ты решишь, пусть так и будет. Помни одно: погибнуть ты всегда успеешь, а вот выжить...
Он умолкает.
- Я поживу здесь неделю, - соглашается Таня. Она отлично понимает, что если вернётся к бабушке, то непременно запьёт с горя или действительно станет наркоманкой. Но ведь это никуда от неё не убежит. Перебороть свою печаль ей будет легче на чужих людях. Если не удастся, она, конечно, уедет.
Её большие серые глаза смотрят на Жана-Сабита. Волосы распущены по плечам. Во всей её неприкаянной фигурке чувствуется надломленность, усталость и одиночество. Она, точно цветок, сорванный и брошенный на дороге случайно, чьей-то небрежной рукой. Жан-Сабит вдруг понимает, что в этой девочке больше нет надежды - и, может, никогда уже не будет... Ему становится бесконечно жаль её.
Теперь они живут вчетвером. Таня спит на раскладушке, Настя на своём диване, а Жан-Сабит с Отворуевым - на другом диване. Он шире Настиного, старый и скрипит.
Валька стал тихим и молчаливым. Француз запретил ему пить, и Валька подчиняется. Но он почти ничего не ест, не говорит и не делает - всё валится у него из рук.
Ночью они с Жаном-Сабитом иногда разговаривают, и Валькины слова надрывают душу тому, кто совсем ещё недавно был бездушным, вернее, стремился быть таким.
- Иван, - спрашивает Купец. - Ты убивал. Как думаешь, больно умирать?
- Кому как, - кратко отвечает Жан-Сабит. - Думаю, ЕЙ больно не было.
- Почему? - с надеждой спрашивает Валька.
- Потому что, наверно, очень быстро. Раз - и душа свободна.
- Да, - шепчет Валька, закрывая глаза и чувствуя, как из-под век ползут слёзы. Он вытирает их, потом утыкается лицом в подушку. К утру ему обычно становится легче и удаётся заснуть.
Однажды ночью Жан-Сабит просыпается оттого, что Валька плачет. Его тело вздрагивает еле ощутимо, но это колебание будит Жана-Сабита. Сейсмограф его души улавливает это движение, и он кладёт Вальке руку на плечо.
- Не плачь, - говорит он ему тихо. - Ей не было больно. А если ты думаешь, что остался один, то это чушь. Ты поедешь со мной в Т., будешь хорошо зарабатывать. Это здесь мне пока приходится вагоны разгружать, чтобы сэкономить деньги, а дома... Уж поверь, я и сам прекрасно устроюсь, и тебя устрою.
Валька вздыхает и засыпает, слегка утешенный другом.
Теперь Француз часто берёт его с собой на работу, потому что знает: чем сильнее Купец физически вымотается, тем скорее притупится его горе и тем лучше он будет спать. Валька действительно возвращается с разгрузок едва живой и начинает приходить в себя на глазах: крепко спать, больше есть, чаще улыбаться. Он постепенно становится прежним Отворуевым: но точно повзрослевшим, не таким бесшабашным весельчаком, как до сих пор.
Хорошо было бы так же привести в порядок и Птицу Феникс, но выясняется, что она ничего не умеет. Ни стирать, ни гладить, ни толком мыть пол и даже посуду.
- Круто, - вырывается у Жана-Сабита, почти восхищённого такой полной её неспособностью ни к чему. - Настя! Научи Таню всему, что умеешь: это тебе пионерское поручение.
Настя добросовестно учит, а Таня не менее старательно учится. В трудах она начинает потихоньку забывать своё горе. Проходит неделя, но уезжать домой ей не хочется.
- Кто за тебя всё делал дома? - смеётся Жан-Сабит.
- Бабушка...
Когда у Тани что-нибудь не получается, она едва не плачет.
- Не всё сразу, - утешает её Жан-Сабит. - Мы же тебя не эксплуатируем. Просто самой же легче, когда руки чем-нибудь заняты. Это закон.
- Да я от работы и не бегу, - гордо отвечает на это Таня. - Просто жалко, когда не получается.
От Насти Таня узнаёт, что Жан-Сабит - недавний киллер, который порвал со своим прошлым. Таня потрясена, но полученная ею информация её не пугает. Напротив, Жан-Сабит кажется ей ещё более загадочным, чем до сих пор, и даже больше к себе привлекает.
Когда они с Настей остаются вдвоём, Таня гадает:
- Что с тобой будет, Настюшка? Вот Валя и Жан-Сабит вернутся домой. А ты?
- Я тоже вернусь, - говорит Настя. - Жан-Сабит меня удочерит.
- Он ведь неженатый. Кто ему даст тебя удочерить?
Эти слова заставляют Настю задуматься. А ведь правда, одинокому Жану-Сабиту её не отдадут. Не те в детдоме порядки. Не принято там такое.
Настин пытливый ум ищет и находит выход.
- Слушай, Таня, - вдруг говорит она. - Выходи замуж за Жана-Сабита.
- Ты что, - пугается Таня.
- А что? - Настя удивлена. - Он тебе не нравится?
- Да ведь я его совсем не знаю. Я у вас всего-то неделю с лишним живу... ну две.
- Я зато его знаю, Танечка, миленькая, - Настя заглядывает ей в глаза. - Он чудо. И ведь красивый.
- Красивый, - краснея, соглашается Таня. - Но ведь этого мало... чтоб вот так... замуж...
- Если что, разойдётесь потом, - Настя с надеждой смотрит на Таню. - Ну? Давай я тебя посватаю? Он согласится, вот увидишь. Мне бы только из детдома выбраться... Ну Танюшечка!
- Хорошо, - решительно соглашается Таня. - Давай! Только если он откажет, я буду переживать.
- ОН откажет? Ничего он не откажет, вот увидишь.
- А вдруг он меня потом бросит?
- ОН? Да ни за что он тебя не бросит! Если только сама не уйдёшь...
Две девочки робко заходят в кухню, где сидит в одиночестве Жан-Сабит. Настя ведёт за руку Таню. Останавливается перед Французом и решительно предлагает:
- Жан-Сабит! Возьми Таню замуж. Иначе тебе меня из детдома не отдадут.
Таня стоит с опущенной головой, боясь поднять глаза.
Жан-Сабит молча смотрит на них обеих - ласково на Настю и чуть насмешливо на Таню, потом обращается к Насте, стараясь не рассмеяться ( так его забавляет вся эта сцена):
- Таню - замуж? Это идея. Действительно, мне могут тебя не отдать... без Тани.
Таня краснеет. Жан-Сабит смотрит на её простенький халатик и стройные ноги без тапочек, в шерстяных носках. Торжественно объявляет:
- Я согласен.
- Я тоже, - еле слышно говорит Таня. Потом вдруг с мольбой просит:
- Можно, я пока уйду?
- Постой, - останавливает её Француз. - Кто же будущих мужей боится?
- Я, - Таня с тоской смотрит на него.
Он, наконец, от души смеётся.
- Таня, да это же просто фиктивный брак. Чего ты боишься? Венчаться мы с тобой не будем, просто зарегестрируемся в загсе. Видишь ли, Настю нужно обязательно забрать из детдома. Я обещаю тебе полную неприкосновенность!
- Нет, - вдруг возражает Таня. - Зачем неприкосновенность? И венчаться бы тоже...
И тут же пугается:
- То есть, да, конечно.
Жан-Сабит улыбается, внимательно глядя на неё.
- Спешить нам некуда, - замечает он. - Там посмотрим. Главное, мы пришли к соглашению, верно?
- Верно, - волнуется Таня.
- Значит, сговор состоялся, - Жан-Сабит подмигивает Насте. - Что ж, это надо отметить.
... Они сидят за столом и пьют лёгкое, но очень вкусное десертное вино - сангрию. Насте тоже налили немного. На столе горят розовые новогодние свечи.
Валька пьёт с наслаждением.
- Вкусно? - спрашивает его Жан-Сабит.
- Во, - Отворуев поднимает большой палец.
- А ты думал, только водка на свете существует?
- Ну её, гадость, - Купец морщится. - Не напоминай. В жизни её больше пить не буду. Не дай Бог! Вот это буду пить.
- За наш сговор! - Жан-Сабит поднимает стакан. Бокалов и рюмок в квартире нет, но стакан в руке Жана-Сабита - всё равно, что рюмка или бокал.
Таня тоже поднимает свой стаканчик. Она понимает, что Жан-Сабит не влюблён в неё и, может быть, никогда её не полюбит, но он верный друг и навсегда останется таким! Ей становится чрезвычайно легко и тепло на душе. В её движениях появляется какая-то счастливая уверенность. Она больше не опускает глаз; она больше не несчастна!
Настя видит это и в восторге чокается со всеми своей чашкой. Ей весело оттого, что все они здесь не знают больше печали и так дружно и красиво празднуют сегодня.
- Я всегда буду вас любить! - говорит она Жану-Сабиту и Тане. - Я УЖЕ очень вас люблю.
Они дружно пьют. Француз снова всем наливает.
- За мою сестру, - он с нежностью глядит на Настю. - И за брата, купца новгородского.
- За тебя, Валька, - радуется Настя.
Валька смущён и растроган. За него пьют впервые.
- Спасибо, - говорит он. - За меня ещё не пили никогда. Только лупили все, кому не лень. Таня, ты очень красивая. И Ивану подходишь. А он - тебе. Да... - он вздыхает. - А за меня, наверно, никто никогда не пойдёт. Дохлый я. Некрасивый.
- Подожди, я вырасту, так пойду, - решительно возражает Настя.
- Ты что? Всерьёз? - Валька даже бледнеет от волнения.
- Я всегда всерьёз, - Настя делает крупный глоток.
- Еще один сговор, - смеётся Жан-Сабит. - Вот так тебе, Купец!
Валька расцветает, как роза, даже черты его лица точно преображаются.
- Правда, ждать тебе долго, - заботливо вздыхает Настя. - Я раньше шестнадцати замуж не пойду. Вредно для здоровья.
- Да я хоть сто лет подожду, - отвечает счастливый Валька.
- Четыре года не шутка, - роняет Жан-Сабит, пытливо глядя на Купца.
- Я подожду, - повторяет Валька с такой твёрдой и ясной уверенностью в голосе, что за столом наступает тишина. Таня вдруг обнимает его и крепко целует в щёку.
- Ты молодец, - говорит она. Голос её звенит. Она быстро делает глоток, чтобы не разреветься - слишком уж всё здорово и красиво. Три свечи празднично горят на столе. И в каждом сердце - покой и улыбка...
Ночью Настя лежит на животе и думает. Ей не спится. На душе светло, чисто и тихо, как в деревенской горнице у бабы Нины.
Ей представляется вдруг Царица Леопольд в её апельсиновом платье с блёстками, а рядом с ней покачивает хоботом Настин Слонёнок - только в натуральную величину, как в Африке или в Индии.
" Как вы выросли, Слонёнок, - устало молвит Больная Царица. - Вы ещё не были таким большим. Наоборот, я в бытность свою чёрной королевой по прозвищу Ферзь, была чуть выше вас. Жаль только, что вы деревянный."
"Сандал - дерево драгоценное", - отвечает Слонёнок.
"Это верно, и всё же... Повлияйте на Анастасию, мой друг: она вас слушает. Она, глядите-ка, пьёт вино, собирается замуж и... подумать страшно, до чего докатилась. Сегодня Кольчихина, а через четыре года Отворуевой станет. Нет, это из рук вон..."
Слонёнок смущён.
"Ну что вы, Царица, - наконец возражает он. - Отворуевы - старинный и почтенный купеческий род. Кольчихины так все крепостные были. Баба Нина говорила. А вино слабенькое, вроде сока. И вку-усное! Жан-Сабит толк в винах понимает. Он уж, наверно, какой-нибудь казахский хан. У них там ханы или кто?"
"Ханы! Паханы у них, - отвечает Царица, - У всех этих уголовников. Я имею в виду организованную преступность".
"Нет, Царица, вы не правы. Это в тюрьме паханы, а у казахов точно ханы... или кто? Короче, восточный дворянин. Благородно!"
"Все они тут дворяне, - едко говорит Царица. - И эта девушка. Кто она? Что она? А туда же: замуж через три дня после знакомства. Тоже княгиня? Волконская-Болконская... Знаю вас. Вы их дурости и мерзости потакаете. А ведь они отребье: наркоманка, убийца плюс мальчишка-подзаборник. Про Кольчихину уж и не говорю - родства не помнит".
"Нет, это было красиво, - с улыбкой возражает Слонёнок. - Тёмная комната. Свечи. Сангрия. И все абсолютно счастливы, потому что любят друг друга."
Царица молчит, не зная, что ответить. Разводит руками. Ускользает в туманную дымку. Засыпает Настя...
- Знаешь, Жан-Сабит, - тихонько говорит Настя однажды утром. - А у меня день рождения сегодня. Двенадцать лет исполняется.
- Отлично, - Жан-Сабит доволен. - Что ж, пошли гулять. Может, подарок найдём.
- С тобой? Гулять? - Настя хлопает в ладоши. - Вот здорово! Пошли, пошли!
Француз объявляет Тане и Вальке:
- У Насти день рождения. Мы с ней немного погуляем, а вы думайте, что подарить. Идёт?
- Да! - пламенно отзывается Валька, не сводя нежного взгляда с Насти.
- Ага, - подтверждает Таня. - Непременно.
Жан-Сабит и Настя выходят на улицу.
Они идут по маленькому городу, дыша влажным воздухом декабрьской оттепели. Садятся в автобус и едут куда-то...
- Куда мы едем? - спрашивает Настя.
- Увидишь, - отвечает Жан-Сабит.
Они приезжают в соседний городок и заходят на почту. Жан-Сабит спрашивает в стеклянном окошечке письмо для Анастасии Кольчихиной. Ему протягивают его. Он подаёт письмо Насте.
- Получите. Вам лично.
Настя широко раскрывает глаза:
- От кого это?
- А от кого ты ждёшь?
- Мама? - тихо спрашивает Настя. - Это от мамы?
- Да, - говорит Жан-Сабит. - Пойдём теперь в кафе. Там прочтёшь.
Они заходят в кафе. Настя садится за свободный столик и, пока Жан-Сабит что-то покупает, раскрывает конверт. Читает:
"Настёнушка, здравствуй.
Получила от тебя письмо, не знала, куда деваться от радости. Ревмя ревела. Что про тюрьму-то говорить: несладко в ней. Я рада, что тебе хорошо. С кем же ты, если не с приёмными родителями и не в детдоме? В компании, наверно. Ты выбирай людей, доченька, а то втравят тебя куда-нибудь, потом не развяжешься. С кем ты? У тебя скоро день рождения, поздравляю тебя. Я ведь ни от кого писем не получаю. Десять лет не видела тебя и ещё год не увижу. Что делать - сама виновата! Ты мне пиши, Настёнушка, а от тюрьмы Боже избави всех - и врагам своим её не желаю. Нечего писать про неё. Целую. Мама."
Настя вытерла ладонью невольно выступившие слёзы.
Жан-Сабит поставил перед ней кусок торта, мороженое в вазочке и чай. Спрашивает:
- Что мать пишет?
- Год ей ещё сидеть, - прошептала Настя и заплакала. - Жан-Сабит! Удочеришь меня, так, может, съездим к ней? Я хоть повидаюсь.
- Съездим, - отвечает Жан-Сабит. - Да ты не плачь: письмо от матери получила. Радоваться надо.
- Я радуюсь, - говорит Настя. - Честно, радуюсь. Только вот - плачу...
Потом она ест мороженое и кусок торта, а Жан-Сабит пьёт бренди. Он смотрит сквозь стеклянные двери кафе на влажные деревья, небо и поставленную возле какого-то кинотеатра ёлку.
Они идут к ёлке. Там ледяные горки, их ещё не коснулась оттепель, и Настя катается на куске фанеры вместе с другими детьми. Жан-Сабит смотрит на неё. Она лазает по ледяным башням и стоит там наверху, похожая почему-то на дочь древних скандинавских вождей - хёвдингов. Она совсем невелика ростом: ей не дашь двенадцати лет. Но в ней изящество, ловкость, неутомимость.
Она прыгает на руки Жану-Сабиту.
- Хочешь в кино? - спрашивает он.
- Там теперь всё глупости, - она машет рукой. - Пошли лучше на зимние аттракционы.
... И вот они катаются на машинках. Настя за рулём. Машина вертится под ней, как корабль, севший на мель. Подростки с хохотом то и дело налетают на них. Жан-Сабит прекращает это бессмысленное вращение, и они едут, наконец, как все люди. Теперь машина почему-то слушается Настю.
- Ты умеешь водить? - спрашивает она. Он кивает.
- Ты, наверно, всё умеешь, - с уважением говорит Настя.
Они пару раз съезжают с американских гор и едут домой на такси.
... Дома Настю встречает роскошно накрытый стол, большая роза (это, конечно, от Вальки) и пара настоящих белоснежных коньков!
- Ура, - шепчет Настя, потрясённая видом всех этих несметных богатств. По очереди обнимает Таню и Вальку. Немедленно примеряет коньки и гордо сообщает:
- А ведь я умею кататься! Когда у Леопольдовны жила, каждый день на каток моталась...
Потом все садятся обедать. Настя сияет. Она нюхает розу, не выпуская ложки из рук, и вдруг говорит:
- А представляете, мне мамка ответила! С зоны. Год ей ещё остался.
Её слёзы капают прямо в огромный красный цветок, как в чашку.
- Садись, - Жан-Сабит смотрит на неё. - Сейчас мы выпьем за тебя! И за твою маму тоже.
Канун Нового года.
У окна стоит маленькая ёлочка, украшенная всем, чем только можно.
Таня не спит. Насте с Валькой хорошо: их пушкой не разбудишь, и они ещё маленькие. А ей, фиктивной жене, и даже пока ещё не жене что делать? Славку вспоминать? Славка - гад, о нём и думать нечего. А Жан-Сабит, кажется, не просто её, Таню не любит, а терпеть не может. Ему, конечно, не девочка-дурочка нужна, а женщина, так сказать, с большой буквы. Вся такая из себя...
Не зря он попросил Таню с её диванчика перебраться вместе с Настей на другой диван, где сам он до сих пор спал с Отворуевым; Купца "распределил" на раскладушку, а Танин диван забрал себе на кухню: мол, ему так удобней и вообще уюта больше. И ночует теперь там! А она спит теперь, несчастная Птица Феникс, рядом с Настей, и слёзы текут по её щекам. Скоро Новый год, а ей - хоть в гроб ложись. Таня вспомнила, как говорила по телефону с бабушкой: "Ба, всё хорошо. Ты не волнуйся". Всё, конечно, и правда хорошо, жаловаться не на что. Она сыта, одежду ей хорошую купили. Никто не обижает. Только кому она тут нужна, неумеха? Была бы хоть человек интересный, а то ни два, ни полтора. То-то Славка её и бросил. Да ещё "обул" по полной программе: мол, что с такой дурой церемониться? Поиграть с ней в любовь, обокрасть и бросить - найдёт, куда деваться, не маленькая. Добрые люди подберут. Тоже попользуются. Тоже выкинут. На что другое она ещё годится? Только на это, чтобы её постоянно обманывали. И это, наверно, правильно...
Таня глотает слёзы. И вдруг видит: дверь отворяется. Жан-Сабит входит в комнату. Склоняется над ней. Спрашивает:
- Спишь?
- Сплю, - шмыгает носом Таня.
Он дотрагивается пальцем до её щеки.
- Пойдём.
- Куда?
- Ко мне. К НАМ. Я ведь диван для нас с тобой переставил. Или не хочешь?
- Не знаю, - шепчет Таня, опуская голову.
- Значит, хочешь, - он тихонько смеётся. - Приходи. Я буду тебя ждать...
Через несколько минут она входит в кухню, робкая и неуверенная. Заправляет волосы за уши.
- Ну, иди сюда, - говорит он. - Глупая: лежит и плачет... Видишь, я тебя зову, значит, всё хорошо.
- Ты меня бросишь, - шепчет Таня, садясь на диван. - Я не та, которая тебе нужна.
- Ты очень много говоришь, - он обнимает её за плечи. Она послушно умолкает и чувствует: печаль уходит от неё прочь...
Утром Таня сидит за столом, прозрачная, как солнечный хрусталь. Её голос звенит, и от неё исходит сияние, которое проницательная Настя замечает сразу. У Жана-Сабита лицо, как всегда, непроницаемое, но оно словно омыто изнутри, и взгляд изменился - стал мягче и спокойней.
"У них произошло ЭТО, - говорит себе Настя. - Даже ОН чуть-чуть другой. Ах, как хорошо. А Валька ничего не замечает". Она вспоминает розу - Валькин подарок. Но она не уверена, что не разлюбит его. Не уверена, что любит вообще. Просто он славный парень. Добрый. Но разве мало других, не хуже? Да, может, он ещё и врёт - разлюбит её, как миленький. Четыре года ждать. Охо-хо... Это не всякий сможет.
Настя задумчиво глотает чай и вспоминает Валькину розу. Ну и роза была! Да. Этакую розищу подарили однажды только Царице Леопольд - на день рождения. Настя тогда смотрела и завидовала - что вот у кго-то праздник, и дарят цветы.
Счастливые люди склонны забывать о тех, кто рядом с ними. И Таня, конечно, забыла бы о Насте с Валькой, потому что в сердце её царил только Жан-Сабит. Что чувствовал Жан-Сабит, неизвестно, но он ни на минуту не забыл про тех, кто доверился его защите и покровительству. Он всё так же брал с собой на работу Вальку, играл в шахматы с Настей и смотрел вместе с ними телевизор, только теперь у него на коленях иногда сидела Птица Феникс, прижавшись щекой к его плечу.
Они встетили Новый год с мандаринами, тортом и шоколадом. Под ёлочкой лежали маленькие подарки: двенадцать штук, каждому по три. И ёлка светилась огоньками, и горели свечи, и пенилось над стаканами шампанское...
Потом Настя крутила самодельную рулетку: и кому выпадал определённый номер, тот брал подарок с этим номером: так играли в детском доме. Подарки были мелкие: ручки, фломастеры, шоколадки и всякая подобная чушь - они не могли позволить себе больше. Но каждый оставался очень доволен, тем более, что подарками можно было меняться.
После они сидели за столом и рассказывали друг другу о самых счастливых днях своей жизни. Настя вспомнила, как собирала малину с бабой Ниной, когда ей было года четыре. В белой косынке и пёстром коротком платьице она походила на крапивную бабочку. Ей хотелось, чтобы вышел медведь, но вдруг появился лось: огромный, как скала, с красивыми рогами. Он долго смотрел сквозь листву на маленькую девочку, потом ушёл, медленно переступая стройными ногами, похожими на стволы молодых деревьев...
Настя закрыла глаза. Ей вспомнился зной, аромат малинника, шуршание сухих веток под её красными резиновыми сапожками, толстый чёрный уж с золотой коронкой на голове, дремлющий в корнях старого пня, и серебристые ящерки. "Настёнка, - зовёт баба Нина. - Иди сюда, малины-то больше тут, крупной наберёшь..."
- А у меня был счастливый день, - начал Валька, - когда я мамку сначала потерял, потом нашёл. Совсем был малой. Потерялся в магазине. Хожу, реву. Кричу:"Мама, где ты?" Не отзывается. Тут я решил, что она меня бросила, что надоел я ей. До чего мне страшно стало - даже пот прошиб. Тут какой-то мужик подгребает - страшный! - и говорит мне: что, мать потерял? пойдём поищем. А я ору: "Я с тобой не пойду", - и в прилавок вцепился, не отодрать. И тут вижу, мамка идёт. Сама плачет, что я потерялся - магазин-то большой. Я к ней кинулся: "Мамочка, ты меня не бросай, я тебе пригожусь ещё!" А она меня на руки подхватила и уже смеётся сквозь слёзы... Я был тогда счастливый.
- А я сейчас счастливая, - говорит Таня. - Как будто проснулась. До этого всё точно во сне жила, себя не помнила. А сейчас - так мне классно, лучше не бывает.
- Я буду счастлив, когда всё хорошо закончится, - монотонно, чуть прикрыв глаза, говорит Жан-Сабит. - Когда все мы, живые и здоровые, вернёмся домой.
За окном бухают выстрелы хлопушек, ракет и петард.
Они одеваются, выбегают во двор и тоже палят из хлопушек. А потом Настя, как зачарованная, смотрит на искрящуюся россыпь бенгальских огней, воткнутых в снег.
Под утро, когда все засыпают, она лежит на диванчике и говорит Сандаловому Слонёнку: "Грустно, когда праздники кончаются".
"Но ведь твой самый главный праздник впереди", - отвечает Слонёнок.
"Это когда меня заберут?"
"Да. Ты будешь жить, как принцесса в королевском замке".
"Скажешь тоже. Какая из меня принцесса - под нулёвку стриженая?"
"Такая, - говорит Слонёнок. - С красной розой в руках. Валька так тебя любит, что ты непременно превратишься в красную розу. Твоё платье будет шуметь складками у щиколоток, ты будешь отвечать английскому принцу: "No, sir..." - и смеяться, смеяться. И аромат цветущей липы будет благоухать в твоей душе, как в палисаднике у бабы Нины..."
- Я не хочу разлюбить Вальку, - шепчет Настя. - Но он рыжий и некрасивый. На ворону похож.
"Он маленький мальчик, - говорит Слонёнок. - От него навсегда ушла мама. Он держит тебя в своих мыслях, как красную розу, и если роза завянет... понимаешь, он так мал и одинок, что он заплачет, и лепестки полетят на землю."
"Я хочу его любить, - шепчет Настя. - Я не хочу быть увядшей розой..."
"Слушай, как шумит твоё старинное платье, - шепчет Сандаловый Слонёнок. - Любить - это значит любить, и больше ничего. Люби, люби его! Слышишь: ночь поёт вам колыбельную? Скоро ты узнаешь, какая чистая душа Валька Отворуев. И, может, вы разойдётесь потом, но перед этим вы узнаете всё..."
Узнаем всё, засыпая, думает Настя. Только бы его не убили...
Теперь она часто катается на коньках. Валька Отворуев ропщет, что не может сопровождать её, но Француз с ним строг и даже суров:
- Нечего тебе на улице делать. В магазин или ещё куда - другой разговор, а гулять... Забыл, что под прицелом ходишь? Это Насте ничего не будет, а ты у нас личность известная, поэтому сидишь под домашним арестом. Ещё нагуляетесь, будет время.
Купец не спорит, но умоляет Настю:
- Настёнка, ты недолго, а? Там холодно сегодня. Тебе, конечно, гулять надо, я понимаю. а то бы в карты сыграли. Или в домино.
- Сыграем, - смеётся Настя. - Всё бы тебе, Валька, меня удерживать.
- Да я же тебя люблю, - Валька краснеет до корней волос. - Я не могу без тебя долго. Понимаешь?
- Понимаю, - Настя беззаботно натягивает шапочку перед зеркалом. - Всё, я поскакала. Не скучай тут. Телек, вон, посмотри.
Валька тяжело вздыхает и садится смотреть хоккей. Больше ему ничего не остаётся, хотя, в общем-то, хоккей он очень любит, особенно прямые трансляции НХЛ.
Настя обычно катается в своём дворе, но с недавних пор ей полюбился соседний корт. Там настоящий лёд, и мальчишек с клюшками так мало, что они совсем не мешают ей. Она упоённо скользит по ледяному полю, удивительно ловко держась на ногах.
Однажды вечером, когда она садится на скамейку, чтобы потуже затянуть ослабнувший шнурок на коньке, к ней подходит паренёк - смуглый, рябой и жуёт жвачку. Ему лет пятнадцать.
- Привет, - говорит он.
- Привет, - отвечает Настя.
- Классно катаешься, - он садится рядом. - Ты пацан или девчонка?
- Девчонка.
- Меня Димкой зовут. Далеко живёшь?
- Нет, недалеко, - Настя смотрит на Димку. Глаза у него тёмные и совсем неуловимые, тих взгляд совершенно скрыт.
- А у меня коньков нет, - он вздыхает. - Ты интересная девчонка. Как тебя зовут?
- Настя.
- Жвачку хочешь? На.
Она разворачивает фантик и суёт в рот кубик зелёной жвачки.
- Спасибо.
- Ты домой? Пошли, провожу.
- Я сама дойду, - отвечает Настя.
- Как знаешь, - отвечает он. В его голосе покорность и одиночество. Насте становится его жалко.
- Ну проводи, - соглашается она.
- Пошли тут, срежем угол, - предлагает Димка.
Они идут по тёмному двору, по освещённой фонарём снежной тропинке.
Вдруг Димка машет кому-то рукой.
- Кореш, - объясняет он Насте. - Мне ему пару слов надо сказать. Со вчерашнего дня его ловлю. Свернём на секунду? Всего два слова, а то опять его потом не доищешься.
- Давай, я тут подожду, - говорит Настя.
- Да пойдём! На щенка его глянешь: щенок у него маленький прикольный. Толстый такой - атас. Ньюфаундленд.
- Ладно, пошли.
И Настя идёт за Димкой к одному из подъездов.
Там действительно "кореш": бритый, с порезанной щекой.
- Здорово, - он пожимает Димке руку и испуганно шепчет:
- Хана! Сивый ползёт: шесть лет отсидел, прячемся. Увидит - коньки у девчонки отберёт.
Он толкает их обоих под лестницу, за деревянную дверь.
Дверь тут же запирается.
При тусклом свете лампочки Настя видит подвал. Кругом трубы, а вниз ведут ступени. Человек пятнадцать подростков сидят и лежат на деревянных ящиках, сдвинутых вместе. Под одной из труб с вентилем лежит спортивный школьный мат.
Настя вопросительно смотрит на Димку и его "кореша" и тут же внутренне содрогается. Таких диких и хищных ухмылок ей ещё видеть не доводилось. Так улыбаются обколовшиеся наркоманы или "отморозки" - с дегенеративным выражением бессмысленного превосходства на лицах.
Здесь у всех такие лица.
- Да у нас гости, - говорит кто-то снизу. - Ты иди к нам, девочка, иди, не обидим.
- Я пойду домой, - отвечает Настя.
В ответ раздаётся дружное ржание десятка глоток.
- Домой? - парень в рваной "кожанке" отделяется от других. - Домой тебе ещё рано. Мы ещё не познакомились. Дима, Саша! Помогите ребёнку спуститься - а то ведь она в коньках.
Её хватают под мышки и за шиворот, волокут вниз и швыряют на мат. Настя впервые видит людей, с которыми нельзя договориться. У них мёртвые пустые глаза и улыбки манекенов. Кругом валяются бутылки, презервативы, шприцы, пачки из-под сигарет.
"Боженька, золотенький, - молится она про себя, закрыв глаза. - Спаси меня, вытащи... Я вернусь в детский дом... Валька..."
Среди скопища этих гнусных лиц некрасивое лицо её Вальки кажется ей теперь вдруг полным сияния, духовной силы и красоты. Она плачет.
С неё стаскивают куртку и коньки. Тянут за свитер. Она не даётся - и получает удар по лицу. Тогда она сама бьёт кого-то ногой. С неё остервенело срывают колготки.
- Я первый буду! - визжит кто-то, зажимая ей ладонью рот. Она вырывается с нечеловеческой силой, бежит к двери, стучит в неё и пронзительно кричит:
- Жан-Сабит!!! Валька! По-мо-ги-те!
Её снова волокут вниз, снова швыряют на мат, снова бьют. Две девицы хищного вида, грязные и запущенные, выкручивают ей руки за спину, несколько жадных "корешей" срывают с неё одежду. Рот ей уже обмотали скотчем, кричать она не может...
И тут происходит чудо. Дверь распахивается от удара ногой. И на пороге вместе с холодным ветром появляется Жан-Сабит. У него в руке пистолет с глушителем. Свора подростков кидается врассыпную, как стая крыс. Он ловит их и скидывает с лестницы, разбивает им зубы, носы, подбородки. Всё это делается молча. Кровь льётся рекой: облезлые стены все забрызганы ею.
Спустя минуту кругом становится пусто.
Жан-Сабит осторожно сдирает скотч с Настиного заплаканного, в крови, лица. Кое-какая одежда на ней ещё осталась. Он одевает её, во что ещё может одеть, заворачивает в свою куртку, натягивает коньки на её босые ноги и выносит из подвала на воздух.
Над своей стриженой головой Настя видит звезду. Ей представляется красная роза в простенькой совдеповской вазе, длинной, как прозрачная голубая труба.
Она шепчет, поджимая голые ноги в коньках:
- Валька! Пусть Валька не узнает...
- Я их с Таней в кино отправил только что, - говорит Жан-Сабит. - Решил: пусть развлекутся, ничего. Как знал, что с тобой такое будет... А сам пошёл сигарет купить. "Кэмел" только на перекрёстке продаётся... знаешь? Ну, купил. Иду. Срезаю угол. Вдруг слышу: ты кричишь. Ох, Настюха, как повезло тебе! Сто молитв прочти, потому что ты чудом спаслась. Понимаешь? Чудом.
- Понимаю, - Настя беззвучно плачет. Плечо Жана-Сабита мокро от её крови и слёз. Ей кажется, что её длинной красной розе очень больно и холодно стоять в вазе. А вместо неё качает головой Больная Царица Леопольд: "Что же ты, Анастасия? Ведь ещё не такие ловушки обходила, горе ты луковое. Хитрей лисы была. А сегодня... если б не Иван, изувечили бы тебя сегодня... или даже убили бы."
... Она не помнит, как Жан-Сабит умывает её, заставляет надеть халат и новые колготки, чтобы скрыть царапины и синяки на случай, если Таня и Валька вдруг рано вернутся. Она смотрит в зеркало: лицо в кровоподтёках, губы разбиты, нос распух и щёки тоже.
- Валька... - с тоской говорит Настя. - Всё равно спросит, откуда.
- Я не косметолог, - отвечает Жан-Сабит. - А спросит, объясню ему. Ты в голову это не бери, с тебя хватит на сегодня.
Он сажает Настю на колени, и она ещё долго разглядывает его пистолет. Смотреть можно, только нельзя ничего нажимать и дёргать.
- Ты всегда его с собой носишь? - спрашивает Настя.
- Всегда, - отзывается Жан-Сабит. - Вы тут развлекаетесь, а я гостей жду со дня на день - от Стржевского.
Настя молчит. Она знает, что страшнее, чем сегодня в подвале, ей уже нигде и никогда не будет.
- Жан-Сабит, - она вцепляется в его рубашку. - Я тебя очень, очень люблю! Можно, я спать раньше лягу? Чтобы Валька моего лица не видел?..
- Сначала я тебя чаем напою, - говорит Француз. - С конфетами. А Валька всё равно завтра тебя увидит. Ничего, замнём. Не переживай, ладно?
Она старается не переживать. Но ей без конца представляется подвал, страшные, лишённые выражения одурманенные лица, школьный мат и шприцы. "Куда у них делась душа?"- спрашивает Настя сама себя. Она точно помнит: души в глазах этих ребят не было. Совсем. Они все походили на смерть, хотя ходили, дышали, говорили... Что же творилось в это время с их душами? Наверно, то же, что бывает и с её душой, только иначе - великая печаль над бездной.
Когда Настя засыпает, ей снится, что она снова в детском доме - и кормит ёжика в живом уголке. Дети поют что-то хором под музыку, а Борька Санаев снова перечитывает письмо от отца - он редко получал письма и всегда по сто раз перечитывал их.
Весь следующий день Валька так изумлён видом Насти, что даже ничего у неё не спрашивает. Сама Настя молчит. Таня, предупреждённая Французом, ведёт себя, точно ничего не случилось.
Долго так продолжаться не может.
- Насть, кто тебя так? - улучив момент, спрашивает, наконец, Валька.
- Подралась вчера, - лаконично отвечает Настя.
- С кем?
- Да так.
- С КЕМ? - в голосе Купца появляется несвойственный ему металлический оттенок.
- Купец, - Жан-Сабит входит в комнату. - Ты, брат, извини, но говорить об этом не нужно.
- Я хочу знать, что было вчера, - в голосе у Вальки прежний металл. - Кто её так?
- Слушай, Валька, брось. Что бы там ни было, все своё получили: я об этом позаботился.
- Мне этого мало, - роняет Валька. - Я тоже хочу "позаботиться".
- Мало ли чего ты хочешь. В целях твоей безопасности, я не разрешаю тебе сегодня покидать дом.
- Это не твоё дело, а моё, - тут же ощетинивается Валька. - Тебе что... У тебя Таня есть. А у меня Настюха только. И ты не вмешивайся. А то...
- А то? - Жан-Сабит складывает руки на груди и становится похожим на Онегина. - Внимательно тебя слушаю.
- А то драться с тобой буду.
- Ты со мной уже дрался. Забыл, чем кончилось?
- А, силой хвалишься? - Валька щурится. - Ну тогда я вообще ухожу отсюда, и пусть меня пристрелят. Все вы тут сильные, крутые... ну и оставайтесь, давайте... вперёд и выше... и без вас проживу.
- Нет! - Настя кидается к нему на шею. - Не бросай меня, Валька. Жан-Сабит же меня вчера защищал. Ты только обещай, что никуда не пойдёшь - и мы тебе всё, всё расскажем. Честно. Ведь ты мне розу подарил. Обещаешь?
- Обещаю, - говорит угрюмо Валька, глядя в сторону.
Ему всё рассказывают. Он слушает, потом говорит:
- Эх, меня не было там... уж я бы...
Но сидит смирно - слово надо держать. Только скулы ходят ходуном.
Остаток дня он угрюмо молчит, забившись в угол, ничего не ест и ни с кем не разговаривает.
Вечером Настя подходит к нему, целует его в щёку и шепчет:
- Валька, Валька! Жан-Сабит же меня спас, а ты сердишься. Он и тебя спасёт. Он нас любит. А я тебя ни на кого никогда не променяю: ты самый лучший, ты мой, ты больше ничей.
И плачет.
Валька крепко стискивает её в руках, и они долго сидят вместе, прижавшись друг к другу.
Перед сном Валька виновато, боком подходит к Жану-Сабиту. Подаёт ему руку, не глядя в глаза. Говорит:
- Прости, Иван. Спасибо тебе. Ты... не сердись на меня. Я бы всё равно не ушёл от вас, ты же знаешь. Просто жаба задавила, что меня с тобой вчера не было, и я им не врезал. Очень хотелось. Обидно. Короче, я не сразу понял, что ты лучше меня всё знаешь...
- Да ладно, - Жан-Сабит хлопает его по плечу. - Понял, не понял. Моё дело вас живыми вернуть домой. Иначе плохой из меня киллер.
Через несколько дней в газете Таня случайно читает коротенькую заметку: "В городе Т. выстрелом в упор убит местный "авторитет" Борис Стржевский..."
Она не дочитывает и бежит с газетой в кухню к Жану-Сабиту:
- Смотри, Иван!
Жан-Сабит внимательно читает всё с начала до конца. Его слегка раскосые глаза вспыхивают. Он крепко целует Таню и набирает номер на мобильнике.
- Добрый день. Горлова позовите. Кто спрашивает? Француз.
И через минуту:
- Здорово, Жучок. Стриж - твоя работа?
- А, Сабитжан, - на том конце провода смех. - Да. Дорожку он мне перешёл, кот чёрный. А я, как баба суеверная. Нервы не выдержали. Послал к нему "мальчика-ассистента", и все дела. Хватит с нас этого безбожника, Царство ему Небесное. Или ты по нему слёзы льёшь? Так переходи ко мне; я знаю, ты работник редкий. Сколько у Боба получал? Я больше дам.
- Нет, Саня, я пас. Я и у Боба уже не работал. Другим теперь занимаюсь. Помнишь, грохнули Робина?
- Помню. Мелкое дельце. И что?
- Стриж тогда "заказал" свидетеля - Купец кличка, ему всего шестнадцать. Ну, мы до сих пор с ним и скрываемся, гостей ждём. Отмени "заказ", Жучок: чего мальчишку трогать...
- Да это ясно, только сам понимаешь - я исполнителей не знаю. Вот что: постарайся их увидеть раньше, чем они тебя, и скажи, чтобы Горлову позвонили. Только успей это сделать, а то у Стрижа ребята быстрые. И рассчитайся с ними за "отмену" этого Купца. Короче, "давай лавэ' ". Хватит там у тебя?
- На это хватит.
Жан-Сабит благодарит Жучка и прощается с ним. Он всем своим существом, как зверь, чует, что ребята Боба Стржевского уже совсем близко - и только авторитет Горлов может их остановить...
Проходит несколько тревожных дней, и он, наконец, едва ли не сталкивается с ними на улице. Он хорошо знает этих людей. Их двое, они одеты в чёрные куртки, в руках у них спортивные сумки - конечно, с оружием. Они не замечают его, но явно напали на след, потому что движутся к дому хозяйки квартиры - должно быть, выяснить, на квартире ли ещё "братья".
Жан-Сабит молнеиносно исчезает из их поля зрения и спешит домой. Он, как тень, ныряет в подъезд и влетает в квартиру. Говорит:
- Купец, иди-ка сюда. Дело есть.
Валька, сердцем чуя неладное, бледнеет и спрашивает:
- ОНИ?
- Они. Только ты спокойно. Вот тебе "макаров" на всякий случай. Я буду следить за ними через оптический прицел, а ты, Настёнка, иди им навстречу; их двое, они высокие, оба в чёрном и у обоих спортивные сумки. Ты поймёшь, что это они. Скажи им пару слов.
И он говорит оробевшей Насте, что нужно передать тем, кого она увидит и узнает.
Спустя несколько минут она вырастает на дороге у "киллеров": маленькая нескладная девочка, бледная от волнения. Окликает их:
- Привет от Стрижа! Француз передаёт. Дяденьки, позвоните Горлову, он просил.
Киллеры останавливаются и внимательно смотрят на неё. Один из них приближается к ней и вдруг ловко выворачивает ей руку за спину:
- А ну говори, Купец на месте?
- Горлову сначала позвоните!
- Что нам твой Горлов, мы его не знаем...
- Знаете, - морщась от боли, возражает Настя. - Он Стрижа "заказал", и Француз ему уже звонил - отменять "заказ" на Купца...
"Дяденьки" быстро переглядываются между собой. Один из них достаёт из кармана мобильник и набирает номер.
- Жучок, это Чейз. Да, Красный со мной. Верно, как всегда. Мы тут идём, никого не трогаем, а нас просят тебе позвонить. Кто просит? Да вот, Рыспаев пацана подослал или девку - "отмена", мол. Да? Понял. А забошлять кто будет? Француз? Через кого?
Он выслушивает ответ и даёт телефон Насте:
- Поговори с дядей Сашей.
- Я слушаю, - говорит Настя.
- Ты девочка? - спрашивает голос в трубке.
- Да, Настя.
- Так вот, Настя: возьми у Сабитжана столько, сколько тебе напишут на бумажке, и тут же принеси им. Смотри, делай всё быстро. Тогда они повернутся и уйдут. Поняла?
- Да.
- Действуй.
Ей сунули в руку бумажку, и она опрометью бросилась в дом, задыхаясь от волнения.
- Жан-Сабит! У нас столько хватит? Хватит?
Жан-Сабит молча передал ей небольшой кейс. Она стрелой полетела обратно. Киллеры взяли у неё кейс и бегло, но очень внимательно просмотрели его содержимое. Вероятно, они остались довольны, так как один из них спросил Настю:
- Мороженое любишь? На, купи себе, - и протянул ей завалявшийся в кармане доллар.
- Передай привет Французу от Чейза и Красного, - продолжал он. - Скажи: с вашим Купцом всё в порядке. Мы теперь на Жучка будем работать - хорошие условия предлагает.
И они удаляются прочь, оставляя Настю одну, с гулко бьющимся сердцем, около скамейки во дворе.
В это время Жан-Сабит следит за каждым их движением в оптический прицел автомата. Если они сделают хотя бы несколько шагов к дому, он убьёт их обоих. Таня и Валька, свидетели всего происходящего, боятся только за Настю. Лишь один Француз твёрдо знает, что именно Насте ничего не грозит.
Когда Красный с Чейзом уходят, а Настя бежит домой, Жан-Сабит кивает Тане, и та облегчённо вздыхает, шёпотом поясняя Вальке:
- Пронесло.
Валькино лицо вспыхивает и розовеет от счастья. А Жан-Сабит молча и размашисто крестится, всё ещё не спуская глаз с автомата.
Через полчаса все четверо уже ужинают, как ни в чём ни бывало. Только Купец ещё не до конца пришёл в себя после пережитой им смертельной опасности. Он с недоверием глядит на пистолет Макарова. Чего он никогда не умел, так это стрелять.
У Насти уже другая курточка. От прежней после сцены в подвале мало, что осталось - только море лебяжьего пуха. Настя вырезала из неё ножницами слова "Jesus life!" и аккуратно пришивает эту полоску ткани к своему дорожному рюкзаку: ведь ей, как и всем остальным, скоро возвращаться в Т..
Ей страшно не хочется в детский дом. Но - что поделаешь.
И вот: билеты уже куплены, вещи собраны, завтра день отъезда.
Жан-Сабит сажает притихшую Настю к себе на колени и говорит:
- Запомни и не забудь: почти полгода ты проживёшь в детдоме. Не давай себя удочерить. Терпи всё, что терпела раньше: так надо. Я не буду писать тебе, Валька с таней тоже, и видеться мы не будем. И ты не будешь знать, где мы и что с нами. Пока в один прекрасный день мы не приедем за тобой. Делай вид, что не знаешь нас. Говори: не хочу к ним. Три раза скажи, а на четвёртый согласись. Поняла?
- Поняла, - отвечает Настя.
- А главное, ВЕРЬ, что мы придём за тобой. Это будет в мае. Слышишь: верь и не сомневайся.
- Да, - отвечает Настя.
Она прижимается к Жану-Сабиту и долго-долго сидит так, глядя на Вальку, Таню и их маленькую комнатку, где они столько пережили вместе. На сердце у неё невыносимо тяжело, как будто от неё отрывают что-то сокровенное, бесконечно близкое и родное.
Тук-тук-тук... Стучат колёса скорого поезда. Настина подушка мокра от слёз. Завтра она должна будет проститься с теми, кого так полюбила, - на целых четыре месяца.
"Не плачь, - говорит Насте Сандаловый Слонёнок. - Разве ты не знаешь, что Жан-Сабит всегда держит своё слово? А в тюрьмах сидели даже по тридцать лет".
"Чему вы учите Кольчихину? - спрашивает Слонёнка железная заклёпка в стенке купе с лицом Царицы Леопольд. - Тридцать лет они вовсе не сидели, а вели подкопы, перестукивались и вообще чего только не творили... ну кто так отбывает срок наказания?"
"Граф Монте-Кристо", - отвечает Слонёнок.
"Она останется на второй год, - говорит Царица. - Вот и весь вам граф. А разве я не хотела ей добра? Только и твердила ей: "Кольчихина, я тебе добра хочу". Так ведь до неё не доходит."
"Меня у тебя не отберут, - доверительно шепчет Слонёнок Насте. - Не плачь, я останусь с тобой."
... На следующий день они с Таней, рыдая, обнимаются на перроне. Валька с трудом сдерживает слёзы. Настя целуется с ним и с Жаном-Сабитом и, уходя, слышит вслед:
- Помни! В мае жди нас - мы придём за тобой...
Она возвращается в детдом - странно пустой, тихий и до мелочей знакомый. Поднимается по лестнице.
Сталкивается с Анной Леопольдовной.
- ТЫ?! - восклицает потрясённая директриса, хватая её за руки.
Настя молчит, опустив голову.
С этого момента "все воды и волны" проходят над её головой, как над маленьким морским ёжиком.
Её кормят, поят. Конечно, ругают. Отбирают вещи. Снова отдают. Анна Леопольдовна плачет. Кричит, что всегда хотела ей добра. Татьяна Сергеевна сурово спрашивает её, где украденные деньги.
- Немножко у меня, - отвечает Настя. - Остальные проела.
Её показывают, как зверёныша в зоопарке, её приёмным родителям. Они сообщают ей, что отказываются от неё. На неё сыпится град упрёков и горьких жалоб. У неё требуют уцелевшую часть денег, украденную метрику Кости Долгих и сандалового слонёнка.
Она бесприкословно отдаёт деньги и свидетельство о рождении. Потом говорит:
- Слонёнка не отдам, - и крепко сжимает его в кулаке. - Деньги отработаю, а слонёнка не отдам.
Её оставляют в покое...
Потом, конечно, два дня кладовки. Настя лежит на матрацах и твердит про себя, как заклинание: Жан-Сабит велел всё терпеть. Они придут в мае. Они заберут её.
Гулять её отпускают только во двор и палисадник. Она подвергается подробному осмотру врача. Каждый день Анна Леопольдовна читает ей длинные лекции о неблагодарности и недальновидности. Её ставят всем в пример, как пропащую. Обещают ей специнтернат. Но переписку с матерью позволяют продолжать: может, хоть это её образумит.
И она пишет в недетском, полном бунта и боли отчаянье:
"Мама!
Я знаю, что в тюрьму посадили не меня, а моё сердце. Я любила неправильных людей, но я правильно любила. А правильных людей невозможно любить. Они делают всё не так. Они не дарят мне красных роз, не говорят со мной о том, что я люблю. Мама, они хотят мне добра. А я хочу к тебе. Или в поле - бежать сквозь колосья ржи... Кругом был бы туман, как в бане. Баба Нина мочила бы в котле берёзовый веник. У неё в бане жил банник, баннушка, так она его называла. Он в войну спрятал там деда от фашистов. У деда-то оружие было несданное. Немцы его зашмонали и пошли искать деда. А дед залез на полок и просит: баннушка, хозяин ласковый, спрячь. Те вошли в баню, а из печки вдруг как запалит - огонь, дым... Ну, они все прочь. Дед потом вылез, весь чёрный, в копоти, и кланяется - спасибо, хозяин, не выдал меня молодого-семейного. Это баба Нина клятвенно взаправду рассказывала. Мол, дед потом молился в избе Богородице - помнишь, говорили, оклад-то ещё твой дядя делал с благословения? Ну, молится и говорит: Помяни, Пречистая Дева, баннушку - спас от окаянных. Хоть он лукавому и не враг, а божье дело сделал - пущай, мол, ему зачтётся. Вот, мамка, смешно как бывает: и за домового помолишься. В церкву я хочу, мамка, свечку за бабу Нину поставить, а ещё за сына Анны Леопольдовны (это не директрисы, а из другого века), за царя Ивана. Если у вас церковь есть, поставь, мам, за Ивана, за деда и за бабу Нину. Я б сама поставила, только я беглая, меня дальше двора не пускают.
Прощай, целую, Настя."
Татьяна Сергеевна, вечный цензор и цербер, читая Настино письмо, вдруг неожиданно для самой себя по-детски расплакалась:
- Ох, не могу больше... - и не стала дочитывать. Отправила адресату - в тюрьму. Её вдруг коснулась печаль Настиного сердца, и читать чужие письма ей в этот день представилось невозможным. Так она и отправила все детские письма непрочитанными.
... Когда весенними вечерами Настя бродит между чахлых кустов смородины, рядом с ней иногда ходит Борька Санаев - и она рассказывает ему всё, всё...
Борька человек просвещённый, ему всё известно.
- Робый тоже мокрушник был, - шмыгая носом, говорит он с важностью. - А твои-то придут за тобой, не грусти. Я вон смотри: бумажник "обул" у чувака, это тебе не хухры-мухры. Хочу скопить бабок к "выходу". Меня ведь через год из детдома - в общагу. Эх, и нагуляюсь тогда! На тебе десятку, Настюха: купи себе конфету, что ли...
Настя берёт десятку. Потом они с Борькой читают в двадцатый раз письмо, которое он получил когда-то давным-давно - от отца, конечно.
... На следующее утро Борьку забирает милиция: по подозрению в краже. И опять ругается Татьяна Сергеевна, и плачет Анна Леопольдовна, а в школе учителя дружно обещают Насте "второй год".
Она молчит. Она знает: всё это нужно вытерпеть.
Когда наступает долгожданный май, Настя теряет покой. Она становится неуправляемой и всё чаще проводит время в кладовке с сандаловым слонёнком, поджав под себя ноги, как бедуин.
Она не слушает и не слышит, что ей говорят. Она живёт одним сплошным ожиданием.
И вот однажды её вызывают к Царице Леопольд.
- Так вы настаиваете именно на этой девочке? - спрашивает за дверью голос Татьяны Сергеевны. - Она у нас самая трудная. Впрочем, я вам про неё уже всё рассказала. Анастасия, пришла? Иди сюда.
Настя с неистово бьющимся сердцем заходит в кабинет и видит Жана-Сабита и Таню.
"Я ВЕРИЛА!!!" - хочется ей закричать. Но она молчит.
- Тебе предоставляется последняя возможность попасть в достойную семью, - сухо говорит Татьяна Сергеевна. - Что ты на это скажешь?
- Конечно, я скажу "нет", - надменно отвечает Настя, еле сдерживаясь, чтобы не зареветь.
- Нет, вы посмотрите на неё! - всплёскивает руками Анна Леопольдовна. - Да ты обо мне хоть раз подумала, Кольчихина?
- Какое-то время я думала о вас постоянно и даже с вами разговаривала, - как в бреду, отвечает Настя. - Вы были Царицей.
- Прекрати балаган! - в голосе Татьяны Сергеевны плохо скрытое раздражение. - Ты пойдёшь с этими людьми?
- Нет, - отвечает Настя, вспоминая красную розу и сангрию в красивой бутылке. Потом вспоминает подвал и отвечает:
- Ни за что.
Она подумала, что отказалась три раза, как ей велел Жан-Сабит. Значит, теперь можно потихоньку соглашаться.
- Упрямая девчонка, - Татьяна Сергеевна краснеет от гнева, как помидор.
- А я думаю, ей у нас понравится, - говорит Жан-Сабит, глядя на Настю смеющимися глазами. - У нас ей будет весело, как и должно быть. Ну, Настёнка! Соглашайся.
Нельзя, конечно, сразу кидаться ему на шею. Надо, как говорят, "спускать на тормозах". И Настя "спускает".
- А у вас есть компьютер с играми? - недоверчиво спрашивает она.
- Есть.
- А спать рано не заставите ложиться?
- Не заставим.
- А если на второй год останусь...
- Переживём.
- Ну ладно, - неохотно соглашается она наконец голосом хорошей актрисы. - Если так, то... ладно. Так уж и быть. Посмотрю на вас и ваше поведение.
- Так что: ДА? - хором спрашивают директриса и её заместительница.
- Да! - милостиво отвечает Настя, старательно отводя в сторону ликующие глаза, чтобы они не выдали её и не испортили всю игру.
Она выслушивает ряд наставлений и нравоучений от своих хозяек и спустя, кажется, целую вечность, покидает наконец детский дом - навсегда.
В первом же дворе после детдомовского к ним бросается счастливый Валька Отворуев, и они целуются все четверо, взахлёб, едва ли не со слезами, так же, как прощались клогда-то на перроне. Настя гладит их волосы, лица и твердит:
- Я ждала... я верила... я всё терпела... И слонёнок был со мной. Они мне его оставили. Подарили.
Она плачет и смеётся, а голубое небо над ней похоже на огромную вазу, где огненная роза-солнце: и от него можно зажечь тысячи свечей живым и умершим.
Настя оказывается на руках у Жана-Сабита. Валька сжимет её пальцы, где-то рядом смеётся Таня, а ей представляется деревня. Густой малинник. Мама, такая же маленькая, как когда-то Настя, собирает ягоды с бабой Ниной, и нет никакой тюрьмы. Есть зной, аромат хвойного леса... И большой лось, внимательно глядящий на ребёнка с берестяным кузовочком в руках. И ноги лося, как стволы молодых деревьев...
К О Н Е Ц
Октябрь 1988 - март 1999 гг.
© Copyright:
Кира Велигина, 2011
Свидетельство о публикации №211020301208

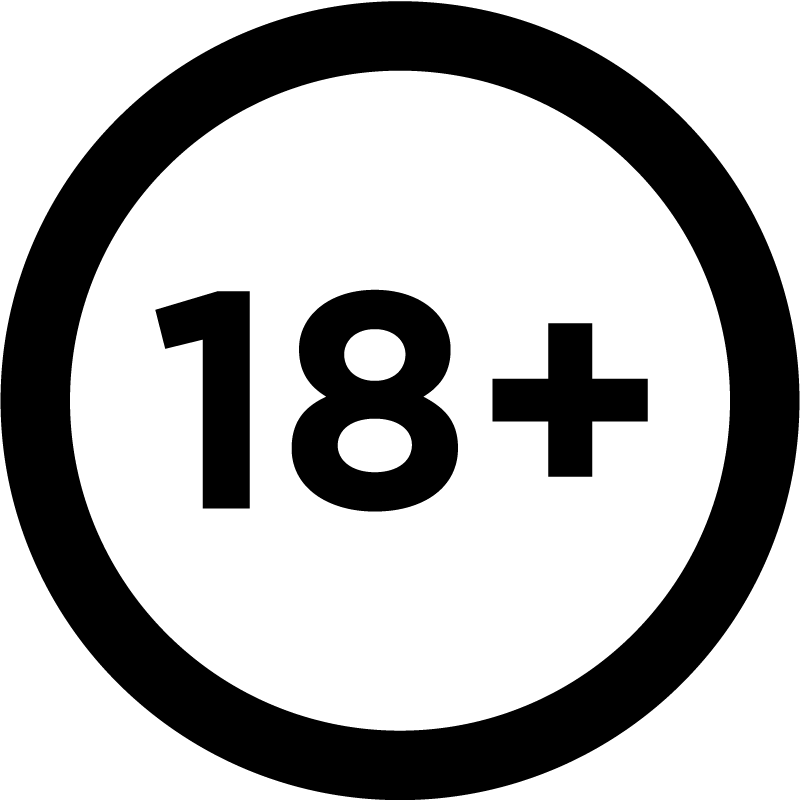 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

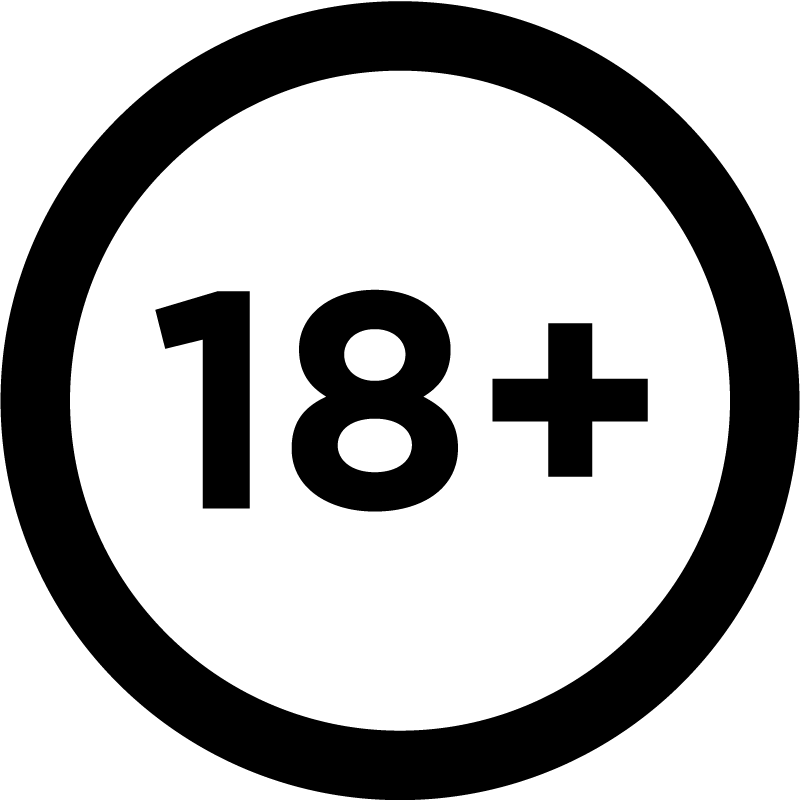 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.