Глава 9.
Когда Катя была молодой, самым шикарным автомобилем считалась «Волга». На белых «Волгах» ездили офицеры, прослужившие пять лет в Германии, на черных – работники горкома. На «Жигулях» пятой модели – передовики производства и спекулянты. Передовики производства – все как на подбор – были старыми, толстыми и возили в своих машинах исключительно жен и детей. Спекулянты… С одним из них Катя даже познакомилась – благодаря Лильке, с которой спорила о смысле жизни. К восемнадцати годам смысл Лилькиной жизни сосредоточился вокруг джинсов, джинсовых юбок, а джинсовое платье – застежка спереди! – так просто сияло непостижимым и недостижимым смыслом всей жизни. Катя такие мечты несколько презирала. Честно говоря, ей не шли джинсы – слишком тонкая талия, слишком пышная попка, но Лилька оставалась ее лучшей подругой. Она и познакомила Катю с молодым и вполне преуспевающим человеком – продавцом в салоне звукозаписи. Знакомство ограничилось двумя свиданиями. Кате понравился и автомобиль, и его хозяин, но… против выступила Катина мама: какой позор! дочке из семьи офицера встречаться со спекулянтом! И ему Катя в принципе понравилась, и он готов был – в разумных пределах – катать ее на своей машине, кормить мороженым и впоследствии обязательно жениться – это Катя поняла даже в восемнадцать, но он был неспособен на безумства любви, о которых мечтала Катя. Он спокойно воспринял Катин отказ и стал катать на машине другую девушку, доказав, тем самым, что никакой он не принц и не дотягивает до Катиной мечты. Фу…
Шли годы. Катины требования к владельцам красивых и быстрых автомобилей постепенно снижались и в конце концов свелись только к автомобилю, точнее, к его наличию. Зато требования владельцев к Кате неожиданно возросли (90-60-90, английский язык, высшее образование) и последние двадцать лет она довольствовалась общественным транспортом. Конечно, Катя не раз воображала, как однажды возле нее остановится роскошный автомобиль – признаться, она питала слабость к джипам на высоких колесах, блестящим и мощным, – как распахнется дверца, и…
«Скажите, нам по пути?» – спросит он. «Не знаю», – ответит она, внимательно вглядываясь в его зеленые глаза. В Катиных мечтах его глаза всегда были зелеными, волосы – каштановыми, ресницы – густыми и длинными – с шелковым отливом.
И когда Катя закрывала его глаза своими ладошками, эти ресницы щекотались, как бабочка. В этом месте Катя закрывала своими ладонями свои глаза и слушала, закусив губы, как скребутся о пальцы ее собственные ресницы. (Свою грудь она гладила редко, а промежность – почти никогда).
И вот машина ее мечты притормозила аккурат возле Кати. Катя обрадовалась, что согреется, сэкономит деньги, и юркнула в теплый салон.
– Спасибо, – поблагодарила Катя, откидываясь на мягком сиденье.
В салоне играла музыка – что-то, низкоголосое, французское, и привычная грусть замурлыкала в Катином сердце. Если бы судьба вдруг приняла облик человека, все видящего и все понимающего, она, несомненно, улыбнулась бы, глядя на печальное Катино лицо. Катя лелеяла грусть, как композитор – минорное трезвучие, – легкий диссонанс затертой мечты и ее воплощения, а со стороны казалось, будто на Катиных плечах лежат все горести мира.
Женщина за рулем не годилась на роль судьбы, она была всего лишь чиновницей и поверила Кате. Ее грусти. Ее способности понять чужую печаль. Она затормозила у поворота на шоссе и, уронив хорошо прокрашенную голову на руль, тихо заплакала. Катя сидела молча и думала, что, пожалуй, еще нескоро попадет домой. Женщина перестала плакать. Ее лицо и грим слегка побледнели, но глаза смотрели жестко.
– Пообедаем вместе? – спросила она Катю тоном, полностью исключающим отказ.
– Я не голодна, – Катя хлопнула два раза некрашеными ресницами и поджала плечи.
– Ты же ничего не ела, я видела, – с укором отозвалась женщина.
– Но… – Катя огляделась по сторонам в поисках аргументов, – мы совсем не знакомы.
– Оно и лучше, – ответила женщина – Кате и. по-видимому, себе, и потянулась к ключу зажигания.
Заурчал мотор, машина рванула с места и понеслась по пригородному шоссе. Катя смотрела на знакомую дорогу, ощущая – каждой клеточкой спины, что едет не в старом автобусе, а в новом автомобиле. Садясь в пригородный автобус, Катя первым делом открывала заветную дверцу – превращалась… на тихом часе в детском саду – в Василису Прекрасную, попавшую в плен к фашистам, повзрослев – в пятом классе по дороге из школы – в подружку д`Артаньяна, в четырнадцать – спасала Овода из крепости, а в новейшие времена, трясясь в автобусе – обедала с Биллом Гейтсом в парижском ресторане и так, незаметно, оказывалась возле небольшого переулка, ведущего прямиком – через балочку – к сумасшедшему дому.
В новейшее время Катя мечтала не только в автобусе, но и когда шила, готовила, вязала – сосредоточенно, размеренно, машинально. Давным-давно она выделила небольшую часть сознания – для внешнего пользования – и отгородила ее – крепкой стеной – от остальной Кати. Конечно, в стене имелись ворота, а порой так они даже открывались – послать подкрепление сражающимся войскам… с годами этот маневр повторялся все реже – Катя оттачивала навыки обращения с оружием и совершенствовала тактическое мастерство. Но иногда реальность так настойчиво болталась у нее под ногами, что Катя – волей-неволей – обращала на нее внимание, и ей, Кате, а не реальности, приходилось непросто! Мечтать о Париже? Легко – если едешь в пригородном автобусе в психиатричку: вот паспортный стол, вот заграничный паспорт (смешные деньги, месяц ожидания), добро пожаловать в турбюро – путевка, Шенгенская виза на три недели, рубли на евро, билет – поездом до Берлина двое суток в спальном вагоне… «Если бы я не развелась (дальше следовало про квартиру), обязательно съездила бы в Париж», – думала Катя. И такие мысли позволяли не обращать внимания – на соседей по автобусу и пейзаж за его окном.
Но в автомобиле, может быть, произведенном в самом Париже (Катя не разбиралась в автомобилестроении)… очень ясно становилось: Париж… Парижа не будет – и точка! Подумаешь, беда! Подумаешь, Париж… В этом автомобиле… Катя чувствовала себя тем, кем всегда являлась окружающим – жалкой уборщицей с незадавшейся личной жизнью. А Катя – она не боялась этого чувства – твердо знала: большие мысли уравнивают ее с владельцем самого разрекламированного – в перерывах ток-шоу – автомобиля, целого парка автомобилей, флотилии яхт, квартала небоскребов… Но! – при этом она должна была бы чувствовать себя так, как если бы ехала в автобусе или стояла на остановке, то есть не видеть мягкие сиденья, норковую шубу, вытянувшегося – при въезде в город – милиционера, не вдыхать – с замиранием сердца – запах чужих духов… Катя глазела на все это, обоняла и терялась в догадках… словом, вела себя как настоящая уборщица. И можно было бы придти в отчаяние – можно, но… она и для таких случаев выработала специальный прием.
Все просто. Катя воображала, что она режиссер и объясняет оператору, как нужно снимать сцену, чтобы зритель почувствовал разницу – между Катей в автобусе и Катей в чужом автомобиле. «Когда Катя едет в больницу, – здесь режиссер взмахнул руками и неторопливо – со знанием дела – обрисовал большой, основательный, уютный такой шарик (камера смотрит на дорогу сверху – сквозь легкую дымку – не слишком пристально и совсем не грустно). – А на обратном пути… – теперь режиссер задумался и поднес указательный палец к губам (камера бросает взгляд снизу). – Снизу! Снизу, – режиссер несколько раз протыкает пальцем воздух, указывая направление, – вверх! И выпукло – внимание к мелочам! – мелочи… Крупным планом! Смотрите, вот автобусная остановка. Автобус останавливается, и Катя рассеянно следит за бабушкой. Бабушка неповоротливая, пыхтит, водитель ждет, двери хлопают… Катя разглядывает облака – все как всегда. А вот обратный путь. Машина на огромной скорости проносится мимо остановки, – веер грязной воды из-под колес. И Катя – неожиданно пристально – вглядывается в серые фигуры под облезлым навесом – те же бабушки. Но машина-то не тормозит! – дайте зрителю почувствовать это! Может, еще какой-то контраст, например, застиранный халат на заднем сиденье (чиновница надевала его в больнице), рядом изящная сумочка… Или глаза – Катины и той женщины – за рулем…»
– Приехали, – женщина в строгом черном платье — прост покрой да не прост – и почти незаметной норке («А снег-то уже стаял», – зачем-то подумала Катя), – сняла ногу с тормоза и бросила руль, – как перчатки на полочку в прихожей. – Поговорим?
Ресторан назывался «Славянская беседа», и Катя читала – в городской газете, что здесь даже жареные лягушачьи лапки подают. Катя еще не вышла из роли режиссера и еще диктовала оператору: «Пусть зритель почувствует разочарование героини, пусть он – за время пути – переберет с полдюжины вариантов развития сюжета. Пусть он вообразит, что женщина привезет Катю к себе домой – в роскошный особняк, пригласит пожить у нее – помочь по хозяйству. И пусть зритель нафантазирует, как Катя закрутит роман с ее мужем… И вдруг развязка – ресторанчик под промозглым весенним небом». Катя вышла из машины, толкнула дверь и начала озираться, чтобы было потом о чем рассказать Светлане – в смысле интерьера, обслуживания и кухни…
Когда в декабре – в разгар трезвой жизни - Серега затеял ремонт, Света притащила на работу целый ворох глянцевых журналов и усиленно совала их под нос Кате, чтобы та помогла в оформлении интерьера, помогла сделать выбор, точнее, одобрила выбор Светланы. И Катя с удовольствием ей подыгрывала: «Замечательно! Восхитительно! Очень красиво!» Кажется, владелец престижного ресторана рассматривал те же журналы. Катя с удовольствием – будет чем порадовать Светочку! – узнавала арку, окошко в стене, украшенную лампочками корягу в фаянсовом кувшине… даже папки с меню в этом ресторане были из похожего кожзаменителя!
Только и разница с Катиной забегаловкой – официантки в форме, ну и цены, конечно…
– Выбирай, – женщина подтолкнула к Кате тяжелую синюю папку.
Катя послушно открыла… Меню предлагало, сулило, заманивало… красивыми словами, за которыми скрывались все те же куски свинины, копченой курицы, мелко искрошенные грибы и огуречные пластинки, закрученные розочкой. И Катина возня – в маленькой узкой кухоньке между плитой и фритюрницей – вдруг предстала в самом романтическом свете. Катя читала названия закусок, салатов, горячих блюд… читала и воображала, как повар мелко крошит ветчину, не забывая отбросить кусочек в сторону, как ловко трет сыр, как насыпает слоями в стеклянные – под хрусталь – салатницы, сыр и ветчину, перемежая их майонезом и зеленью, как… Катя даже улыбнулась смущенно – ощутила тайную связь с незнакомым ей поваром и заранее простила все его уловки.
Женщина поняла Катину улыбку иначе.
– Не смущайся, Катюша, я своему аналитику за час болтовни больше плачу. Мальчишка! – закончила она с неожиданным раздражением.
Катя думала: эта вот женщина, несомненно, урывает кусочек из городского бюджета с той же ловкостью, с какой повар урывает кусочек мяса из ее салата, но если ей об этом рассказать, она, несомненно, возмутится и потребует наказать повара. Но еще больше она возмутится, если Катя укажет ей на ее непоследовательность. Впрочем, ничего подобного Катя делать не собиралась, – она снова обрела свои большие мысли – и стала самой собой – слегка снисходительной и очень равнодушной. Катя скучала.
– Ну, за маму, – сказала женщина, когда на столе появились графинчик с водкой и закуска, – пусть земля ей будет пухом.
Катя кивнула и опрокинула рюмку.
– Вот ты, Катя, говорят, святая… – Женщина ковырнула вилкой салат и криво усмехнулась.
Катя пожала плечами.
– Говорят, ухаживала за чужой старушкой, как за родной матерью. – Женщина подцепила кусочек огурца и отправила его в рот.
– Она мне наследство оставила, – Кате совсем не нравилась роль святой.
– Тогда, конечно, тогда, да… – Женщина успокоилась и следующую ложку салата проглотила намного быстрее. – Нравится?
– Нормально, – согласилась Катя, с трудом удерживаясь от зевоты.
– Ты меня, конечно, знаешь?
– Знаю.
– Ничего-то ты не знаешь! – Женщина обхватила голову руками. – Наливай!
Катя налила – женщине, решив, что та не обратит внимания на ее пустую рюмку, – и не ошиблась.
– За мою маму! – Женщина повторила тост и отправила в рот следующую порцию салата. – Моя мама, – женщина вытерла рот рукой, забыв о салфетках и носовом платке, – не узнавала меня последние пять лет, называла «та женщина», понимаешь? Мой муж… мой сын… мои внуки… ну, это другая история… Моя мать умерла в день моего рождения.
– Грустно, – вставила Катя.
– Грустно? – Женщина подняла на Катю расплывшийся взгляд, попробовала собраться, махнула рукой и снова уставилась в стол. – Я ремонт три месяца делала, мебель переменила, банкет заказала, платье сшила, а она взяла – и померла… утром. Сегодня сорок дней, – добавила женщина и налила себе третью рюмку.
Катя подумала, что банкет можно было использовать и для поминок.
– Я похоронила ее за три часа до прихода гостей, – женщина снова вытерла рот рукой, – всего несколько звонков… Она жила не в больнице, а в отдельном доме со специальной женщиной, – пояснила чиновница (зачем?), – умерла тихо во сне… Формальности – минимальные… Я похоронила мать, а вечером – отпраздновала день рождения.
Принесли горячее. Катя взяла в руки нож и вилку, разрезала мясо. Пахло недурно, – аромат чеснока с миндалем легким пассажем взвился над солидным мясным аккордом. Катя положила мясо в рот и удовлетворенно кивнула – повар недаром слыл мастером, будет о чем рассказать Светлане...
– Ну… – чиновница прервала Катину дегустацию, – что скажешь?
– Удобно, – сказала Катя, – когда можно позвонить и все устроить. Я с Афанасьевной два дня мучилась, хотя тоже формальности минимальные…
– Так ты меня не осуждаешь? – Женщина наконец-то сумела сфокусировать взгляд и посмотрела Кате в глаза.
– Мне все равно, – честно ответила Катя. – А почему вы мучаетесь?
– Так об этом на работе узнали и… – женщина отодвинула салат и ткнула вилкой в мясо, – шепчутся, шепчутся, шепчутся… за моей спиной, а в глаза – улыбаются, умильно заглядывают: «Елизавета Андреевна, а как Ваша мама себя чувствует?» – и ждут.
– А вы? – Катя отрезала следующий кусок.
– Что я! – Женщина бросила вилку с насажанным на нее куском мяса в тарелку, мелкие жирные брызги оросили белую скатерть. – Я бормочу что-то невнятное и устраиваю поминки в психушке.
– Так устройте их в своем особняке. Скажите, что выполняли последнюю волю матушки, а теперь, как любящая дочь… и расплачьтесь. Да закуски побольше – и выпивки…
– Не могу, – казалось, женщина заплачет прямо сейчас, не дожидаясь специально приглашенных гостей, – боюсь.
– А говорить мне «ты» – не боитесь? – Катя встала – разговор окончательно наскучил, а самому шикарному обеду в ресторане она всегда предпочитала сосиски – с пивом и кетчупом – на диване перед телевизором.
– Да как ты?..
– Прощай! – бросила Катя и с удовольствием хлопнула тяжелой входной дверью.
«Теперь, согласно сценарию, мне полагается навестить собственную мать», – подумала Катя уже на улице, застегивая куртку и натягивая перчатки. Рядом мерз автомобиль Елизаветы Андреевны. Катя пнула колесо, мстя автомобилю за свой собственный восторг, и отправилась вверх по улице, внимательно вглядываясь в номера маршруток.
«А все же забавно, – улыбнулась Катя уже в теплом салоне автобуса, – я не могу с помощью нескольких телефонных звонков похоронить свою мать в день ее смерти и – избавлена от соблазна».
Глава 10.
Каждую весну Катина мама чинила постельное белье. Катя смутно помнила, как этот процесс происходил тридцать, двадцать, даже десять лет назад, но в последние годы именно она – Катя, а не мама – накладывала латки на простыни и возвращала пуговицы наволочкам, а мама рассказывала об этом своим подругам – по телефону.
«Нет, я не могу сегодня, – щебетала мама высоким и удивительно молодым голосом, – ты знаешь, я каждую весну достаю постельное белье, все, до единой простыни (ленивая Катя, чтоб не тянутся за ножницами, откусывала нитку), пересматриваю (Катя, вздыхая, поднималась с кресла – без ножниц не обойтись!) и каждую дырочку заштуковываю (Катя аккуратно подсовывала кусок простыни под лапку швейной машинки) – латки накладываю (Катя опускала лапку и нежно дотрагивалась до ручки - поворот, другой, лапка начинала танцевать, втягивая в движение неуклюжую поначалу простыню, а ритм задавала Катя – правой рукой: раз, два три! раз, два, три!) и белье как новенькое!»
Белье и вправду становилось если не новеньким, то аккуратно заштопанным, радовало маму и поддерживало Катину репутацию – хорошей дочери. Катя шила в зале. Собственно говоря, она могла бы шить и на кухне, и в маленькой комнатке, но в зале работал телевизор – в унисон со швейной машинкой, а кроме того, в зале – на диване – лежала мама и можно было убить двух зайцев сразу: починить белье и поговорить с мамой. Разговоры с мамой были важной обязанностью любящей дочери, и Катя предпочитала комбинировать ее с другими – для экономии времени. К тому же телевизор служил Кате подспорьем и помощником, снабжая темами для беседы.
Сегодня по телевизору – в дневном эфире – показывали сериал про бравых парней в камуфляже. Они ловко стреляли, дрались и виртуозно водили машину, спасая хороших героев и наказывая плохих. Плохие тоже стреляли, дрались и крутили руль, но чуть хуже, не так ловко – и проигрывали. Зато все плохие, как на подбор, были красавцами – с длинными волосами, демоническим взглядом и дурными манерами – и очень нравились Кате. Хорошие спасали женщину-мэра, на которую плохиши устраивали покушения. Покушение за покушением – и все неудачные. Мама болела за хорошистов, а Катя думала – о сегодняшнем разговоре. Настоящая, а не киношная чиновница не боялась покушения, она боялась разговоров, которые вели за ее спиной подчиненные. Причем разговоры эти велись не о коррупции вовсе, а о безобидном и совершенно частном поступке… да, было о чем задуматься.
«Ну и работка у ребят!» – воскликнула мама. Катя подняла взгляд от простыни и покосилась на экран. Бравый спецназовец палил из автомата по зарослям камыша, в которых прятался проклятый киллер. «Да, уж», – согласилась она с мамой, а сама подумала, что в их городе мэра убили совсем не так драматично: возле плохо освещенного подъезда, из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. И никаких спецназовцев рядом не было, только шофер, немолодой и тучный. Шофер даже не понял, что случилось, подумал: шефу сердце прихватило, – вышел из машины и тоже попал под пулю… И эта женщина – из мэрии – ездит себе без всякой охраны и боится сплетен, хотя, если разобраться, ни убийцу, ни заказчика ведь так и не нашли… А взять главного экономиста, проживавшего в мамином доме… Стукнули гирькой по башке, затащили в ванну, пытали, пытали… всю квартиру перевернули, ничего не взяли, убили и… И Катя поняла, что сценарии для сериалов не из жизни вовсе берутся, а из представлений о ней, и чем представление от жизни дальше, тем сценарий – интереснее… Катя не успела углубиться в мысль – мама подала следующую реплику:
– Вот и выйди замуж за такого, – (мама имела в виду спецназовца). Чуть что не так, в морду бьет…
Мамина реплика столкнулась с Катиной мыслью и столкнула мысль с прямой и хорошо накатанной дороги – насчет вещей и их идей. Катя подумала о себе. Ее покойный муж не служил в спецназе. Он скромно заведовал складом парашютно-десантной службы авиационного полка. И в первую чеченскую войну возил раненых – на вертолете. Спасателей сопровождали ребята из спецназа, прикрывали, когда нужно было забрать раненого летчика из вражеского тыла. Эти ребята поведали мужу много забавных историй.
– Знаешь, как пленных чеченцев допрашивают? – интересовался муж у Кати.
– Ну, – Катя вспоминала школьные рассказы о партизанах, которым злые фашисты загоняли иголки под ногти.
– Берут напильник и точат передние верхние зубы, – ухмылялся муж.
Катин рот наполнялся слюной, почему-то – кислой, муж делал очередной глоток водки из граненого стакана. Катя мечтала, муж спивался, а мама, глядя в телеэкран, видела бравых спецназовцев и никак не соотносила их с непутевым зятем.
Мама была уверена, что зятя отправили на пенсию, едва он выслужил срок (год за полтора) по причине его беспробудного пьянства. Мама ошибалась. За пьянство из армии еще никого не выгоняли. Катиного мужа выгнали за торговлю оружием. За руку не поймали, но Катя-то знала… Конечно, он не был оружейным бароном, торговал по мелочи. То патроны к Калашникову привезет для бывшего командира полка. Тот, выйдя в отставку, завел пару бензоколонок, патроны в таком бизнесе – вещь необходимая. Еще муж снабжал местных рыбаков взрывчаткой. Иногда он привозил ручные гранаты и хранил их в ящике для картошки (запалы отдельно), иногда… Про эти «иногда» он Кате ничего не говорил, сама догадалась. Его начальник возил оружие ящиками, содержал две семьи: жена, любовница… Катя с мужем копили на квартиру. И только успели разменять однокомнатную клетушку на подержанную трехкомнатную хрущовку, как начальник попался – с поличным. Под суд его не отдали, отправили в отставку. И принялись за мужа. Устроили ревизию на складе. Ничего не нашли: ни оружия, ни хищений. Не досчитались двух шприц-тюбиков с промедолом из аварийной аптечки. Однажды у мужа заболели зубы, он и воспользовался. Но нужно же было хоть за что-то зацепиться! Мужа даже в отставку не отправляли, предложили сдать склад и идти «на бетон» обслуживать самолеты. Но он обиделся: «Суки! Из-за двух тюбиков промедола!» Порывался гранату в штаб кинуть. Катя остановила: «Да наплюй ты на них! Неужели не проживем?» Прожили. Недолго. Муж запил, не так, как раньше, когда он напивался по праздникам, по поводам и при встрече с друзьями – запил капитально, беспробудно, ежедневно. То ли от обиды, то ли от чувства вины, то ли от безысходности. Муж всегда отличался практичностью: даже когда ему предложили медаль за чеченскую компанию, он предпочел повышение в звании, из прапорщика превратился в старшего прапорщика, - зарплата больше. И пайковые, как Катя шутила – на банку тушенки. А ведь медаль предлагали не за просто так. За настоящий бой. Спасательный вертолет отправился к месту падения самолета, самолет лежал на нашей территории, полетели без прикрытия. Нарвались на засаду. И муж, хоть и спасатель, не растерялся, открыл ответный огонь. Вернулись без потерь, даже печальный груз сумели вывезти. «Я потом фельдшера всю ночь водкой отпаивал», - рассказывал муж, совсем не похожий на героя боевика. И Катина мысль, сделав небольшой зигзаг – завиток, загогулину, вернулась к началу пути – несоответствию между реальной жизнью и ее отражением в искусстве.
«Тогда зачем мы смотрим телевизор и читаем книги? – думала Катя, пока ее мама болтала с подругой по телефону, – если все равно ничего из прочитанного или увиденного не можем использовать – в реальной жизни?» Тут Катя сделала небольшую паузу и небольшую отметочку – на полях своих рассуждений – о том, что глянцевые журналы потому и популярны, что создают иллюзию: «Как встретить мужчину своей мечты и удержать его…» Но бог с ней, с макулатурой, зачем мы читаем, тратя уйму сил и времени, так называемые шедевры? «Для удовольствия, надо полагать», – решила Катя. Но тогда… Катя вспомнила про крыс, которым – исключительно с научными целями – вживляют в мозг электрические контакты и учат замыкать цепь. Ток проходит через центр удовольствия, и бедная крыса, сообразив, как жать на педаль, жмет и жмет… жмет и жмет, пока не умирает от истощения – счастливой. И подумала Катя, что стоит ей раскрыть книгу, как она…
– На сегодня все, – Катя оборвала нить – вместе с мыслью – и освободила простыню из-под лапки.
Простыня взмахнула заштопанными крыльями и сложилась вчетверо, а Катя принялась складывать швейную машинку.
– Кофейку?
Дежурный вопрос – по давно заведенной традиции они и кофе выпьют, и несколько шоколадных конфет съедят, и поговорят… И тема разговора известна: мамины вопросы – Катины ответы… Порой Катя удивлялась: неужели мать совсем не помнит, что рассказывала все свои истории не десять, не сто – несколько тысяч раз! – с теми же интонациями и в том же порядке, и неужели она действительно думает, что Кате интересно ее слушать – снова и снова – три десятка лет подряд? Мама рассказывала свои истории, и каждый раз получалась, что она – самая красивая («Я красавицей никогда не была, куда только мужики смотрели?»), самая умная («Меня не проведешь!»), самая удачливая («Мне всегда везло на хороших людей!»). Мамины подруги – близкие и дальние – верили. Не верила только Катя – из-за какого-то неведомого ей самой морального дефекта. Не верила и с каждым маминым словом чувствовала, как злоба – темной шерстяной ниткой – из сердца! – скручивается в клубок. И за долгие годы их родственных отношений этих клубков накопилось!.. Хватит не на одну тысячу крепких и теплых носков, свитеров и шарфиков.
Мама уложила простыни в шкаф и оттуда же – из шкафа – вытащила початую коробку конфет. А Катя – на кухне – поставила чайник на плиту. Движения все знакомые, как и звук маминого голоса из комнаты, как рисунок обоев на стенах, не изменившийся за последние двадцать лет, только потускневший и потерявший позолоту. Эти обои привез из Москвы Катин брат, когда ездил в столицу на зимние каникулы в классе, кажется шестом… или седьмом? Катя поймала себя на мысли, что совершенно этого не помнит. А ведь во время этой поездки она потеряла девственность. На том самом диване, что по сей день стоит в гостиной – рядом со столиком для телефона. Катя оглянулась назад – в прошлое и на плиту – не закипел ли чайник? Чайник пыхтел, а прошлое отодвинулось – фильм окончен, зрители – на выход. Катя вздохнула и выключила под чайником газ. Ей не нравилось кино о прошлом – четкие черно-белые кадры в тревожно ускоренном темпе. Фильмы о будущем – яркие и расплывчатые – сулили счастье, несмотря на голос рассудка: «Тебе уже сорок, а ни семьи, ни приличной работы…» Голос очень походил на мамин, а не слышать – слушать себе дороже! - мамин голос Катя научилась очень-очень давно. Так давно, что даже фильм об этом где-то затерялся – на дальних и пыльных полках.
Когда ты меня покрасишь?
Такие конкретные вопросы Катя воспринимала хорошо. Она посмотрела на белеющую мамину макушку, сверилась с графиком своей работы и уверенно ответила:
– В понедельник, в двенадцать.
– Не забыть бы, – заволновалась мама.
– Я позвоню, напомню, – успокоила Катя.
Мама и Катя поменялись местами. Раньше Катя сидела на кухне, подставив маме свои густые и длинные волосы, а мама сооружала из них сложную прическу – два валика над ушами переходят в косы и тщательно укладываются на затылке. Прическа держалась целый день и подходила к созданному мамой облику – интеллигентная девушка из интеллигентной семьи. Этот образ очень нравился маме и ее подругам, но не Кате – неудобная одежда, неудобная обувь, неудобная прическа и очень неудобные манеры… Сыновьям маминых подруг этот образ тоже не нравился, и они были слишком молоды, чтобы различать образ и Катю. Мужчины постарше были проницательнее, но… Вот именно – интеллигентная девушка из интеллигентной семьи не встречается со зрелыми и женатыми мужчинами. Так Катя и простояла молодость – у стены – в длинной юбке, на высоких каблуках, со старомодной прической…
Катя встряхнула головой и улыбнулась:
– Спасибо, мамочка, но мне пора.
– Уже?
– Надо еще пол в мастерской помыть, – объяснила Катя, торопливо споласкивая чашки.
Это она ошиблась, это она не подумала. И пока она вытирала чашки, ставила их на место и натягивала в прихожей помятенький, но такой удобный пуховик, она слышала – никак не могла не слышать! – мамины сетования: «Когда же ты, наконец, найдешь себе приличную работу!»
– Спокойной ночи, мамочка, до понедельника! – И Катя чмокнула мать в щеку – прямо посреди обличающей фразы. – Папе привет! – уже на лестнице.
Катя быстро пробежала пять этажей и перевела дух только на крыльце. На небе уже горели звезды – куда ярче, чем скупые фонари. Несмотря на легкий мороз, притормозивший таянье сугробов, ощутимо пахло весной. Катя сунула руки в карманы и, слегка согнувшись, отправилась домой. Она соврала – пол в мастерской был чист. Она соврала и ничуть об этом не беспокоилась – дышала часто и глубоко – до головокружения, избавляясь от запахов родного дома. Уфф…
«Интересно, – Катя снова включила свой внутренний диалог, примолкший во время чаепития, и включила на полную громкость, - зачем я хожу туда и слушаю все эти глупости?» Хороший вопрос. Вот только ответ на него где-то потерялся. Обвинений в неблагодарности Катя не боялась. Она и в самом деле была неблагодарной дочерью, так как не чувствовала никакой благодарности – ни за свое появление на свет, ни за свое счастливое детство. (А детство было счастливым – без кавычек!) Не боялась Катя и дурного примера для своего сына: «Как ты поступишь со своими родителями, так и твои дети поступят с тобой – в старости». Даже мобилизовав все свое воображение, Катя не могла представить, чтобы сын красил ее седую макушку, штопал ее простыни или стирал ее носки… Наследство? Ну, это просто смешно… Старенькая квартирка – пополам с братом. И лицемерить еще лет двадцать! Хватит с нее Афанасьевны… Нет, из-за наследства Катя не стала бы терпеть так долго – смертельную скуку. Тогда почему? Катя даже остановилась. Посмотрела на звезды – молчат, мерцают. Слежавшийся снег поскрипывает под подошвами. И… и нет родителей. В смысле, Катя не навещает их дважды в неделю, не слушает мамины разглагольствования и не отвечает на папины вопросы – о сыне и его успехах в учебе… Катя живет себе своей жизнью, тихо-мирно… И тут Катя ощутила странную пустоту внутри. Не то чтобы она стала совсем пустой, нет. Дыра возникла лишь в том месте, где располагались родители и все, что с ними связано. В Катином мире возникла дыра, пустота, воронка… Словно упала полка, доверху нагруженная ненужными вещами, и в шкафу воцарился хаос. Придется вытаскивать полки, заново вкручивать шурупы, устанавливать полки, разбирать сваленные в кучу простыни, платья, полотенца и, пардон, нижнее белье… И тащить узлы на помойку… После каждой уборки неведомо откуда появляются тюки ненужных вещей. И пока Катя досадовала на некстати упавшую полку, кусочки цветного стекла – мозаика ее мира – сыпались и сыпались вниз, обнажая шершавую штукатурку…
Катя замерзла, прибавила шагу. Она не хотела додумывать мысли о родителях. Визит окончен, Катя может вернуться к себе – в уютную пустую квартирку, в тишину и теплый воздух маленьких комнат. И ощутить – до краев – свое одиночество, когда нельзя прижаться щекой к шершавому, слегка отдающему табаком свитеру и… и сказать, наконец, ту большую мысль, что совсем недавно возникла в Катиной голове… «Знаешь, – сказала бы Катя, вернувшись домой (если бы было кому сказать), – вместо того, чтобы изучать темную сторону Добра, люди почему-то увлеклись разглядыванием светлой стороны Зла. Неужели они не видят разницы?»
В квартире все было так, как представляла Катя, плюс мягкое урчание холодильника. Катя подошла к его белой дверце, открыла, достала из правого нижнего угла бутылку вина, наполнила чайную чашку и уселась перед телевизором – с романом Джейн Остен на коленях. Вино, как и книга по психологии, быстро превратило большую мысль во что-то теплое, уютное и ручное… во что-то, чем можно укрыть ноги, что можно подсунуть под голову и нежно погладить… Катина душа замурлыкала, засыпая. И уже задремав, Катя вспомнила Зойку, завершающую каждый день изрядной порцией спиртного. Катя усмехнулась, ощутив свое родство с ней.
Глава 11.
Наверное, Зойка тоже что-то почувствовала, потому что у Кати зазвонил мобильный телефон. Катя вздрогнула, открыла глаза – зеленые цифры, парящие в темноте над телевизором, равнодушно свидетельствовали: половина второго – ночи. Растревоженная, рассерженная Катя поползла на звук, отыскала мобильник, нажала на кнопку. «Да, слушаю…» - Катин голос был сонным и вовсе недружелюбным. Но Зойка плевала на оттенки и интонации. «Катя! – пьяно всхлипывала Зойка. Катя попробовала представить, где Зойка находится и во что одета, представить, как тушь стекает по ее щекам, но не сумела. – Катя! Меня уволили! Все, я больше не работаю! Если бы ты видела, что произошло, ты бы меня поддержала!» – «Я тебя поддерживаю, – ответила Катя. Ее голос уже сочился сочувствием, как калорифер – теплом. – Приходи ко мне». Пожалуй, последняя фраза прозвучала чуточку обреченно… провести ночь, утешая Зойку – брр… Но дружба обязывает. И хотя Катя не испытывала особой привязанности к Зойке, но Зойка Катю любила, и Катя покорно несла возложенное на нее бремя чужой любви. Зойка всхлипнула в последний раз: «Иду», – и отключилась. Катя зевнула, потянулась, надела халат и отправилась на кухню – ставить чайник: изощренная месть, между прочим, ведь Зойка, конечно же, предпочла бы горячительные напитки – горячим.
И пусть Кате не особенно – да что там, будем откровенны! – совсем не хотелось слушать пьяную Зойкину болтовню, она уже назвалась груздем, и теперь оставалось лишь пожинать плоды – неосторожности?.. неосознанной вины за вмешательство в Зойкину любовь?.. приверженности представлениям о дружбе? Пока Катя искала ответы, ее руки и ноги, ее полноватое, избалованное жирной пищей и лежанием на диване тело совершили множество движений, независимых от головы и сердца, томящегося ожиданием скуки. Когда Катя очнулась от раздумья, она уже ставила чайник на плиту – второй раз за день. Катя очнулась – пояс, стягивающий халат и талию, развязался и упал на пол. Халат распахнулся, Катина кожа, лишенная теплого кокона, заворчала, забила тревогу и послала сигнал Катиной голове – Катя вздрогнула, подняла пояс и заново перевязала халат.
Этот халат достался ей от мамы – добротный, теплый и очень крепкий, сшитый из махровых полотенец. Он много лет прослужил маме, пока та не располнела и не купила себе новый – красивый, турецкий. А старый халат перешел на службу к Кате, как и покрывало на диване, занавески в кухне, столовые тарелки… и даже этот умиротворенно сопящий чайник. Мама считала его очень неудобным, а Кате находила вполне приемлемым. В своей жизни Катя использовала столько маминых вещей, что мама уверилась: Катя – вместе с вещами – использует и ее, мамины, представления о них. Если мама читала Кате лекции о стирке и хранении мохеровых кофточек и Катя слушала, то почему мама не могла учить Катю любви, счастью и правильной жизни? Мама тоже умела мыслить по аналогии… и видела – не могла не видеть! – как неудачно распоряжается Катя красивыми, удобными, не раз выручавшими маму представлениями и образами их общего – в этом мама не сомневалась – мира, будто лишенная вкуса женщина подбирает шарфики к пиджакам и пальто… Ведь из-за Катиной скрытности мама ничегошеньки не знает о мире, где темная сторона добра вовсе не равна светлой стороне зла… (Тут Катя вспомнила красивое выражение: «Данные матрицы не являются коммутирующими» – выражение из мира высшей математики, ее сына и Вернера Гейзенберга).
Позвонили в дверь. Так тихо, что Катя удивилась неожиданной Зойкиной деликатности и побежала в коридор. На лестничной площадке, тем временем, раздался новый звук – кто-то сердито гремел замками и – Катя готова была поклясться! – чертыхался. Она распахнула дверь: Зойка спьяну перепутала двери и разбудила не только Катю, но и голубоглазого толстяка Женечку. Тот стоял на пороге своей квартиры в широких и длинных трусах и застиранной майке с выцветшим Микки-Маусом на груди, босиком, сонно щурился и позволил Кате в деталях разглядеть свой круглый живот и тонкие ноги.
–Извините, – пробормотала Катя, давясь от смеха, и втащила Зойку в свою квартиру.
– Катечка, – простонала незадачливая Зойка и рухнула в ее объятия.
Женечка еще похлопал короткими и редкими ресницами, но тут Катя захлопнула дверь и потеряла его из вида.
Зойка выглядела в полном соответствии с Катиными представлениями: маленькая, взъерошенная и пьяная. Размазывая тушь по щекам, она рыдала – на кухне возле теплой батареи. Катя, запахнув халат, слушала, кивала головой, подливала Зойке чай, поглаживала ее по плечам и всем своим видом выражала сочувствие. Из несвязных Зойкиных выкриков Катя составила связный рассказ и теперь терпеливо ждала, когда Зойка успокоится и ее можно будет уложить спать – на старенький диванчик возле телевизора. И еще Катя думала – с тоской, что, если Зойка и в самом деле уволится, то придется ей, Кате, выходить завтра на работу, а ведь завтра – суббота – день, когда приезжает сын и они подолгу сидят на кухне и разговаривают – обо всем на свете. И еще, если Зойка уволится, то неизвестно сколько времени Катя проработает без выходных – пока там Серега не найдет новую дуру на Зойкино место. И еще – нового человека придется долго вводить в курс дела, рассказывать обо всех уловках, и неизвестно, кто попадется, может, такая зараза! Катя не была готова к переменам. А Зойка? И Катя постаралась повернуть ситуацию к своей выгоде.
– Серега, конечно, козел, – согласилась она – в очередной раз.
Да и как не козел – конечно козел! Серега всегда становился козлом, когда входил в запой или выходил из запоя. На этот раз вхождение в запой совпало с приходом новенькой официантки, и Серега решил за ней поухаживать. Зойка, считавшая пьяного хозяина своей законной добычей, терпеть не стала и устроила скандал: назвала Серегу сволочью неблагодарной, получила в ответ оплеуху, бросила ключи от закусочной на пол, выпила бутылку водки в каморке у сторожа и отправилась искать сочувствия – у Кати. Кате сочувствия было не жалко – жалко времени, и она – из дружеских побуждений! – постаралась наставить Зойку на путь истинный.
– Зоя, – мягко сказала Катя (когда основной поток слез и проклятий утих, и на щеках остались лишь маленькие редкие капли, светло-серые, почти прозрачные – тушь на ресницах тоже закончилась), – Зоенька, а, может, обойдется. Подумай сама, такое место у тебя хорошее: и сыта, и денежка в кармане. А Серега... да куда он от тебя денется? Вот увидишь, проспится и ни о чем не вспомнит. А ты, главное, помалкивай на работе и никуда не лезь. Да хрен с ними, с его бабами, деньги дороже…
Зойка задумалась. То ли водка из головы повыветрилась, то ли Катя нужные слова нашла, но увольняться Зойке расхотелось – снова начинать с трех тысяч?
– А как же ключ! Я ж его бросила! – вполне по-деловому спросила она.
– Придешь завтра на работу, – сказала Катя как о чем-то само собой разумеющемся – пораньше. И, пока Светка не появилась, она же всегда опаздывает – не преминула подколоть подругу Катя, - тихонечко извинишься перед Серегой и спрячешься за мойку. И сиди там тихо, как мышь. А если Серега мне позвонит, я скажу, что у меня температура тридцать девять, горло болит, и я никак, ну никак не могу выйти на работу. А там он окончательно запьет, и все забудется. Все утрясется, в конце концов.
– Спасибо, – с благодарностью всхлипнула Зойка, – ты настоящая подруга. Не то что Светка! Она, стерва, радовалась, я видела…
– Да бог с ней, – успокоила Катя – и погладила Зойку по плечам. – Пусть – куда мы без нее.
– Эх, Катя! – Зойка, сидя на стуле, обхватила стоящую рядом Катю обеими руками. – Какой он все-таки козел!
– Все мужики – козлы, – Катя охотно распространила частное Зойкино определение на всю мужскую популяцию, опустила Зойкины руки на стол и отправилась стелить постель. Третий час – самое время спать
Но Зойка спать не хотела, для нее три часа ночи – время веселья, время, отданное друзьям – по бутылке и приключениям. Зойка должна была пить, говорить и… И она никак не хотела укладываться на узенький Катин диванчик. А у Кати не было сил выслушивать – снова и снова – историю Зойкиной любви. Но, наверное, там, на небесах, или еще в каком месте, где пишутся книги человеческих судеб, Катин ангел сжалился над ней: поспешил на помощь. В Катину дверь снова позвонили, недоумевающая Катя распахнула ее и – удивилась – который раз за день? – голубоглазому Женечке. Одет, причесан, смущен:
– Добрый вечер.
– Ночь, – не очень-то приветливо ответила Катя.
– Завтра суббота, – поспешил оправдаться Женечка. – Не спится, и я подумал: а не выпить ли мне с девочками? – И он вытащил из-за спины левую руку – с бутылкой шампанского.
Катя чуть не застонала, однако не успела захлопнуть перед Женечкой дверь – из кухни выплыла Зойка:
– Заходи!
– Я легла в три ночи, – взмолилась Катя. – Я встала в семь утра! Я весь день прокрутилась как белка в колесе! Я спать хочу!
Зойка растерянно захлопала свежеподкрашенными ресницами – успела обновить макияж, пока Катя возилась с простынями. И Женька – в порыве неожиданного вдохновения – нашел выход:
– Тогда, может, ко мне? – И посмотрел на Зойку, чуть не подмигнул!
- Женя, – Катя торопливо представила соседа, боясь поверить в близкое освобождение. «Очень милый мужчина, холостой…», – шепнула она прямо в ухо Зойке.
Но для Зойки куда важнее, чем Женькин статус, было шампанское в его руках.
- Зоя, – ответила она, забирая бутылку. – А закусывать чем будем?
– Так у меня… – Женечка махнул рукой в сторону своей квартиры, – все есть!
– Иди, Зоенька, отвлекись немножко, – подтолкнула подругу Катя.
Зойка и не нуждалась в подобном поощрении. Окинув соседа более или менее внимательным взглядом, она двинулась к двери, Женька пропустил ее и шмыгнул следом. Катя еще постояла немного – из вежливости, дождалась, пока в соседней квартире щелкнет замок, выключатель и кнопка на магнитофоне, прикрыла дверь, на цыпочках вернулась в спальню, сбросила халат, вычеркнула Женьку из списка кандидатов в мужья, раскрыла роман Джейн Остен и отправилась гулять по английским газонам…
Довольно долго она кружила по узким дорожкам, прислушиваясь к скрипу песка под тонкими подошвами туфель. Потом вернулась в гостиную – как раз в тот момент, когда туда вошел Эдвард Феррарс делать предложение Элеоноре Дешвуд. А бедняжка Элеонора, уверенная, что ее избранник женился на другой, все ниже склонялась над вышиванием, опасаясь выдать свои чувства. Катя улыбнулась в предвкушении счастливого конца – она не в первый раз читала эту книгу, а ее сердце мучительно сжалось – совсем как у Элеоноры. Катя на мгновение закрыла книгу и глаза, наслаждаясь сладким ужасом, пока герои героически соблюдали приличия: вставали, садились, осведомлялись о здоровье близких – после короткого разговора о погоде… Катя любила романы Джейн Остен – за тонкость чувств, изящество манер и твердость нравственных принципов – за все, чего недоставало в ее реальной жизни. Реальной? Катя выпрямилась, забыв о книге и равномерном скрипе, доносящемся из-за стены – Зойка не теряла времени даром! Катя увидела прошедший день – череду миров, сквозь которые она проходила, словно сквозь комнаты: психиатрическая больница, ресторан, стены маминой кухни – в потертой позолоте воспоминаний, взрывы на экране и взрывы в памяти, пьяная Зойка, а где-то на горизонте – пропахшее табаком и жиром кафе, английские лужайки… В каком из этих миров она действительно живет? А где – всего лишь случайная гостья? И Кате показалось: ответь она на этот вопрос, и навсегда – до конца дней и того, что бывает после, – будет жить в этом мире, пусть ограниченном, но надежном. И сама станет – настоящей Катей, тоже ограниченной, но понятной окружающим – и самой себе. Стоит только выбрать, и все! – будет в порядке. Катя даже застонала – от усилия, завернулась в одеяло и сделала несколько шагов по спальне.
– Не бойся, Катя, - торопливо зашептал в ухо мамин голос, – у тебя все получится, только…
– Не в психиатрическую больницу? – усмехнулась Катя.
Мама смутилась и замолчала. И кровать за стеной – умолкла.
– А зря, – вздохнула Катя – то ли в мамину сторону, то ли просто так. – В психушке Бог живет. Правда, к приезду высоких гостей его прячут, напугать боятся…
Никто Кате не ответил, никто – в целом мире – ее не услышал, и лишь глубоко под корой старой акации, задумчиво глядящей в Катины окна, шевельнулся в деревянных жилах сок – и пришла весна. Пришла и шепнула: «Ничего, Катюша, все уладится, только подожди – еще немного, совсем чуть-чуть».
Глава 12.
Чего Катя не любила, так это ждать. Она никогда не приезжала на вокзал раньше, чем за пять минут до отхода поезда, разве что в детстве, когда к поезду ее везли родители, которые вечно боялись опоздать. Катя ненавидела очереди. В пору своей молодости (ранней? первой?) она ненавидела очереди еще и потому, что вынуждена была в них стоять. Как правило, очередь – килограмм колбасы, полкило сыра в одни руки – тянулась полтора-два часа, а детективов в ярких и мягких обложках тогда еще не печатали. Это сейчас их жарят как чипсы и упаковывают как прокладки, а тогда… скучнейшие романы Дюма-отца были величайшим дефицитом. Хорошо, что в те времена ее мама работала в милиции и могла доставать кой-какой дефицит, и хорошо, что когда-то – в ранней юности (своей, не Катиной) – мама, приехавшая из глухой деревни в большой город, случайно познакомилась с девушкой из еврейской семьи, у которой было много книг… хотя красивые платья мама любила несколько больше (просто у нее их никогда не было - добросовестно поправлялась Катя), но и книги – в маминых глазах – стали одним из непременных атрибутов культурной – городской! – жизни. Так что Катя имела несчастье пристраститься к чтению еще в раннем детстве и, выйдя замуж и зажив своим домом, она больше всего тосковала по книгам, а еще – по возможности свободно распоряжаться своими мыслями и временем. Эта тоска с особой силой охватывала ее в очередях. Как хранительница семейного очага Катя должна была кормить мужа и терпеливо дожидалась счастливого момента, когда хамоватая продавщица кинет в ее сторону два свертка, - успеть схватить, а то задние уведут, и скандала не миновать! Она приходила домой разбитая, измочаленная очередными скандалами и валилась на диван – дожидаться мужа. Она грустно следила за часовой стрелкой: еще пять минут можно спокойненько полежать, а потом чистить картошку. Муж приходил как раз к тому времени, когда Катина голова немного освобождалась от визгливых старушечьих голосов, приходил и включал свой голос – быстрый мальчишеский фальцет, периодически переходящий в писк. Катя быстро поняла, что ее муж попросту очень глуп. Поняла. Но вместо того, чтобы развестись, – забеременела.
Теперь муж был мертв, а Катя ждала сына из университета – каждую субботу. Но это было совсем другое ожидание. Во-первых, в субботу Катя категорически не работала. Каждую субботу она просыпалась в хорошем настроении, независимо от приключившихся накануне неприятностей. Просыпалась, правда, поздно – сын приезжал во второй половине дня и времени у Кати было предостаточно, но всегда с улыбкой. «Доброе утро, Катя», – говорила она себе и потягивалась – большим, побелевшим за зиму телом – доброе утро! Она была счастлива весь день. И с каждой минутой ожидания ощущение счастья лишь нарастало и достигало вершины (пика!) в половине четвертого, когда раздавался звонок в дверь – сын! Но счастье не кончалось и с его приходом, оно даже не шло на убыль, оно становилось немножко другим – мягким, ласковым и теплым, как плед, в который Катя куталась зимними вечерами.
– Привет, – говорила Катя, распахивая двери, первую, обитую дерматином, и вторую, железную.
– Здравствуй, мама, – отвечал сын – бледным отражением ее восторга – и входил в прихожую.
Катя со счастливой улыбкой смотрела, как сын расшнуровывает покрытые пылью (или грязью – в зависимости от времени года) ботинки. Она брала его рюкзачок и несла в его комнату. «Привез белье в стирку?», – обязательно спрашивала она. «Угу», – гудел сзади сын. Катя доставала из рюкзачка пакет с грязным бельем (даже запах его грязных носков доставлял ей удовольствие!) и складывала белье в стиральную машину. «Вымой обувь» – тоже традиционная фраза. И сын тащил пыльные ботинки в ванную и мыл их над раковиной, потом ставил на батарею в кухне. Катя так любила сына, что с удовольствием вымыла бы его ботинки, но ее удерживал здравый смысл. Здравый смысл удерживал ее и от чтения записочек, обнаруженных в карманах, и от проверки его мобильника, подаренного на день рождения, и от еженедельных визитов в общежитие. «Ты, мам, больше ко мне не езди, – сказал ей сын на зимних каникулах, – я уже привык». И Катя послушалась: «Хорошо, сыночка». В благодарность судьба преподнесла ей подарок: если в первом семестре у сына в субботу было четыре пары, то во втором – только две. И он стал приезжать домой сразу после обеда – в три часа дня. Так что Катя едва-едва успевала пробежаться по комнатам с пылесосом и нажарить любимых сыном оладушек – пухленьких, румяненьких…
– Сметана, варенье, мед? – весело спрашивала она голодного сына, с трудом удерживаясь, чтобы не погладить его по встрепанным волосам.
Сын ел, отвечал на Катины вопросы. Иногда – охотно, иногда – лишь бы отделаться. Катя не обижалась. Слишком часто ей самой приходилось отвечать на ненужные вопросы, и она прекрасно понимала, какая это докука – родительская любовь. Поэтому она умолкала и просто смотрела, как ее сын кушает и думает какие-то свои мысли, изредка улыбаясь – не ей, а тому, что происходит с мыслями после обдумывания. Когда сын улыбался – вот так, в никуда, он становился похож на ангела, несмотря на мальчишеский аппетит и прыщавость. Он ел, потом мыл за собой посуду, потом шел к себе в комнату, раскладывал на столе учебники…
– Ты сейчас помоешься или один посидишь? – спрашивала Катя сына.
– Помоюсь, – отвечал сын (или «посижу»).
Кате было достаточно, что он дома, здесь, рядом, за стенкой. Достаточно слышать шум воды в ванной, обрывки его разговоров по телефону. Достаточно, чтобы быть счастливой. Если сын вначале отправлялся в ванную, Катя заходила к нему в комнату, перебирала листы бумаги на его столе, сплошь заполненные формулами. Не то чтобы эти формулы были ей совсем уж непонятны, все-таки она окончила технический вуз, но для Кати они так и остались закорючками, не имеющими никакой связи с реальностью. С ними можно было производить всевозможные манипуляции, чтобы получить положительную оценку на экзамене – и только. Эти же знаки, черточки, перевернутые треугольнички, латинские буквы – все эти интегралы-производные – были для сына самой настоящей реальностью.
Катя понимала сына – не умом, а тем неясным чувством, что заставляло ее предпочитать реальности мир печатных текстов, которые ведь только черные закорючки на белой бумаге. Но, если Катя разводила мир, предстающий со страниц любимых книг, и мир, данный ей, так сказать, в ощущениях, по разные стороны баррикады, а сама – на баррикаде – отбивала атаки сразу с двух сторон, то для сына реальный мир, полный случайностей и безалаберности, был лишь бледным отражением стройного и четкого мира формул, и сын, управляясь с формулами – по строго установленным законам, в какой-то мере создавал и тот реальный мир, в котором жил сам. Ему очень не нравилось жить в общежитии, и он стремился как можно лучше орудовать формулами – чтобы сделать научное открытие, получить Нобелевскую премию и зажить в отдельной квартире, а не в комнате с двумя другими студентами. Вот.
Сегодня сын первым делом пошел в свою комнату, прихватив с собой телефонную трубку. Он звонил своей бывшей однокласснице. Катя не подслушивала. Сын никогда не закрывал дверь в свою комнату. Он удивительным образом сочетал в себе стремление к уединению со страхом закрытых помещений. Сын говорил об энтропии Вселенной – Катя улыбалась – сын думал о том, как спасти человечество. «Нужно построить космический корабль, который движется со скоростью света, и полететь в центр черной дыры, тогда мы сможем оказаться в другой Вселенной», – объяснял он с энтузиазмом. Катя улыбалась все шире и шире. Для сына черная дыра и полет к ней были такими же привычными вещами, как для Кати – поход в магазин. А когда – месяц назад – сына вызывали в военкомат, и он вернулся оттуда, ворча на напрасно потерянное время – пропустил лабораторную работу, Катя захотела выяснить, что же для сына значит Родина, которую он – по определению – должен защищать. Катя с удивлением поняла, что слово-то такое сын знает, но что оно значит – не имеет представления.
– О чем ты думаешь, когда говорят «Родина»?
Сын пожал плечами.
– А у тебя есть какое-нибудь любимое место? – Катя вспомнила детскую песенку о березках во дворе.
– Да, – ответил сын.
- И что это?
– Звезды.
Катя вздохнула: человеку, родина которого – звезды, трудно объяснить необходимость армии и неизбежность войн здесь – на Земле, ведь из математических формул ничего такого не следует…
Катя вздохнула и отправилась на кухню – жарить оладьи для сына. И думать большие мысли – про войну. Про ее смыслы и символы. Кефир, яйца, мука, сода – противоречия, непонимание, ненависть. Ах, да! – политические интересы, государственная необходимость. Патриотизм! Грязь, кровь и голод. Беспробудное пьянство – после победы. Примерно так представляла себе Катя причины и последствия всех человеческих войн, мучительно ощущая неполноту и неполноценность своих представлений. Катя никогда не была на войне. А все, что знала, приходило к ней через рассказы очевидцев, через вторые или третьи руки - секонд-хендом реальности. Муж говорил о войне, как о работе, неприятной, конечно, вроде забойщика скота на мясокомбинате, но делать-то надо. Никакой ненависти к врагам он не испытывал. Даже выпил за упокой души Дудаева. И Катя с ним. «А ты хочешь снова в Чечню?» - спросила мужа хорошо поддатая Катя. «Хоть сейчас», - ответил муж, хрустя огурцом. Катя удивилась – пальба из автомата не доставляла мужу особенной радости и вдруг... «Там все понятно, - объяснил муж (ну, эту фразу она слышала и читала раз сто, оказалось – правда), - знаешь, что делать, а здесь…, - и он махнул рукой в сторону военного аэродрома, - что ни день, то приказ, один дурнее другого, скорей бы на пенсию». Насчет глупых приказов Катя согласилась, и у нее на заводе несообразностей хватало – хоть юмористический журнал издавай. «Как можно высотомер разобрать, промыть, отремонтировать, собрать и настроить за четыре часа? – интересовалась она у мужа, словно это муж составлял технологические карты ремонта. – Да не один высотомер, - добавляла Катя, - все четыре. Все четыре высотомера, что стоят на самолете. Представляешь?» И тоже хрустела огурцом – словно лозунги выкрикивала в знак протеста. Муж представлял: у него тоже имелся высотомер, маленький, как наручные часы, Катя подарила на день рождения, собрала из списанных деталей. Муж… Да, бог с ним, с мужем. И муж – дурак, и война у него – дурацкая.
Но ведь была и другая война. Настоящая. У Кати на той войне погиб дед – со стороны отца. И четверо дядьев. А второй дед вернулся живым, но израненным – с половиной легкого, не мог толком дышать. Этого деда Катя помнила, немного, но все же: высокий худой старик в пижаме машет рукой с больничного крыльца. Мама рассказывала – а в те дни Катя внимательно слушала мамины рассказы, занимательные, как книги или фильмы про разведчиков – что, вернувшись с войны, дед роздал свои награды детям, вместо игрушек. «И когда он умер, - говорила мама, - нечего было нести перед гробом. И приехавшие на похороны однополчане сняли каждый по награде и положили на красные подушечки». В мамином голосе звенела гордость – туго натянутой струной. И Катя, которую по малолетству на похороны не взяли, вытягивалась в струнку, словно отдавала последние почести покойнику.
Взрослая Катя про деда не вспоминала – то ли был, то ли не был – истертым фотоснимком в семейном альбоме, который показывают разве что гостям: «А это мой дедушка…» Дед давно превратился в символ, иллюстрацию больших Катиных мыслей.
«История, - думала Катя, - штука субъективная, вроде зеркала». И хотя Катя жарила оладьи и никакого зеркала перед собой не видела, но без труда вообразила, как смотрит в зеркало утром – брр…, глаза бы не глядели, - и перед тем, как отправиться в театр, - а мы не так уж и плохи! И хотя зеркало отражает Катю и Катю, но до чего разная получается картинка! Так и история: навели глянец – красотка! – смыли косметику… уродина! Вопрос лишь в том, кто косметолог и для каких целей он бедолагу-историю разукрашивает. Вот Катина мама, например, то представляет своего отца (Катиного деда) героем:
Из рассказов Катиной мамы про Катиного деда:
«В начале войны бежали в атаку: один с винтовкой, а двое – с палками. «Бежишь и смотришь по сторонам, чтобы первым винтовку схватить, если кого-нибудь убьют».
«Мы бежим и бежим (в смысле отступаем), а по радио кричат: «Победа будет за вами!» А она и точно – все время за нами тащится, надоело, развернулись…»
«Пошли в разведку за языком. Ползем обратно, я рукой впереди щупаю, а там труп, старый, уже разжижаться начал, и я в эту жижу рукой. Потом я руку и мылом тер, и спиртом, и над огнем держал, воняет трупом и все! Кушать не мог, ребята меня с ложечки три дня кормили».
И про то, как дед выскочил из блиндажа за собакой. Пожалел глупую, что металась от воронки к воронке. А в блиндаж угодила бомба. И про то, как дед шел с правой стороны от командира полка, а замполит – с левой, и упал снаряд, и просвистел осколок, и снесло командиру голову, а он – без головы! – сделал еще несколько шагов. И про то, как топили трупами в заметенной снегом бесконечной степи, потому что ни кусочка дерева невозможно было найти на десятки километров вокруг. «Брали, конечно, немцев, но если немцев не хватало…» И про то, как в День Победы дед запирался в хате, ставил на стол литровую бутыль самогона и пил в одиночку: «За тебя, Василь, за тебя, Петро…»
И всякий раз мама смахивала слезу со щеки, и голос у нее лез вверх, и спицы в руках звенели раза в два быстрее. Обычно, такие разговоры начинались, когда по телевизору показывали фильм про войну. И тогда мама, и Катя вместе с ней, как бы сливалась в один быстрый и могучий поток, несущийся из глубины веков в неизменно светлое будущее: жертвы в прошлом во имя настоящего.
Но часто, - ведь настоящее ничем особенным не радовало: больные суставы, неустроенная дочка с неустроенной личной жизнью, сын, который зачем-то развелся и теперь… вечная грызня с мужем и т.д. и т.п., текущий кран в ванной (на самом деле никто не знал – почему, это Катя так объясняла), - мама заводила совсем другой разговор, в котором дед выступал в роли если не злодея, то тирана и самодура.
Больной дед, страдая и задыхаясь по ночам, требовал холодной и чистой, только что из колодца, воды. «Однажды я крутила ворот и задремала, железный ворот вырвался из рук и ударил меня по голове. Кровь льется, я реву, забегаю в хату, а отец мне кулаком в морду как заедет! Я обратно во двор, вытащила ведро, напоила его и под одеяло. Плачу и боюсь, что услышит…». «Отец франтоватый был, любил порядок, если зайдет во двор, а двор не выметен, так и огреет кнутом вдоль спины…» И про то, как дед гулял с другими женщинами и обижал бабушку. И как мама, сидя на корточках за хатой – в отхожем месте – просила бога наказать его, чтобы он не избивал бабушку, а дед подошел сзади и пнул маму в спину, и она уткнулась носом прямо в говно… И мама снова всхлипывала, и шевелила спицами, и Катя – долгие годы – чувствовала себя очень, очень – бесконечно – виноватой, потому что ничем не утешила и не порадовала свою мать после всех перенесенных ей страданий… А мама любой разговор неизменно сводила к одной теме: к своему голодному детству и нищей юности, и Катя…
В этом месте Катя, снявшая последний оладушек со сковороды, поймала себя на том, что поступает в точности, как ее мама. Хоть и не жалуется вслух, а сводит свои размышления к одной и той же – неизменной – теме: она и ее мама.
Катя рассердилась, положила на тарелку три – подумала – пять оладушков, ложку сметаны и ложку варенья, крикнула сыну, что все готово, и он может идти ужинать, взяла тарелку и устроилась на диване перед телевизором, щелкнула пультом, убрала громкость и продолжила думать об истории. Об Истории, и о Войне, а не о своих детских обидах – она не такая!
Война – думала Катя – страшная штука (банальность, но надо же с чего-то начать). И не только потому, что жертвы и разрушения. Война лишает человека, любого человека, старого, молодого, плохого, хорошего, мужчину, женщину, даже младенца возможности прожить свою личную, ему одному принадлежащую жизнь. Все оказываются вырванными из привычного течения жизни, когда одни будни сменяются другими, а потом праздник, согласно календарю. Всех захватывает огромная, неподвластная воле и разуму сила, перемалывает и выплевывает прочь. И война уже закончилась, но идея Войны и Победы продолжает жить. И Катя вспомнила, как ребенком она смотрела телевизор в День Победы. Вместе с мамой и папой. И когда передавали Минуту Молчания и на фоне вечного огня всплывали цифры потерь, понесенных в войне разными странами, она презирала англичан и американцев с их жалкими (в триста и сто тысяч человек) потерями и гордилась своими!!! – двадцатью миллионами.
И взрослая Катя, макающая оладьи в сметану и облизывающая жирные пальцы на диване перед телевизором, эта взрослая Катя никак не могла связать свою маленькую серенькую жизнь с потоками крови, пролитыми за ее свободу и счастье. Уж слишком велика цена за возможность обжираться во время рекламной паузы. И если бы Катю спросили, хочет ли она платить такую цену, она, как ни боялась смерти, скорее всего, из простой порядочности, ответила бы, что нет, не хочет. «Ведь не все ли равно, - ответила бы Катя, - в какой стране вести бессмысленную жизнь: в свободной или не очень?» Но Катю никто не спрашивал, ни ее, ни ее маму, ни миллионы других людей. И выходило, что война велась не для них, не для людей и человеческого счастья, а для каких-то других, неведомых целей, которых люди понять не могли, а чтобы не так страшно было жить, не понимая, придумали объяснения: противоречия, государственные интересы, патриотизм… А на самом деле… И получалось, что войну (все войны) вел Бог (или боги), и древние греки об этом догадывались, а просвещенные европейцы – нет. И разводили руками, и не понимали, как одни люди могут загонять других в газовые камеры, и… «И зачем Ему это надо?» - подумала Катя. Потом вспомнила, что не верит в Бога, отнесла на кухню грязную тарелку, включила телевизор погромче и взялась за спицы.

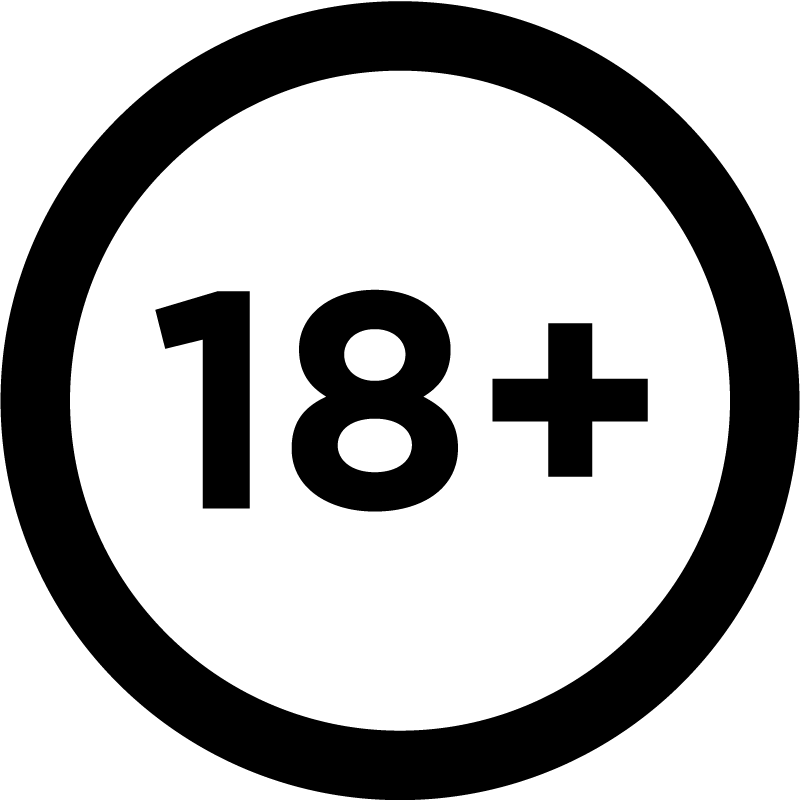 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.